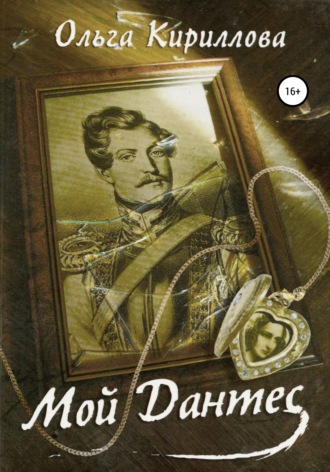
Полная версия
Мой Дантес
Видимо, старику изрядно поднадоело мое молчаливое изучение его персоны. Он зябко поежился, поморщился, сплюнул, поскреб затылок, приподняв шапку-ушанку, оглянулся по сторонам и, не обнаружив ничего подозрительного, что могло служить мне поддержкой, вновь в упор уставился на меня:
– Ну, что, оценила гардеробчик? Не рассчитывай, не продам.
– Почему? – неожиданно для себя (к чему мне его гардеробчик?) обиженно брякнула я.
Старик ухмыльнулся, достал из-за уха сигарету, покрутил ее, оторвал фильтр, прикурил и только тогда сквозь зубы, но беззлобно спросил:
– Кто тебя воспитывал, дочка?
– Мама… – растерянно произнесла я.
– Плохо воспитывала.
– Почему? – вновь обиделась я, силясь понять, отчего наш ниоткуда взявшийся разговор превратился в диалог учителя и школяра.
Старик, конечно, мог преподавать, хотя бы в прошлом. Но я на роль девочки в школьной форме никак не тянула – мне уже стукнуло тридцать пять. А посему и ясли, и школа, и институт давно остались позади.
Я честно прошла все свои университеты и считалась вполне образованным и воспитанным человеком. Но старик, видно, думал иначе.
– Не умеешь ты отвечать на вопросы, дочка, – ласково пожурил меня он, ни капли не конфузясь. – Я ведь не внешность мою просил тебя изучать. Я спросил, что ты делаешь у витрины?
Ну, мужик, – подумала я, накаляясь внутренне. – Сам напросился. Моему терпению пришел конец. Сейчас я отвечу, и ты отстанешь. Потому что отвечу я так, что тебе сказать будет нечего!
– Извините за бестактность, – учтиво начала я, и даже шаркнула ножкой, для пущей убедительности. – Дело в том, что у витрины я занималась наукой. А точнее: с помощью следа птичьего помета на стекле, носового платка и пары плевков пыталась доказать миру свою теорию относительности.
Выслушав столь сложную тираду, старик секунду помолчал, пристально глядя в глаза, подошел поближе, наклонился к моему уху и доверительно сообщил:
– Ну и дура ты, дочка!
И добавил, чуть понизив голос:
– До СВОИХ теорий тебе еще расти и расти, да жаль только времени нету. Плюнь на все. Лучше купи мне ботинки!
Открыв рот от столь неожиданной просьбы и секунду поколебавшись, ведь времени действительно оставалось мало, я махнула рукой, плюнула на все, в том числе и на птичью «визитку», и решительно направилась к двери универмага. Старик засеменил рядом:
– Ты куда, девонька?
– На кудыкину гору, – огрызнулась я. – В обувной отдел, за ботинками!
Старик радостно закудахтал, но тут же отрицательно замотал головой:
– Не-е-е… Там дорого! Там итальянские, австрийские да еще Бог знает какие.
– Ну и что? – я расстегнула куртку, с трудом вытянула из внутреннего кармана солидный бумажник и многозначительно поводила им перед носом старика. – Моя кубышка, дед, выдержит и итальянские, и австрийские, и французские башмаки. Вместе взятые. Гулять, так гулять. Пошли!
– Не-е-е… – снова заупрямился старик. – Иностранные колодки к русской пятке не приладишь. Мне их сроду не растоптать, только волдыри наживу. Давай что попроще, а?
– Давай, – не очень охотно согласилась я, но аргументы старика звучали убедительно. – Куда прикажете идти?
– Тут рыночек есть, неподалеку, – засуетился старик. – За углом. Мы скоренько. Несколько минуточек и ботиночки наши.
Несколько минуточек, – тоскливо размышляла я, шагая за стариком. – Это для тебя, дед, прогулка по рынку – несколько минуточек, а для меня – последние капли. Ведь жить осталось всего три дня. Хотя, – я приподняла рукав куртки и посмотрела на циферблат часов. – Уже не три, а два с половиной…
Дед ловко пробирался сквозь толпу, шустро орудуя локтями. Время от времени он оглядывался, проверяя, не улизнула ли его благодетельница. Убедившись, что я покорно плетусь следом, улыбался во весь свой щербатый рот, и с задорным возгласом «Эх!» вновь ввинчивался в толпу.
Выкрикнув в пятый раз «Эх!», дед затормозил у прилавка-раскладушки, на которой рядком стояли грязно-серые войлочные ботинки. А я-то думала, что подобного уже не выпускают. Надо же!
– Вот эта обувка по мне! – довольно крякнул старик, быстро ощупывая пару за парой. – Почем торгуешь, милая?
– Да за стольник любые бери, – безразлично отмахнулась продавщица, на лице которой своей какой-то отдельной жизнью существовали совершенно не подходившие ей излишне полные губы.
– За сто-о-ольник? – дед недоверчиво поцокал языком и повернулся ко мне. – Ну, как, потянем, доча?
– Потянем, – солидно ответила я, расстегивая бумажник.
– А ну, постой-ка! – Теплая морщинистая ладонь старика накрыла мои руки. – О! Гляди-ка! С брачком!
Из ряда войлочных шедевров отечественной обувной промышленности он прытко вытянул пару башмаков и сунул их под нос продавщицы.
– Меченые!
– Делов-то! – отмахнулась толстогубая тетка. – Мокрой тряпочкой с порошком потереть и следа не останется.
– Э-э-э, милая, – сладко пропел дед. – Эта метка так просто не сойдет. Птичий помет едкий. В войлок вгрызается не хуже моли.
И только тут я поняла, о каком браке талдычит старик – на грязно-сером мохнатом носке ботинка красовалось бледно-желтое пятно. Птичья «визитка». Третья!
Пока дед втолковывал продавщице ядовитые свойства помета и особенности борьбы с ним, я мысленно пыталась убедить себя, что все это ерунда, нельзя зацикливаться на каком-то дерьме. Но сквозь пелену трезвой мысли, как муха сквозь паутину, упорно выползали слова «Знак! Это знак свыше!»
«Фу ты, черт! Ерунда какая-то! Неужели становлюсь суеверной? Так и сдвинутся недолго, все крутится возле цифры три».
Я с силой замотала головой, стараясь вытрясти из себя бредово-мистическую ахинею. Ведь и в церкви-то по-настоящему никогда не была. Заходила лишь в старинные католические соборы, когда случалось оказаться за границей. Восхищалась резьбой, витражами, причудливым убранством храмов как обычный турист. Правда, была крещена. Бабка по отцовской линии изловчилась-таки, и тайком от родителей снесла меня в младенчестве в деревенскую церквушку.
Так отчего же ползет изнутри вся эта бредятина? Может, и дед мне послан свыше? И почему я вопреки твердому правилу держаться в стороне от попрошаек, вдруг расщедрилась и поплелась за стариком на рынок?..
Сентябрь 1994 года
После памятного совещания на кухне родители пришли к совершенно непредсказуемому для меня выводу. Они постановили – дитя вправе заниматься тем, что душа пожелает и негоже препятствовать пытливости ума ребенка. Таким образом, путь к исследованиям был открыт.
Чуть более года я кропотливо изучала книги с заветного стеллажа библиотеки Лебедевых. За это время пройденные мною тома мало помалу превращались в ершики для мытья ведер – там и сям из них торчали закладки со сделанными мною пометками.
Вдова, хоть и качала укоризненно головой (пыль с книг стирать стало просто невозможно), но явно была довольна: девочка занята делом, не в пример подружкам, протирающим рукава курток у подъездных батарей отопления.
А девочка тем временем возьми да и влюбись. И не в какого-то там однокашника, а во вполне взрослого мужчину, вернее, в его руки.
В пятнадцать лет я неожиданно угодила в больницу. То ли переходный возраст повлиял, то ли долгое сидение за книгами и нежелание без необходимости выползать на свежий воздух, но сердце дало сбой – «зашумело».
Софья Матвеевна немедля кинулась к телефону. И следующим утром мы с мамой уже сидели в кабинете совершенно недосягаемого для простых смертных «светила», а еще через день я заняла лучшую койку – у окна – в двухместной палате кардиологического центра.
Сие обстоятельство меня ничуть не расстроило, так как в тумбочке, помимо сладостей, яблок и домашнего компота лежали три книги, которые я и собиралась прочитать, радуясь свалившейся на меня передышке. Ни тебе уроков, ни магазинов, ни грязной посуды!
С наслаждением вытянувшись на кровати, я отправила в рот долгоиграющий леденец и открыла шестой том полного собрания сочинений Пушкина под редакцией Цявловского 1938 года издания. Мне предстояло прочесть полный свод сохранившихся до нашего времени писем поэта. Ни много, ни мало – восемьсот! И никто не будет приставать с просьбами вынести мусор или сбегать в гастроном за сосисками. Никто не будет мешать. Но… Как бы не так!
– Здравствуйте, доктор! – сладенько пропела моя молчаливая доселе соседка.
Стараясь скрыть неудовольствие, я опустила книгу и с удивлением уставилась на вошедшего.
То, что врачами бывают мужчины, я в принципе знала. Не далее как позавчера меня осматривал представитель именно данной особи. Выстукивал, выслушивал, шевеля мясистыми ушами где-то на уровне моей груди и открыв взору совершенно гладкий череп. Но этот!..
Не сказать, чтобы хорош собой и молод. Возраст бродил возле тридцати, что по меркам пятнадцатилетней девочки вполне могло сойти если не за старость, то за солидность. Волосы коротко стрижены, темные глаза посажены чуть ближе, чем полагалось канонами красоты, лицо вытянуто, с твердым решительным подбородком, нос с едва заметной горбинкой. Косой сажени в плечах не наблюдалось. К тому же доктор немного сутулился. Словом, все в нем как-то недотягивало до идеала. Но вот руки!
Руки были просто потрясающими! Закатанные рукава халата позволяли видеть четко очерченные линии мышц предплечья, смуглые, покрытые ровным золотистым завихрением волосков. Кисти и пальцы поражали длиной, тонкостью и до мелочей прорисованными суставами. Казалось, каждый их нерв жил сам по себе, чутко откликаясь на малейшее движение.
Не в силах оторвать взгляда от восхитительных рук, я даже не заметила, как доктор придвинул стул к кровати, опустился на него и зашелестел страницами моей карты:
– Ну, Лизонька, давайте знакомиться. Я – Алексей Георгиевич Витковский. Ваш лечащий врач.
И только тут я сообразила, что следует закрыть рот. Мне удалось сомкнуть челюсти, придав лицу более-менее спокойное выражение, но все дальнейшее помнилось как в тумане.
На вопросы я отвечала наподобие фарфорового китайского болванчика, согласно кивая или отрицательно мотая головой. Замирала от ужаса и восторга, стоило пальцам доктора слегка коснуться моего тела, переставляя мембрану фонендоскопа. В общем, я влюбилась.
Правда любовь сия быстро исчезла, словно склеванные воробьями крошки хлеба на подоконнике, стоило мне покинуть стены клиники. Но память сердца оказалась сильнее памяти рассудка, как здраво заметил Батюшков.
Доктор Витковский канул в лету, а слабость (если так можно выразиться) к мужским рукам осталась. С тех пор, знакомясь с представителями противоположного пола, я в первую очередь обращала внимание именно на руки. Не знаю, какие формулы выстраивались в моей голове, но подобная оценка практически не давала сбоя.
Октябрь 1994 года
Совершенно естественным было то, что после больничного отдыха, едва переступив порог дома Вдовы, я опрометью бросилась к альбому, в котором видела одну из лучших репродукций портрета Пушкина кисти Кипренского. Помните? Там где поэт изображен со скрещенными на груди руками? Правда, видны лишь четыре пальца, на мой взгляд, с совершенно неподобающим мужчине маникюром.
Как отзывались о пушкинских ногтях современники, я уже знала: друзей данная деталь внешности поэта, судя по воспоминаниям, забавляла и веселила. У дам – восторга явно не вызывала.
Например, в дневнике Анны Алексеевны Олениной, попытавшейся нарисовать словесный портрет Пушкина, есть такие строки, написанные в 1828 году: «Бог, даровав ему гений единственный, не наградил его привлекательной наружностью. Лицо его было выразительно, конечно, но некоторая злоба и насмешливость затмевали тот ум, который виден был в голубых или, лучше сказать, стеклянных глазах его. Арапский профиль, заимствованный от поколения матери, не украшал лица его. Да и прибавьте к тому ужасные бакенбарды, растрепанные волосы, НОГТИ, КАК КОГТИ, маленький рост, жеманство в манерах, дерзкий взор на женщин, которых он отличал своей любовью, странность нрава природного и принужденное и неограниченное самолюбие – вот все достоинства телесные и душевные, которые свет придавал русскому поэту XIX столетия…»
Можно ли считать данное описание объективным? С этим вопросом я, как всегда, обратилась к Софье Матвеевне.
– Мнения пушкинистов на этот счет самые разные, – Вдова удобно устроилась в кресле, что обещало долгий интересный разговор. – Если помнишь, то именно Олениной Пушкин посвятил один из лучших лирических циклов.
– «Город пышный, город бедный…», «Зачем твой дивный карандаш…», «Ее глаза», – не удержавшись, перечислила я то, что с малых лет знала наизусть.
– А «Предчувствие»? – напомнила Софья Матвеевна, на что я радостно закивала головой, вызвав улыбку на лице Вдовы. – Торопыга! Лучше расскажи, что тебе известно об Анне Олениной.
– Анна Оленина… – начала я, припоминая то немногое, что удалось узнать из книг. – Она была явно не глупа, наблюдательна, начитана. Да и как иначе? Росла-то в семье, к которой с почтением относились в Петербурге. Так?
– Верно, – согласилась Софья Матвеевна.
– Судя по воспоминаниям современников, – продолжала я, вышагивая по комнате, – ее отца – президента Академии художеств и директора публичной библиотеки – все уважали.
– А Пушкин? – напомнила Вдова.
– Ну-у-у!.. – Я восторженно закатила глаза и со знанием дела сообщила. – Он такую дорожку протоптал на Фонтанку! В оленинский особняк.
Выслушав мой ответ, Вдова лукаво прищурилась:
– Ай-ай-ай! И что же его так привлекло?
Не заметив подвоха, я продолжала тарабанить, словно отличница у доски:
– В первую очередь ему нравилась теплая атмосфера дома…
– А может очарование двадцатилетней дочери хозяина? – не выдержав, перебила меня Софья Матвеевна. – Солнышко мое, ты не на уроке. Мы с тобой просто беседуем, а не обсуждаем биографию члена Политбюро ЦК КПСС. Подумай хорошенько. Александру Сергеевичу в ту пору, как ты можешь подсчитать, минуло всего лишь двадцать восемь. Он увлекся Олениной и довольно часто общался с ней. Однако мало кто серьезно воспринимает дневник Анны Алексеевны.
– И ее оценку личности великого поэта, – вставила я очередную всплывшую в памяти казенную фразу, на что Вдова болезненно сморщилась.
– Оленину обвиняют в беспомощности, в том, что она якобы не понимала и не ценила значения Пушкина. Правда, на мой взгляд, ее записи покоряют именно искренностью и непосредственностью. Ведь она доверила бумаге то, что шло от души, не задумываясь об исторической значимости своих откровений.
– Но о странностях нрава Пушкина говорили многие, не только Оленина, – осторожно заметила я.
– Ты права. К сожалению, характер поэта с годами не приобретал покладистости, – говоря это, Вдова протянула руку к стеллажу и достала одну из «ершистых» книг с моими закладками. – Перечитай письма сестры Пушкина Ольги Сергеевны или его жены Натальи Николаевны. Ты найдешь в них строки о разволновавшейся желчи, отвратительном расположении духа поэта, его гневе… Да что говорить! Вспомни, хотя бы, как описывает Пушкина Софья Карамзина.
– Вы имеете в виду вечер у Мещерских? – уточнила я. – Тот, на котором Дантес и поэт встретились незадолго до дуэли?
Вдова утвердительно кивнула:
– Карамзина тогда заметила, что Пушкин был мрачен, как ночь, угрюм и, либо молчал, либо говорил отрывисто, иронично, коротко.
– Но такое поведение почему-то насмешило Софью, – вспомнила я.
– А ты представь себе человека, который ПЫТАЕТСЯ казаться значимым или равнодушным ко всему окружающему, – улыбнулась Софья Матвеевна. – В душе одно, а на потребу толпе надобно выдать нечто иное. Девочка моя, лицедейство тоже талант, оно не каждому по силам. Неуемная игра выглядит комично.
Вдова замолчала, отведя взгляд к окну, и вдруг неожиданно рассмеялась. Я удивленно уставилась на нее.
– Пустое, – небрежно махнула рукой Софья Матвеевна. – Просто вспомнила, как однажды посетила адвокатскую контору мужа. Он тогда только возглавил ее, обзавелся собственным кабинетом, штатом сотрудников, секретаршей. И пригласил меня, видимо, как раз для того, чтобы показать свою значимость. Сидел за столом, насупив брови, вальяжно откинувшись в кресле, отдавал приказы снующим туда сюда подчиненным, отвечал на телефонные звонки, лишь изредка удостаивая меня вниманием. Был сух, строг и полон достоинства.
– А мне он всегда казался таким, – я недоуменно пожала плечами.
– Господь с тобой, Лизонька, – Вдова вновь рассмеялась. – Ты знала его, когда уж он основательно встал на ноги и считался одним из лучших адвокатов столицы. Наигранные поначалу строгость и сдержанность вошли в привычку. А по молодости он был чрезмерно открыт, мог позволить себе позвонить с работы и, не стесняясь коллег, сказать пару-тройку столь нежных слов, коих, как я считала, посторонним и слышать-то не полагалось. А что происходило с ним, стоило мне появиться в зале заседаний? В перерыве непременно подойдет, зароется губами в мои волосы и шепчет, как соскучился, и спрашивает: «Ну, как я?»
Вдова запнулась и отвернулась к окну. Затихла и я, боясь затоптать словами ту незримую тропинку, которая увела ее в прошлое.
Так, в тишине, мы провели несколько минут, но мне показалось, что за это время Софья Матвеевна заново прожила какой-то весьма значимый отрезок жизни. Словно переболела тем, что не смогла сохранить.
Она первой нарушила молчание:
– Жаль, глупая была, не ценила внимания, скупилась на похвалы. Не понимала, как важно ему мое одобрение. Видно, мужчина так уж устроен. Ему надо завоевывать женщину, поддерживать статус достойного, доказывать и ей и всем, что он состоялся. Одним это удается, с чувством собственного достоинства приходят покой, рассудительность, доброта, щедрость и понимание окружающих. Другие так до старости и играют в начальников. Или представляют себя таковыми: только пупок над столешницей поднялся, а уж распирает от собственной значимости. И сколько ни дай, все мало. Злость аж захлестывает, ведь мысль работает в одном направлении: «У конкурента лучше и больше». Происходит полная деградация личности. Смешно и грустно, правда, им невдомек. Недаром кто-то из мудрых говорил, что любящий деньги не только ненавидит врагом, но и к друзьям относится как к врагам. Но мы отвлеклись от темы. На чем остановились?
– На наблюдениях Софьи Карамзиной, – едва слышно произнесла я, пораженная откровением Вдовы.
– Да-да, – она водрузила на нос элегантные очки, поднялась с кресла и направилась к книжному шкафу. – В переписке Карамзиных можно найти массу любопытного. Например, в письме Софи от 29 декабря 1836 года есть следующие строки.
Вдова полистала книгу и разгладила страницы.
– Вот, послушай: «Пушкин продолжает вести себя самым глупым и нелепым образом, он становится похожим на тигра и скрежещет зубами всякий раз, когда заговаривает на эту тему, что он делает весьма охотно, всегда радуясь каждому новому слушателю».
– Речь, как я понимаю, идет о свадьбе Дантеса и Екатерины Гончаровой? – уточнила я.
– Да. Ее, если помнишь, объявили уже после пресловутых писем в адрес Пушкина, называвших его рогоносцем. Далее: «Надо было видеть, с какой готовностью он рассказывал моей сестре Катрин обо всех темных и наполовину воображаемых подробностях этой таинственной истории, совершенно так, как бы он рассказывал ей драму или новеллу, не имеющую к нему никакого отношения…» А чуть ниже – те самые строки, о которых мы уже говорили: «…снова начались кривляния ярости и поэтического гнева; мрачный, как ночь, нахмуренный, как Юпитер во гневе, Пушкин прерывал свое угрюмое и стеснительное молчание лишь редкими, короткими, ироническими, отрывистыми словами и время от времени демоническим смехом. Ах, смею тебя уверить, это было ужасно смешно…»
– «Это было ужасно смешно»… – задумчиво повторила я. – Вы думаете, он играл на публику?
– Тут и думать нечего. «Кривляния ярости», «поэтический гнев», радость каждому новому слушателю и манера рассказа, словно повествование драмы или новеллы…
Внезапный звонок в дверь прервал нашу беседу. Явились ученики, которых Софья Матвеевна регулярно набирала после смерти мужа, давая частные уроки русского языка и литературы.
Октябрь 1994 года
Вдова испуганно охнула и побежала в ванную – припудрить нос, а я поплелась в коридор, в очередной раз удивляясь тому, насколько трепетно Софья Матвеевна относится к мнению людей о своей внешности.
Ей неважно кто зашел: соседка ли, решившая одолжить нитки, деревенская бабка, дважды в неделю доставлявшая молочные продукты, или почтальон. Хоть сантехник! О собственных родителях и не говорю. Да я сама, проведя в квартире Лебедевых большую часть сознательной жизни, никогда не видела Вдову, пользуясь ее выражением, «неприбранной». Чего никак не могу сказать о себе.
Если я, к примеру, не собиралась выходить из дома, то могла только к вечеру вспомнить о том, что по моим кудряшкам со вчерашнего вечера не гуляла расческа. А сидя над книгой, так накручивала локоны на затылке, что они становились дыбом, отчего Софья Матвеевна приходила в неописуемый ужас.
– Как можно столь наплевательски относиться к собственной внешности, – не раз выговаривала мне Вдова. И не уставала повторять, что женщина всегда должна оставаться женщиной, даже в гробу. – Не ухоженность не эстетична для взгляда. Почему люди должны получать отрицательные эмоции от твоего неподобающего вида? Этим ты оскорбляешь не только их, но и себя.
– Вы еще скажите, что Пушкина нельзя читать в домашнем халате, – иронизировала я.
– И скажу!
– Но я же хожу на вернисажи в джинсах! – Не унималась я. – Любуюсь полотнами и получаю наслаждение, ничуть не меньшее, несмотря на то, что на мне нет вечернего платья.
Но Вдова была непреклонна.
– Нельзя воспринимать прекрасное в облике халдея.
Первое время я как-то пыталась отбиваться, ссылаясь на знакомых и их домочадцев. Мол, Таня и Маня бродят по дому в ночных сорочках, их мамы вечно «накручены на бигуди», а папа Гали вообще открывает дверь в семейных трусах, ничуть не стесняясь подруг дочери.
– Но твой папа подобного себе не позволяет, – настаивала на своем Вдова.
Что правда, то правда: даже ночью в места общего пользования мой отец отправлялся в халате, остальное время проводил в джинсах и майках, а, выходя из дома, хоть в булочную, непременно облачался в костюм. Старая закалка!
Что касается мамы, то в повседневной жизни она предпочитала классические костюмы, дома же могла позволить себе легкомысленный халатик, но обязательно чистенький и выглаженный. Словом, все как у всех.
А Вдова… Вдова – это целая песня! Безукоризненная внешность! При этом никаких камей на жабо, рюшечек, кружев, пучков на затылке и шелковых халатов прошлого столетия.
Ее домашняя одежда выглядела следующим образом. Низ – черное плотное трико, выгодно подчеркивающее стройность ног и скрывающее возрастные недостатки кожи, верх – яркие свободные свитера в вертикальную полоску или клетку (заметьте – собственного изготовления). На тонкой шее – дважды обвитый легкий шарфик, схваченный изящной шотландской заколкой. На ногах – тапочки на небольшой платформе и обязательно с задниками, дабы не шаркать по паркету по-стариковски. Стрижка – классическое каре, волосы чуть ниже подбородка закрывали с годами утративший совершенство овал лица, что давало возможность выглядеть лет эдак на десять моложе. Плюс ко всему – до мелочей выверенное питание, маски, зарядка, сон…
А еще Софья Матвеевна обожала прогулки, считая движение и свежий воздух непременным залогом здоровья и хорошего настроения. Если планом дня не предусматривались походы по магазинам, то Вдова выбиралась на улицу дважды – утром и вечером. Для этой цели в доме Лебедевых всегда жили собаки маленьких пород, которых после смерти мужа Софья Матвеевна называла партнерами по одиночеству.
– С большим псом мне не справиться, – рассуждала она. – Бродить же одной по скверу как-то неприлично. К тому же, собаки великолепно дисциплинируют. В дождь и слякоть в здравом уме без нужды и за порог не ступишь, а вот если ты держишь четвероногого друга, то просто обязана соблюдать режим. Да и общение играет не последнюю роль. Собачники – удивительный народ!
Полтора года назад, после смерти любимой болонки Мальты, прожившей в доме Лебедевых почти пятнадцать лет, друг покойного адвоката Воронцов привез из Австрии и подарил Софье Матвеевне щенка брабантского гриффона. Очаровательного кобелька, добродушного и жизнерадостного, с забавной обезьяньей мордочкой и удивительно мудрым взглядом черного бархата.
– Ты только посмотри на него, – восторгалась Вдова. – В этих глазах собрана вся скорбь палестинского народа!
– Почему палестинского? – не поняла я. – Его же вам в Австрии добыли, а судя по справочнику это вообще-то, бельгийская порода.

