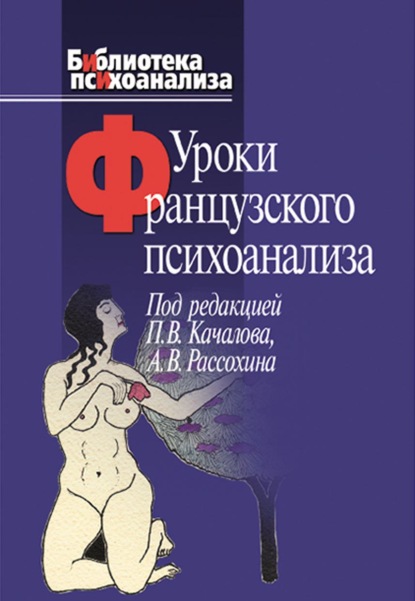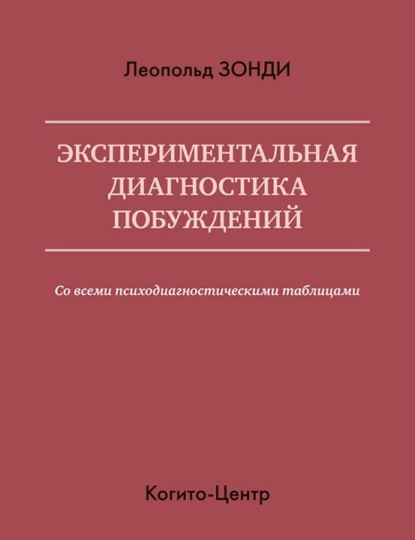Полная версия
Скрытая жизнь братьев и сестер. Угрозы и травмы
Недавно я разговаривала с группой клинических психологов и психотерапевтов о месте братьев и сестер в их работе. Я поделилась одной историей и задала вопрос: «Всемирная служба BBC сообщила, что южный индийский штат Керала объявил о расширении услуг по уходу за детьми и младенцами. Зачем они это сделали?». Лаская мой феминистический слух, все присутствующие в аудитории ответили, что это даст возможность большему количеству матерей выйти на работу. Таковым изначально было и мое собственное предположение. На самом деле таким образом в штате с невероятно высоким уровнем грамотности девочкам обеспечили возможность ходить в школу. Очевидно, уровень грамотности снижался, потому что сестры должны были оставаться дома, чтобы заботиться о младших братьях и сестрах. В очередной раз я была поражена нашей этноцентрической установкой, изолирующей братьев и сестер от детерминант, действующих в социальной истории и в психодинамике как отдельных людей, так и социальных групп. Подтверждением этой этноцентричности является тот шок, который переживает западное сознание, когда узнает о количестве возглавляемых детьми домохозяйств в пораженных СПИДом странах Африки к югу от Сахары.
Предположение заключается в следующем: признание важности отношений между сиблингами и всех сходных с ними латеральных отношений должно привести к смене парадигмы, что бросит вызов превалирующим в настоящее время вертикальным парадигмам. Матери и отцы, конечно, очень важны, но социальная жизнь определяется отношениями не только с ними, как считают наши западные теории. Ребенок рождается в мире, населенном не только родителями, но и сверстниками. Выходит ли наше мышление за бинарные рамки?
Существует вторая гипотеза, оформленная менее четко, чем первая, согласно ей, ситуация, в которой вертикальная парадигма доминирует и практически исключает другие, возникла в связи с тем, что социальная и индивидуальная психология изучалась с мужской точки зрения. Обращаясь к моей области исследований, то есть к психоанализу, я обнаружила, что многие теоретические понятия, объясняющие феминность, поразительным образом совпадают с теми понятиями, которые нам нужны, чтобы включить сиблингов в общую картину. В отношениях между братьями и сестрами приоритетными оказываются такие переживания, как страх аннигиляции, страх, свойственный девочкам, в отличие от мужского страха перед кастрацией. Они также включают в себя страх потери любви, который обычно ассоциируется с девочками; чрезмерный нарциссизм, который должен найти подтверждение в том, чтобы быть объектом, а не субъектом любви. Сиблинги и феминность имеют схожую судьбу: их обычно упускали из виду.
Психоанализ, как и все великие теории, следовал образцу, который предполагает, что нормальное приравнивается к мужскому. Из этого парадоксальным образом следует, что мужская психика считается чем-то само собой разумеющимся и остается невидимой. Современный феминистский вызов этой идеологии означает, что маскулинность становится объектом исследования. Изучение родных братьев и сестер и отношений между ними позволит обоим полам занять свое место в аналитической картине. Я полагаю, что фигуры брата и сестры находятся в основе таких почти забытых понятий, как эго-идеал – старший сиблинг идеализируется как тот, кем хотел бы быть младший, иногда это превращенная в противоположность ненависть к сопернику. Сиблинговые отношения могут иметь отношение к структуре, лежащей в основе гомосексуализма. Братья и сестры также помогают в решении постмодернистского вопроса относительно проблемы мышления эпохи Просвещения, согласно которому сходство приравнивается к маскулинному, а различие – к феминному. Постмодернистский феминизм был заинтересован в том, чтобы продемонстрировать, что такое единство, понимаемое как объединение «одного и того же», достигается только путем исключения того, чего оно не хочет впускать в себя как отличающееся. Мужское единство достигается ценой исключения женского как другого или отличающегося. Братья изгоняют из своей общности сестер, или феминность.
За этим утверждением в пользу структурирующей важности латеральной плоскости отношений можно увидеть переход от модернизма к постмодернизму и от казуальных к коррелятивным объяснениям. Если выстраивать связь сиблингов и отношений между маскулинным и феминным по оси одинаковости/различия, то роль феминизма (и возрастающей «схожести» мужских и женский ролей) может заключаться в том, чтобы способствовать усилению латеральности по сравнению с вертикальностью. Социальные изменения лежат в основе этого сдвига. Например, наследование происходит по вертикали, но эта практика, вероятно, идет на спад, и во Флориде пенсионеры клеят на автомобили наклейки: «Мы тратим ваше наследство», что указывает на новую тенденцию. Несмотря на рост бедности среди женщин, если они имеют оплачиваемую работу, то вполне могут обеспечить себя материально. На данном этапе эти мысли являются не более чем умозрительными направлениями для исследования, но, по-видимому, они заслуживают дальнейшего изучения, что предполагает снижение важности происхождения и повышение важности альянса.
Истерия и сиблинги
Последующие главы книги являются результатом длительного изучения истерии, преимущественно с точки зрения психоанализа3. Это исследование также было поддержано интересом феминисток второй волны к истерикам как к протофеминисткам (Cixous, 1981; Cleme, 1987; Gallop, 1982; Hunter, 1983; и др.) – женщинам, для которых истерия была единственной формой протеста, доступной при патриархате (Showalter, 1987, 1997). Вместо того чтобы изучать истерию феминисток, я давно интересуюсь мужской истерией. Наличие мужской истерии (наряду с анализом сновидений) позволило Фрейду развить психоанализ как теорию, основанную на наблюдении бессознательных процессов, которые являлись универсальным атрибутом психики и выражали себя главным образом при столкновении с социальными барьерами, затрудняющими проявление сексуальности. Совершенно очевидно, что все понимают, что не должны совершать инцест, но истерик в каждом из нас хочет сделать именно это, хочет сделать то, что не разрешено. Истерические симптомы, такие как истерическая слепота, усталость, неподвижность или определенные аспекты некоторых расстройств пищевого поведения, обнаруживают как тайные сексуальные желания, так и запрет на них, который истерик не желает признавать. В межкультурном и историческом контексте истерия ассоциировалась почти исключительно с женщинами. Мужская истерия (описанная Шарко во второй половине XIX века и проанализированная Фрейдом, который учился у него), продемонстрировала, что эти процессы не относятся к определенной популяции – ни к «дегенератам» (как обычно думали в XIX веке), ни к больным, ни к женщинам. Признание факта мужской истерии в конце XIX века позволило понять, что симптомы истерии являлись отражением большого числа обычных и универсальных процессов. Преувеличенный характер невротических проявлений показывает нам психопатологию обыденной жизни каждого.
Однако, когда была продемонстрирована универсальность бессознательных процессов, диагноз истерии претерпел изменения. Она перестала считаться болезнью, крайние проявления которой резко контрастируют с нормальностью; скорее она стала считаться аспектом личности, преимущественно женской. Примерно 70 % страдающих «истерическим расстройством личности» (согласно DSM-III) в Соединенных Штатах – женщины. Истерия стала аспектом или способом выражения женской идентичности. Мы бесконечно ходим по одному и тому же кругу, когда истерия становится синонимом женщины, а феминность – синонимом истерии.
Истерия сбросила с себя ярлык болезни, но в своей психоаналитической клинической работе я все еще могу наблюдать истерию как нечто большее, чем расстройство личности (или же как таковое). Истерия давно перестала быть распространенным диагнозом (Brenman, 1985), но в социальной и политической жизни существование и широта разговорного использования термина казались оправданными. Эти два фактора заставили меня взглянуть на проблему не только с исторической, но и этнографической точки зрения. Казалось, нет сомнений в том, что истерия всегда была универсальным феноменом: у всех нас могут быть истерические симптомы или истерические действия, а если такого рода проявления становятся образом жизни или эти симптомы сохраняются, этот человек может оказаться истериком. Тогда встает вопрос: почему истерия везде и всегда была связана с женщинами, хотя ей могут быть подвержены и мужчины?
Психоаналитическое объяснение того, что истерия была, так сказать, рефеминизирована после того, как было признано ее наличие у мужчин, связано с важностью доэдипальной привязанности девочек к матери. «Закон», исходящий от места Отца (Lacan, 1982a, b), устанавливает запрет на эдипальные желания ребенка по отношению к матери (любовь Эдипа к своей матери-жене Иокасте). Закон, который угрожает символической кастрацией (комплекс кастрации), запрещает фаллическую любовь к матери. В результате происходит дифференциация полов; и мальчик, и девочка подвергаются угрозе кастрации, если нарушается закон, но девочка никогда не займет место отца по отношению к заместителю матери. Вместо этого она должна изменить свою позицию: она должна встать как бы в положение матери и быть объектом любви для своего отца. Девочка должна отказаться от своей матери как объекта своей любви и вместо этого стать как она.
В «идеализированном» нормативном мире она затем пытается завоевать любовь своего отца, чтобы восполнить нарциссическую рану, связанную с отсутствующим фаллосом, который желает ее мать. Попирая закон, истерическая девочка настаивает на том, что у нее есть этот фаллос для ее матери (мужская позиция, фаллическая позиция истерика), и в то же время жалуется, что у нее его нет (женская позиция, пустое обаяние и постоянные жалобы истерика), и она должна получить его от отца.
Подобная классическая интерпретация получила новые акценты и была дополнена. Меня интересовал тот факт, что, если склонность к истерии признается «универсальной» (или «трансверсальной» – присутствующей повсеместно, но в различных формах), что общего у ее различных проявлений? Истерия всегда и слишком велика, и недостаточна – она располагается между грандиозностью и психическим коллапсом. Как это проявление согласуется с психоаналитической интерпретацией? Я предполагаю, что истерик – мужчина или женщина – драматизирует предполагаемую фаллическую позицию и в то же время считает, что у него или нее удалили пенис, что, в свою очередь, означает, что у него или у нее ничего нет. Таким образом, женщина-истерик кажется одновременно чрезвычайно мощной и ужасно «пустой». Она не только интроецирует фаллическую потенцию, как будто полагая, что это был настоящий пенис, она также чувствует себя опустошенной, потому что, не потеряв ничего, не имеет внутренней репрезентации этого. Несмотря на то, что она выглядит фаллической, она колеблется между «пустой» маскулинной позицией по отношению к своей матери и пустой феминной позицией по отношению к отцу; «пустой», потому что она не интернализировала «потерянную» мать и не приняла «потерянный» фаллос. Ее тяга к обоим является навязчивой и непрестанной. В обоих аспектах ситуации она демонстрирует, что не усвоила символический закон: она считает (как и многие, кто читает психоаналитические теории), что фаллос, настоящий или отсутствующий, представляет собой реальный пенис. Таким образом, она бесконечно соблазняет, как будто таким образом она получит настоящий пенис. На карту также поставлен вопрос нарциссической любви (любви к себе) и так называемой «объектной любви» (любви к другому). Я вернусь к этому вопросу, так как считаю, что его невозможно понять без рассмотрения сиблинговых отношений. Объяснение всех этих проявлений истерии требует внимательного изучения сиблингов. Но другой фактор – признание мужской истерии – также ставит под сомнение, что истерия может быть объяснена с точки зрения вертикальных межпоколенческих связей.
Мужская истерия казалась маловероятной с точки зрения здравого смысла. Западное название этого заболевания происходит от греческого слова «матка», и многие врачи XIX века возражали против мужской истерии именно по этим причинам. Однако это не имеет отношения к психической жизни: мужчины воображают, что у них есть матки и что у них нет пенисов. Мужчина-истерик, верящий в свою способность зачать, выносить и родить, пребывает в заблуждении. Следовательно, в мужской истерии может быть психотический элемент, который, в свою очередь, влечет за собой то, что истерику считают «более серьезной». Но вера в то, что у него есть матка или нет пениса, также помещает мужскую истерику в женскую позицию, и именно тогда мужчина начинает осознавать себя истериком. Отвержение мужской истерии произошло одновременно с отказом от феминности. Из этого складывается странное уравнение: мужская истерия является женской, поэтому ее маскулинность исключается; феминность становится болезнью. В 1920-х годах британский психоаналитик Джоан Ривьер описала историю болезни пациентки, чья феминность (или «женственность») была маскарадом (Riviere, [1929][4]). Несколько десятилетий спустя Жак Лакан писал, что феминность сама по себе является маскарадом (Lacan, 1982a, b). Маскировка имеет решающее значение для истерии, но следует отличать ситуации, когда вы «надеваете» феминность и когда женственность сама по себе является модной одеждой.
Истерик должен наряжаться: чувствуя себя опустошенным, он нуждается в одежде, чтобы обеспечить свое существование, но, если он выберет женственность, оставаясь при этом предметом желания, эта женственность будет использовать все тело, как если бы тело было фаллосом, и феминность, таким образом, сама по себе будет фаллической. Если в качестве маскарадного костюма он выберет маскулинность, его фаллическое позерство будет выглядеть не менее недостоверным из-за того, что это выставляет напоказ мужчина. Однако во всех этих эдипальных случаях истерии важное значение отводится бессознательной сексуальности, возникающей из-за неспособности полностью подавить кровосмесительные эдипальные желания. Здесь возникает ключевой вопрос, имеющий непосредственное отношение к рассматриваемой нами теме сиблингов. Тем не менее в определениях истерии есть и второе направление, которое, как я считаю, также указывает на то, что мы должны принимать во внимание братьев и сестер. Речь идет о важности травмы. Со времен Шарко травма считалась решающей в этиологии мужской истерии; поскольку истерия оказалась рефеминизирована, травмирующий элемент был в значительной степени забыт.
Когда Жан-Мартен Шарко объявил о распространенности мужской истерии в своей огромной государственной клинике Сальпетриер в Париже, он добавил новое измерение в этиологию. Он утверждал, что в случаях мужской истерии, с которыми он имел дело, не было ничего женоподобного; мужчины реагировали неорганическими физическими симптомами (то есть истерическими симптомами) на некоторую травму – несчастный случай на работе или в поезде, драку на улице и т. д. Схожесть симптомов, которые демонстрировали мужчины – жертвы Первой мировой войны, не имевшие реальных травм, с симптомами классической женской истерии подтвердили эту возможность. Однако связь между травмой и истерией остается не проясненной (Herman, 1992) и сама по себе является предметом для исследования. Но мое намерение иное. Коротко говоря, я утверждаю, что между травматическим неврозом (как стали называть военную истерию) и истерией разница существует, но эта разница не сводится к отсутствию или наличию травмы. Обычно отмечается различие в том, что травма в случае травматического невроза является реальной и действительной, а в случае истерии скорее имеет место фантазия о травме. Я смотрю на эту ситуацию по-другому. В обоих случаях имеет место травма. При травматическом неврозе травма находится в настоящем, при истерии – в прошлом. В случае истерии забытая травма прошлого постоянно воссоздается через отыгрывание, действительно имеет место драматизация кризисных ситуаций. Незначительные препятствия, стоящие на пути для получения того, чего кто-то хочет, рассматриваются как травмирующие, но когда-то в раннем детстве эти препятствия были на самом деле травмирующими для истерика.
Что такое травма? В самом общем виде травма представляет собой прорыв защитного барьера насильственным (физическим или психическим) способом, опыт проживания которого не может быть проработан и интегрирован: в психике или в теле, или в том и другом сразу пробивается брешь, оставляя после себя отрытую рану или пустоту внутри. Чем со временем заполняется эта пустота, образованная в результате травмы? Имитация присутствия или объекта, который образовал эту дыру в теле или психике, имеет решающее значение. Если, например, в фантазии человек убивает отца, а потом становится мертвым отцом, кажется, он пытается заполнить этот пробел. Истерия определенно включает подражание, имитацию ряда психических и телесных состояний. Таким образом, она, подобно хамелеону, принимает цвет в соответствии с преобладающим окрасом окружающей среды, проявляясь, например, как расстройство пищевого поведения в «худощавой» культуре богатого ожирением мира или как «железнодорожный позвоночник», когда железные дороги только появились и вызывали страх[5]. Истерия в данном случае вызывает преувеличение нормального: истерическое подражание настолько точно, что нет разделения между тем, чего нет, и тем, кем человек стал, чтобы быть уверенным, что это все еще есть.
Подражание это, хоть и принимает разные формы, неслучайно. Его смысл связан с опытом и личной историей человека. Применительно к теме отношений братьев и сестер я хочу посмотреть не на индивидуальные ситуации, а на общую картину. Во все времена и в разных местах одним из наиболее заметных истерических подражаний является подражание смерти в ее различных обличьях (King, 1993). Хотя известно, что в крайних случаях истерики совершают самоубийство, общая истерическая тенденция притворяться мертвым понималась только как воплощение желания. Хотя психоанализ привлек внимание к прорыву табуированной сексуальности при истерии, он ограничился только случайными наблюдениями относительно осуществления травмы в имитации смерти (Freud, [1928]). В стремлении провести разграничительную черту между истерией и травматическим неврозом психоанализ не интегрировал это измерение в свой теоретический корпус. В случае травмы, впоследствии воображаемой или разыгранной как смерть, Эго, или Я, или субъективная позиция, уничтожаются. Сиблинги могут помочь объяснить и это.
В истории Эдипа объединяются истерическая сексуальность и опыт переживания травмы. Прежде чем жениться на своей матери, Эдип невольно убивает своего отца. Он совершил это во взрослом возрасте, а в детстве его оставили на склоне горы (по указанию отца), чтобы он умер и, таким образом, избежал бы своей судьбы и не убил бы своего отца. В этой истории травма умышленного детоубийства, кажется, привела к последующей инцестуозной сексуальности. Но если это так, то эта травма определенно относится к доэдипальному периоду: опасная ситуация, в которой оказывается ребенок Эдип, символизирует беспомощность новорожденного, когда рядом с ним нет никого, кто мог бы позаботиться о нем. Убийство отца – это реакция на желание отца убить сына. Тем не менее смерть отца устраняет препятствие для кровосмесительной связи с матерью – того, чего отец, вероятно, боялся в первую очередь.
В доминирующей психоаналитической теории наличие сиблинга, существующего или будущего, важно, потому что это указывает на то, что у матери есть сексуальные отношения с отцом. Согласно не получившей признания модели ядерной семьи, это один и тот же отец. Если вместо этого мы думаем о полигинных родственных группах, то становится ясно, что родной брат или родная сестра преисполнены сексуальностью не только ввиду своего положения в семье, будучи ребенком тех же родителей, но и независимо от них, сами по себе. В частности, появление или ожидание сиблинга объединяет сексуальность и травму, что так ярко проявляется в истерии. Вспомним, что сексуальность следует понимать не как генитальность, а как многогранную или «полиморфную» либидинальную любовь, любовь, которая может быть направлена на различные объекты и выражаться в различных чувствах, это то, что малыш чувствует к новому ребенку, или то, что младенец чувствует к старшему сиблингу. Но обожаемый сиблинг, вызывает не только любовь, но и ненависть, так как он занял место другого ребенка, который это место уже больше не сможет вернуть, или старшего брата либо сестры. Сиблинг угрожает уникальности субъекта. Экстаз любви к кому-то, похожему на тебя, переживается одновременно с травмой уничтожения тем, кто занял твое место. Я полагаю, что если любовь/ненависть к тому, кто занял твое место, не будет преодолена, то на более позднем этапе истерия будет проявляться в регрессе к таким проявлениям ребенка, оказавшегося в опасном положении. Страдающие от истерического расстройства личности характеризуются как действующие неуместно соблазнительным или провокационным образом, эмоционально поверхностные, склонные к драматизированию и вспышкам гнева, использующие свое тело для привлечения внимания и легко поддающиеся внушению. Эти качества можно наблюдать у любого малыша, который подвергается стрессовому воздействию, как мне кажется, они возникают в ответ на травму сиблингового смещения.
Психология групп и сиблинги
В психической жизни человека неизменно участвует кто-то еще как модель, как объект, как помощник, как противник.
(Freud, [1921], p. 69)Если человек не может быть другом для своих друзей, он не может быть врагом для своих врагов.
(Bion, [1948], p. 88)Психоанализ предлагает не только наблюдения относительно важности горизонтальных отношений, но также, я полагаю, и перспективу для теоретического осмысления их относительной автономии. Тема сиблингов получила освещение в самых ранних работах. Так, в работе «Психологии масс и анализ человеческого Я» (Freud, 1921) Фрейд пишет о том, как потребности в социальной справедливости проистекают из ситуации «в детской». Интенсивная ревность, соперничество и зависть между братьями и сестрами (а позже и школьниками) превращаются в требования равенства и справедливости. Для Фрейда с его патриархальным предубеждением все должны быть одинаково любимы отцом или его заместителем; никому не должно доставаться больше положенного, неравенство не должно быть ни законодательно закреплено, ни обусловлено правом первородства, ни гендерной принадлежностью, к чему я еще вернусь.
В последующих главах, где интерпретируются горизонталь и вертикаль, я предлагаю обсудить вопрос о том, что, прежде чем дети будут признаны своим отцом как равные в своей одинаковости, они должны быть признаны матерью как имеющие равные права на то, чтобы отличаться друг от друга. Это будет первое решающее вертикальное отношение для сиблингов. Я условно обозначила это термином «закон матери». Тем не менее существуют и независимые латеральные отношения, которые также необходимо изучить.
За последние двадцать лет различные области психологии развития уделяли внимание межсиблинговым отношениям (напр.: Boer, Dunn, 1992), демонстрируя богатство автономного взаимодействия между ними. Находит подтверждение представление о том, что метапсихология должна концептуализировать отношения между сиблингами как относительно независимые автономные структуры. Рассматривая их с позиций психоаналитического взгляда на группу, я бы сказала, что нам нужно начать с размышлений о формировании Эго и эго-идеала: кем я являюсь и кем я хотел бы быть.
Склонность человека к неврозам частично зависит от разделения человеческой психики. Важнейшее из них – разделение на Эго и эго-идеал. Сложно представить, чтобы другие млекопитающие также интенсивно ощущали проблему того, кем они являются, не говоря уже о том, чтобы ощущать, что это отличается от того, кем они хотели бы быть, от их идеала. Для людей этот идеал может быть интернализацией кого-то, к чьему статусу (как реальному, так и надуманному) стремится субъект (Эго). Но возможен и вариант, когда это жесткий критик Эго под маской угрызений совести. Согласно классическому теоретическому объяснению, этот идеал формируется под влиянием реальной отцовской фигуры. Ребенок усваивает (интернализирует) его одобрение или цензуру так, что психическая репрезентация отца становится аспектом собственной личности субъекта. Это почти наверняка так. Но не может ли быть так, что в качестве такого образца выступает другой ребенок – героический или критикующий старший (или другой) сиблинг? Для большинства из нас, когда наша совесть критикует нас, заставляя нас чувствовать себя хуже, голос, который мы слышим, напоминает насмешки не взрослых, а других детей. Действительно, ребенок в латентном периоде (между пятью и десятью или одиннадцатью годами) нередко деинтернализует эти голоса и слышит их, как будто они снова звучат во внешнем мире, исходя из уст его сверстников. Это разные «театральные» партии, а не расщепление и дезагрегация, наблюдаемые при шизофрении. Но это сходство указывает на то, что при формировании и разрушении эго-идеала имеет место не эдипальное «овнутрение» отца, а интернализация сиблингов и сверстников. Патологические варианты имеют тенденцию быть более психотическими, чем невротическими, поскольку именно при психозе происходит фрагментация Эго. Невротик искажает реальность, а психотик не имеет с ней дела. Мы наблюдаем распавшееся Эго в снах, которые считаются психотическими переживаниями каждого человека.