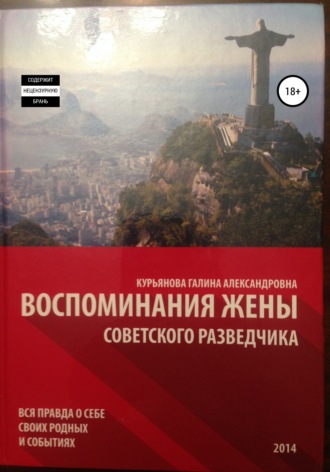
Полная версия
Воспоминания жены советского разведчика
Под любой оттенок мелодический
Он фокстрот танцует механически»
Бедный обобщенный образ стиляги-Бори в этом стихотворении-агитке раскурочивался без сожаления: и такой он, и сякой он, и подражать ему нельзя, и «не ходите, дети, в Африку гулять…». Но слушателей больше поражало, как я могла так лихо расправиться с массой заковыристых рифмованных строчек и ни разу не сбиться. Смысл самого стишка не то, чтобы не дошел до них, а просто был неинтересен: какой-то там, блин, Боря, какие-то орфографические ошибки! – оно мне надо?! Но слушали с удовольствием, тем более, что после пафосного концерта в сельском клубе бывали танцы. А на танцах можно с городскими девчатами отчебучить тот же фокстрот-полечку и заставить ревновать своих «ухажёрок».
Из-за моей кипучей общественной деятельности мне часто приходилось непосредственно встречаться с директором нашего учебного заведения.
Вот говорят, что горбуны злобные люди… Наш директор, Густав Сергей Федорович, был очень добрый и внимательный человек, знал своих студентов и, по мере возможности, всегда был готов придти им на помощь.
Мы просто не замечали горба, как, видимо, не замечала этого его жена, высокая красивая дородная женщина, и его дети. Когда меня вызывал Сергей Федорович по вопросу каких-либо мероприятий (а они, как правило, происходили в выходные дни), я пользовалась случаем и «отпрашивала» от этого мероприятия Машку Алейникову, мою соученицу. Мы с ней жили на одной квартире, спали в одной кровати и сидели за одной партой. У Маши в Ростове в институте Сельхозмашиностроения учился её друг Вова,
они были из одной деревни, учились в одном классе и собирались поступать в один и тот же институт, но Машка срезалась на экзаменах в Ростове. Видимо и там предпочтение отдавалось будущим механизаторам мужчинам.
Учась отдельно, она была убеждена, что какая-нибудь предприимчивая городская девица непременно переманит её Вовочку и поэтому, как на работу, таскалась каждое воскресенье и любое свободное время в Ростов напоминать о себе и забивать внимание друга, стряпала там ему какую-то еду, стирала. Я мало вникала в их отношения, но однажды видела этого Вову и думаю, что он был абсолютно безопасен для ростовчанок да и таких усилий со стороны Машки не стоил. Есть такая злая поговорка: «Любовь зла…».
Когда этот её Вова уехал летом на целину на очередную помощь студентов в сельскохозяйственных работах, Маша очень переживала опять же по поводу измены. Вдруг по радио мы услышали песню о комсомольцах-целинниках и там были слова: «Ой, боюсь, боюсь, Володя в Барнауле влюбится!», а Машин друг как раз поехал в Барнаул, я и брякнула: «Смотри, Машк, влюбится твой Вова в Барнауле!» Так она чуть ли ни с кулаками на меня кинулась. Больше я так глупо и неосмотрительно не шутила, продолжая отпрашивать её от субботников-воскресников, поездок в подшефные колхозы (она-то в силу своих вокальных данных как раз и была в хоре и в оркестре педучилища), утренников в базовой школе и других общественных мероприятий, которые лично сама выполняла в охотку, т.к. у меня-то никакого подобного «Вовы» в наличии не наблюдалось. Сначала она сама отпрашивалась у директора, а потом заступила на эту неблагодарную вахту я.
Директор объяснял мне, что, как и где нужно организовать, а я смотрела на него своим исключительно честным, прямым, голубым взглядом и объясняла очередную причину невозможного присутствия Алейниковой Маши на этом мероприятии. Надо заметить, что и Сергей Федорович, и я прекрасно понимали, что с моей стороны – это полуправда и чистой воды альтруизм и никакой выгоды от просьб я не имею и не буду иметь, даже наоборот, за себя при случае уже не смогу попросить. Обоснования отсутствия Машки по воскресеньям с каждым разом становилось все труднее объяснять, и однажды директор внимательно посмотрел на меня и сказал: «Я знаю, почему Алейникова так часто отсутствует по выходным (интересно, откуда? во стукачки!), но не кажется ли Вам, Галочка, что она просто использует Вас?» Галочка простодушно взирала на него, не совсем врубаясь в суть вопроса-предупреждения, и он, видимо поняв мою дурость, коротко сказал: «Пусть едет в свой Ростов к своему студенту!»
И как, скажите, узнал про студента, про Ростов? Собственно, Ростов-то был не Машкин, а мой, но важен результат: в город отправлялась Маша, а я опять проявляла себя в самодеятельности, в организации вечера, конкурса стенгазет или бала-маскарада. Совет умного директора пропал втуне.
В жизни мне ещё очень много встречалось таких «Машек».
Сергей Федорович тоже был когда-то молодым, еще возможно помнил, что значат муки ревности поэтому и в дальнейшем не настаивал на обязательном присутствии Алейниковой на мероприятиях, тем более толку на них от неё не было никакого, в смысле активного участия. Просто тогда педагоги считали себя ответственными за поведение учащихся, особенно молодых девушек, которых родители доверили их воспитанию, и предпочитали, чтобы они были у них в поле зрения, примерно знали наши заморочки, наши любовные увлечения и друзей.
Машка же со всей житейской хваткой сельской жительницы и в дальнейшем старалась основательно использовать свою соученицу: списывание диктантов и прочих контрольных работ и заданий, оформление наглядных пособий для открытых уроков в школе, работ по труду: «У тебя это лучше получается!» (хитрая, зараза). А однажды попросила нарисовать ей картинку к открытому уроку по чтению, тема народной сказки «Лиса и волк», ну там, где лиса заставила зимой волка опустить хвост в прорубь и приговаривать: «Ловись, рыбка, большая и маленькая!»
Я изобразила зиму, реку, ёлки, прорубь и глупого волка, опустившего хвост в полынью. Вся картинка была выписана яркой гуашью, а хвост волка, опущенный в воду, изображен простым карандашом, этакими серыми линиями. Машка сказала мне спасибо, и наш курс с методистом отправился в базовую школу, где мы всегда проводили уроки, тренировались на бедных детях. Урок начался, и ничто не предвещало беды, а попросту смешного инцидента. Студентка, добросовестно следуя конспекту, вела урок, потом развернула мой шедевр и стала задавать вопросы по наглядному пособию типа: что за время года изображено, почему вы именно решили, что это зима, опишите признаки зимы, кто нарисован на картинке. Дети добросовестно и правильно отвечали на вопросы, развивая свое мышление и речь. Наконец, был задан ключевой вопрос: «Что делает волк?» Класс смущенно затих, а я только тут увидела ошибку при раскрашивании шедевра и почувствовала себя жутко неудобно, предполагая с уверенностью, какой ответ сейчас последует. Маха, недоумевая, почему дети не поднимают руки и не отвечают на такой, в общем-то, элементарный вопрос, с нажимом повторила: «Посмотрите, дети, что делает волк?», – и выжидающе посмотрела на малышей уже с оттенком требовательности. Ученики, первый класс, безмолвствовали. Наконец, поднялся один мальчонка и неуверенно сказал-спросил: «Писает?!!» Наступила многозначительная пауза: и дети, и студенты, присутствовавшие на открытом уроке, и методисты заглушили смешки. Волк действительно расположился в позе «писающей девочки», даже лужа имелась в наличии…
Урок продолжался. Машка торопливо объяснила ученикам, что волк на самом деле «разве вы не видите?» ловит рыбу, и далее все покатилось по накатанному руслу урочного плана. Бедная Маха за урок получила трояк и обвинила во всем меня. Я поразилась человеческой неблагодарности, разозлилась и логично ответила, что рисунок она видела и одобрила, видел и учитель, а в дальнейшем, я пошла уже в разнос: может рисовать сама или обращаться за помощью к художнику училища. Конечно, к художнику студенты иногда обращались, но это не приветствовалось ни самим художником, ни администрацией училища, и Машка прекрасно об этом знала. Кстати, ни Машка, ни я не были виноваты за этот ляп на уроке. План и наглядные пособия должны были проверить те самые методисты училища и учительница класса, где студентка проводила урок.
У меня тоже первый урок на практике был комом: от излишнего рвения я написала настолько подробный конспект, что сама запуталась и поставила на полях вопросы красным карандашом, чтобы мудрые наставники обратили внимание на мои сомнения. И что же наставники? Сначала конспект должна была проверить и завизировать учительница класса, где я провожу урок; потом подписанный конспект проверяет наша методист. Я с трудом нахожу учительницу у нее на огороде, и она, увидев пометки на полях красным, отдает мне конспект обратно, решив, что это уже сделала методист. Соответственно, так же поступила и та, считая, что план проверен учительницей. В результате я не уложилась во время, урок пришлось скомкать самым неприглядным образом и получить за практику посредственную отметку, которую мне было никак нельзя получать, т.к. уроки практики давались редко, и с этим трояком можно было остаться по окончании семестра. Мало того и учительница, и методист обвинили меня в фальсификации конспекта и в обмане их, честных преподавателей. Мне же предложили перед ними извиниться, чтобы поддержать их реноме.
Я чувствовала себя ужасно гадко и противно – так я на себе испытала выражение «вылить ушат грязи» -, но поняла, что плетью обуха не перешибешь: взвесила все «за» и «против» и, встретив нашу преподавательницу педагогики и методики обучения где-то в полутемном коридоре училища, опустив глаза от стыда на самое себя, пробормотала какие-то слова извинения. «Вот так-то лучше, Иноземцева! Я дам вам ещё один урок», – снисходительно произнесла она, сволочь такая! Мне это как раз и нужно было, но я опять почувствовала себя гадкой и беспринципной подхалимкой, чем, в сущности, в тот момент и была. Гипертрофия совести – болезнь опасная и заразная. В тот раз её вирус едва коснулся меня, но не заразил, слава Богу, навсегда. А всего-навсего я не захотела сделать проблематичным получение красного диплом, вот и прогнулась.
Так постепенно жизнь начала протирать розовые очки юности.
«Жить захочешь – не так раскорячишься!» Золотые слова, только я их ещё тогда не знала, хотя уже начала интуитивно чувствовать, что придется, ох! придется, но раскорячиваться очень не хотелось и не умелось.
Еще нужно упомянуть о нашем музицировании. Училище было известно своим хорошим оркестром народных инструментов, его часто приглашали на различные городские, районные и даже областные мероприятия. Всех новеньких тоже проверяли на способность стать полезными оркестру, т.к. состав его частенько менялся. Вот и Машка проявила свои способности на прослушивании пения и слуха, поэтому ей и приходилось столь часто отпрашиваться. Руководителем этого оркестра был Александр Иванович, тезка моего папы, и не запомнить его было невозможно. Видный и достаточно молодой мужчина лет 45-ти (нам он казался достаточно пожилым человеком), на своей работе все время общался с молодыми девушками, просто находился в цветнике, и был явно сексуально озабочен. Возможно, это была его характерная особенность, а возможно, приобретенная именно в силу уже зрелого возраста, что часто бывает у мужчин да и у женщин тоже. Неопытным молодым музыкантшам надо было поставить пальцы, показать и закрепить аккорды, правильную посадку. Учитель обычно находился за спиной учениц, задерживал свои шаловливые ручки на плечах, предплечьях, пальцах юных дев, иногда невзначай скользил легким движением по талии или клал на колено, показывая, как отбивать ногой ритм. В цветнике он-то был, к цветочкам даже мог прикоснуться, а вот сорвать – извините!, с этим можно загреметь за совращение да и вообще строго. А девчата еще, дряни такие! и провоцировали его, во всю стреляя глазками, отставляя круглые локоточки и случайно приоткрывая такие же круглые коленочки. Наверное, поэтому Александр Иванович постоянно был в состоянии нервного возбуждения, суетлив и раздражен, сейчас я представляю, как он мог себя чувствовать после подобных занятий с тупыми ядреными тёлками. Лично меня чаша репетиций в оркестре миновала, я была еще тупее. Ноты и лады на мандолине выучила быстро и, закусив от напряжения губу, ожесточенно отбивая ногой счет нот так громко, что заглушала саму музыку, оттарабанивала немудрящие мелодии и сматывала удочки с урока.
На проверку домашнего задания обычно приходили сразу три-четыре ученицы, и часто мы играли уроки хором. Иногда поднималась такая какофония, тем более каждая из нас старалась как можно громче стучать ногами ритм, что бедный Александр Иванович затыкал уши (все же он был музыкант и на вечерах иногда очень проникновенно, заслушаешься! исполнял романсы на гитаре или на мандолине) и проверял нас строго индивидуально, кто же не выучил урок. Нормально!!! Я и выучивала, это же не петь, просто затвердить определенные движения пальцами и считать; когда же я поняла на уроках сольфеджио, что и считать не надо, а нужно напевать мелодию мысленно и следовать ей, то и отпала необходимость ожесточенно отстукивать ритм ногой. Поэтому за музыку я получала «пять», не была в оркестре по своей неспособности к музицированию хором и не парилась долго на самих уроках.
А в колхозы мы ездили не только для того, чтобы нести культуру в массы, но и на уборку сельскохозяйственной продукции: кукурузы, помидоров, арбузов, сопровождали машины с зерном на элеватор.
Эти подвижнические работы в июле, в августе, иногда захватывалась половина сентября, обычно были не долгими: примерно дней десять, две недели и не очень утомительными. Размещали нас обычно по усмотрению председателя колхоза как попало: где-нибудь на заброшенной ферме или у местных хозяев. Второе было менее предпочтительно. Хозяева очень подозрительно к нам относились, рылись в наших вещах и считали нас городскими лодырями, что само по себе являлось нелогичным: мы-то на работу выходили и выполняли всё, что нам поручали и даже городскими считались наполовину, т.к. практически 90% студенток были сельскими жительницами. Нам было даже удобнее жить в неработающей чистой конюшне и спать на соломе, чем у хозяев, которые предлагали нам спать на сеновале или в сарае и тоже на соломе, хотя за постой сельсовет им начислял какую-то толику денежек или трудодней.
Кстати, квартируя на заброшенных фермах, мы не имели никаких сторожей, никаких запоров. Нам даже в голову не приходило, да и никому из взрослых руководителей тоже, что это может быть опасно для молодых девушек. Вот будете жить здесь! – ну и хорошо, здесь так здесь. Никто нас никогда не беспокоил и не тревожил даже в шутку.
В одном рыболовецком совхозе я поняла, что такое есть чёрную икру ложками. Деревенские парни очень увивались вокруг студенток, неуклюже навязывались в провожатые, неловко знакомились, типа: «Девушка, а, девушка, а как вас зовут?» И когда мы спокойно отвечали, как нас зовут, то ребята очень удивлялись такому легкому знакомству с городскими и потом придумывали на эту волнующую тему кучу всяких рассказов своим друзьям. Дело в том, что в селе при знакомстве было принято жеманно хихикать и на вопрос об имени не называть его сразу, а только после неоднократных просьб и то называть какое-нибудь выдуманное, красивое имя типа Маргарита, Жанна, Изольда, в крайнем случае, Валерия. Здесь поневоле вспомнишь повесть Джека Лондона «Белое безмолвие». Она начинается так: «…сколько я ни встречал собак с затейливыми кличками, все они никуда не годились…»
А мы-то, простота! Как зовут? Маша, Даша, Глаша… Фу! Неоригинально!
Однажды нас, несколько девчонок, пригласили на ночную рыбалку, пообещав уху из осетров и чёрную икру. Одна из наших студенток была из этой деревни, мы и согласились. Хотя соглашаться можно было и без протекции, и без свидетеля: если приглашали потанцевать, то танцевали; если приглашали на уху, то уха и предполагалась и ничего более, разве что ничего не значащие, но многозначительные, пересмеивания и переглядывания. Так вот, впервые я попробовала настоящий рыбный суп и малосольную икру. Это такая вкуснятина, что описать просто невозможно: во-первых, у ребят уже были в садке ерши, плотва, лещи и осетры (чего отвлекаться на саму рыбалку, когда можно пофлиртовать с девицами!), во-вторых, сам костерчик и закипающая вода тоже были готовы, т.к. мы честно предупредили, что к двенадцати часам уйдем, в-третьих, чтобы поразить наше воображение, ребята сразу с шиком стали приготавливать саму икру при нас: вспороли брюхо осетрам, достали икряные белесые мешочки, так называемый «ястык». Это слово тюркского происхождения, их можно сразу засолить, провялить, подсушить, а потом брать в дорогу и резать ножом – калорийно и удобно в пути. Небрежно выдавили содержимое в эмалированный таз, потом все это дело залили рапой (густо насыщенным соляным раствором), перемешали и закрыли дерюжкой. Самих осетров большими кусками побросали в котел, где уже варились лещи и мелкая рыбешка (их перед этим повыбрасывали, какие неэкономные!).
Эта была так называемая тройная уха. Потом туда же добавили немного пшена, луку и соли с перцем, укроп. Пока варилась уха, мы смеялись и разговаривали, а потом с шутками и прибаутками похлебали её, необыкновенно вкуснющую, то оказалось, что уже была готова и осетровая икра. Наши благодетели процедили и откинули её через два сита-решета, накрошили туда зелёного лучку, дали нам деревянные ложки и, пожалуйста: «Лопайте девчата!» И девчата стали лопать! Единственное, о чём мы тогда пожалели, что неосмотрительно съели по две миски ухи. Когда мы отвалились от тазика с деликатесом, время уже было около двенадцати. Отяжелев, как удавы, несколько раз от души поблагодарив гостеприимных хозяев, они смущенно отмахивались «да что там! да можно еще собраться! да завтра приходите!», мы поплелись на ночевку, т.к. с утра нам нужно было идти на полевой стан, возить зерно на элеватор.
Я попала в бригаду возчиков зерна и обрадовалась – все же не в поле вниз головой стоять, тогда мы убирали арбузы. А зря, оказалось, что это не так просто – возить зерно: пшеница сыпется в грузовик, а ты стоишь тами подравниваешь её, чтобы зерно легло равномерно и его поместилось больше. Грузовик, вихляясь, подскакивает на ухабах, чтобы не вывалиться, нужно крепко держаться за борта, пшеница горячая, колкая, солнце палит в макушку. Мы по неопытности явились на работу без головных уборов, а «добрые» сельчане никогда не подскажут городским «дармоедам»: «Пусть, пусть пожарятся на солнышке, узнают труд хлебороба!».
На элеваторе тоже не так просто: пока пшеница ссыпается в бункер, остатки зерна подгоняешь к отверстию и судорожно держишься за борт машины, смотришь, чтобы самой в это отверстие не съехать. Ни о какой безопасности трудового процесса мы и слыхом не слыхивали. Так и ездишь целый день под горячим солнцем по колено в зерне: ноги воспаляются по самое «не могу», а когда засыпаешь с зудящей кожей, полное впечатление, что ты едешь-едешь-едешь, ноги у тебя погружены в пшеницу и чешутся жутко, перед закрытыми глазами зерно сыпется-сыпется-сыплется. Так что тяжел труд хлебороба и даже возчика зерна.
Обычно «возчики» просыпались с расчесанными в кровь ногами. Бригадир, видимо, знал особенности извоза и на следующий день назначал на перевозку другие пары. А ведь мог бы и предупредить, чтобы одели шаровары что ли! Тогда можно было бы и самому не возиться каждое утро с новыми назначениями-объяснениями.
На этих сельскохозяйственных работах я увидела, как приготавливается томатная паста: собираются в ящики крупные южные сахаристые помидоры без всякой генной модификации, их отвозят на телегах на стан, где на печке стоит огромный чугунный котел. В котел валятся гуртом немытые помидоры, время от времени туда же бухается пачка крупной соли, варщик длинной деревянной лопаткой-поварешкой размешивает эту массу. Масса пузырится и булькает. Перемешивать нужно постоянно, чтобы не пригорела. Потом её перекладывают черпаками в какое-то импровизированное четырехугольное деревянное сито, укрепленное рамой, с воронкой на конце, под которую ставятся трехлитровые банки. Коробчатое сито вибрирует, томатное варево тягучими густыми колбасками заполняет тару. Здесь же сидят укупорщики с закупорочными машинками, иногда потряхивая банки, чтобы не было «кузнецов»-пустот. Никакой тебе стерильности, летят соломинки и пух, ветром забрасываются в чан, а вместе с ними и вездесущие мухи тоже перевариваются в томате. Никакой тебе санинспекции – ничего. Ещё горячие закупоренные банки увозятся уж не знаю куда, наверное, на какой-нибудь склад или базу.
После увиденного я долго не ела купленную томатную пасту, но она все же была натуральным продуктом без всяких тебе консервантов, а веточки и соломинки оставались на днище сита. Про мух ничего не могу сказать, на днище их не оставалось! Потом вся эта картина подзабылась, а сейчас вспоминается про изготовление настоящей томатной пасты, когда открываешь стерильные (возможно!) жестянки непонятно с чем. Это может быть крахмал, мука, ещё что-нибудь вязкое красного цвета с неясным привкусом помидоров, но только не чудная колхозная томатная паста, густая и пахучая из настоящих южных томатов.
На этих сельскохозяйственных работах мне однажды пришлось испытать ни с чем не сравнимое удовольствие ночевку в стогу. Присмотрели себе с девчатами огромную скирду, прямо с двухэтажный дом. Вечерком притащили втихаря лестницу, т.к. разорять утрамбованные стога не рекомендовалось, и взобрались на вожделенную травяную перину. Начали со смехом и шутками устраиваться, рыть себе норки и лежбища. Эйфория – «на воздухе, в стогу, без разрешения» – все не наступала. Наконец, устроились, угнездились, успокоились и… замолчали. По земле клубился густой туман, какой иногда бывает после жаркого летнего дня. Стог сена медленно плыл по его дымному морю. Вокруг нас вдруг поднялась теплая, запашистая травяная волна, духмяная и пьянящая. Звёзды мигали нам прямо в глаза, ослепительно и нахально, вот здесь, рядом. Девчачье чириканье замолкло – мы почувствовали себя, наверное, в первый раз, пылинками мироздания, хотя и не могли тогда понять этого ощущения. Лежали, молчали, смотрели в бархатное небо, каждая думала о своём, незаметно уснули. Утром выяснилось, что чьи-то добрые руки, и я подозреваю, что наших «милых друзей»-сельчан, убрали лестницу от стога. Подумаешь! С гиканьем и визгом мы съехали на «пятой точке», и это только прибавило удовольствия от ночевки в стогу.
Кормили нас на полевом стане от пуза: наваристый борщ со свининой, сметаной, с необыкновенно вкусным ароматным и мягким хлебом, который пекли в колхозной пекарне, а на второе, третье и какое угодно блюдо был продукт самого сбора: помидоры, огурцы, вареная молодая кукуруза «молочно-восковой спелости», арбузы. Если я говорю, что кормили «от пуза», то это совсем не ради красного словца. Поправлялись мы все на этих сельскохозяйственных работах, как на дрожжах. Аппетит был после работы отменный. Да и кто в молодости страдал отсутствием оного?
Уборка арбузов сыграла с нами особенно злую шутку: ели, нет – хавали! мы арбузную продукцию прямо не в себя, да как хавали, да какие кавуны! Огромные, сладкие, сахаристые и, что их делало еще более сладкими, на халяву. Вот представьте: наработав на свежем воздухе приличный аппетит, умяв пару мисок борща с мясом, заедали его не менее чем половинкой арбуза с ломтем, а то и двумя, хлеба, который пекся в колхозной пекарне и пах одуряющее, заваливались на послеполуденный отдых. Мы не то что растолстели а, наоборот, при тонких ручках-ножках, арбузы-то мочегонное средство, заимели о-о-очень выпуклые животики и имели вид, причем все, слегка беременных. Кроме того, из средств гигиены имея только старую колоду для выпаивания лошадей, которая наполнялась водой каждое утро мальчишкой-водовозом, мылись ночью при свете луны, а т.к. многие засыпали до наступления ночи, то, чего греха таить, мылись мы редко, покрылись прыщами, какими-то лишайными белыми пятнами, красными пятнами от солнца, угрями и, как результат, запаршивели.
А тут ещё у меня стибрили мою красивенькую мочалочку для лица, собачку из поролона нежно-розового цвета, заграничный подарок сеструхи! Ни у кого такой не было! Не смогла, видимо, удержаться какая-нибудь девчонка при виде такой роскоши, ну не смогла! И вот я, такая прыщавая и пузатая, возвращаюсь домой, должен приехать из Москвы Витя-жених, а тут, здравствуйте! – куршивая невеста на тоненьких ножках и с арбузным наполнителем животика. Пришлось назначать свидания на первые дни только вечером, надевать платья с оборочками и замазывать наиболее пламенеющие прыщи доморощенным тональным кремом – зубной пастой смешанной с незаменимой пудрой «Кармен» до естественного оттенка кожи.
Витя каждые каникулы, зимние и летние, приезжал непременно в Ростов на правах официального жениха. Уже через год выяснилось, что никакого звания им после третьего курса не присвоят, но я замуж не спешила, хотя многие мои подружки уже обзавелись супругами прямо в 18 лет. В мои 22 года я считалась почти старой девой, хотя все предрекали мне скорое замужество, особенно учителя в школе, слишком бойкой девушкой я им казалась. А я пообещала своему жениху, что дождусь его, вот и ждала. Витя познакомил меня со своими родителями как с невестой, я подружилась с его сестрой Валей, и иногда мы проводили несколько дней у него в гостях, ели огромные медовые абрикосы из их сада, ходили в кино и на танцы.

