
Полная версия
Продавец снов
– Да, лучше чем художник художнику, прямо скажем – как знающий своё дело лектор.
– За понимание! – сказал Ангел, поднимая очередную рюмку.
– Может, споём, – предложил Кузьмич.
– Споём, – одобрил Альберт. – Только давай такую песню, брат Кузьмич, чтобы чертям тошно стало. У тебя есть такая?
– Конечно, есть, – воспрянул духом слесарь и, не раздумывая, запел:
Наш паровоз, вперёд лети.В Коммуне остановка.Другого нет у нас пути —В руках у нас винтовка.Его приятный баритон выводил любимую песню. При этом Кузьмич старательно грохотал по столу кулаками, изображая перестук колёс, летящего вперёд этого самого паровоза.
Таким вдохновенным исполнением песни Ангел был потрясён. Он схватил рядом стоящий торшер, увенчанный зелёным абажуром, и стал им семафорить, давая свободный путь мчавшейся могучей железяке с серпасто-молоткастой звездой, за которой клубами дыма и паровозными гудками тянулась прокопчённая на баррикадах песня. И главный машинист Кузьмич со счастливым, одухотворённым лицом и со слезами на глазах, поддавая пару, вёл паровоз в такую далёкую, недосягаемую коммунию.
Эта самодеятельность могла продолжаться вечно, если бы Ангел не опустил шлагбаумом руку. Кузьмич прервал песню и, издав протяжный гудок, остановил паровоз.
– Есть идея! – широко улыбаясь, сказал Ангел. – Зачем нам просить Погодина? Мы и без его творчества можем за смаком слетать туда-сюда.
– Ну, ты голова! – просиял слесарь. – А как это?
– Как всё гениальное, – заскромничал Альберт. – Как в шахматной партии – мат в два хода.
– Стой, стой, – замахал руками Кузьмич. – Только всё это сделать надо завтра утром. Понимаешь, сейчас в «Продмаге» собрание идёт, а это, брат Альберт, очень ответственная вещь. Одно слово – политика.
– Считай, что оно уже наступило!
– Что?
– Утро!
– Да ты просто чудотворец! Ну почему у нас у людей всё не так, как у вас, ангелов: раз тебе – и пожалуйста, всё готово! Мы пыжимся, пыжимся пятилетку за пятилеткой. Всё строим и строим светлое будущее, однако конца и края не видно, – с какой-то горечью в голосе сказал Кузьмич. – Понимаешь, обида душит.
Ангел пожал плечами:
– Наверное, всё дело в том, что у вас, у людей, одна большая задача на всех, архиважная задача: новый мир построить. Это же попробуй-ка этакую глыбу сдвинуть – пупок развяжется. А здесь всего лишь одно маленькое желание. Чего нам слетать туда-сюда, так – пустячок!
– И как же мы её решим? – взволнованно загорелся идеей слесарь.
– Ты только на минуту закрой глаза и подумай о чём-нибудь хорошем… Ну, скажем, об этом самом смаке в томатном соусе.
– Всего-то, понял! Но тогда, перед дорогой, надо обязательно принять на посошок.
– Что значит на посошок?
– Это такая традиция. Прежде чем уходить из гостей, всегда поднимается последняя рюмка на дорожку. Чтобы путь был лёгким и коротким.
– Надо же… – Ангел с пониманием кивнул. – Это ж сколько у вас хороших традиций.
– О-о-о, брат, если всё вспоминать, то и дня не хватит. Традиции – это святое, почитай как заповедь.
Слесарь наполнил рюмки от души, с горочкой, не пролив ни капли на стол. И под лимонные дольки с монастырской слезой было покончено.
Они встали из-за стола, Кузьмич довольно потёр руки.
– Вот и славненько, теперь можно и в путь!
– Сей момент будет исполнено! – сказал Ангел.
И не успел слесарь моргнуть, как они уже стояли на лестничной площадке его дома.
Глава 5
Как Стародубцев оказался в подъезде, он так и не понял – всё произошло мгновенно.
Иван достал носовой платок, промокнул им выступившую на лбу испарину, огляделся и обмер. Его окружали отнюдь не «родные пенаты» – он стоял перед ржавой дверью с надписью: «Вход в убежище». Массивная железяка была опломбирована и трижды опечатана, изолируя доступ к опальной мастерской. Ступени лестницы, были исчерчены подошвами сапог. В нос бил запах кирзы и гуталина.
От мысли, что дом всё ещё окружён, у Стародубцева потемнело в глазах. Он качнулся и упёрся ладонью в холодную и влажную стену, но тотчас брезгливо отдёрнул руку.
– Пошли бы вы куда-нибудь подальше со своими фокусами! Фокусники! – со злостью процедил он сквозь зубы.
Внезапно в душу Ивана вторглось сомнение: правильно ли он сделал, что бесповоротно решил вернуться домой. И что сейчас здесь, в этой ситуации, собственно лучше – сдаться на милость властям, или всё же отсидеться в подъезде. И то и другое ему показалось чем-то нелепым. «Почему, собственно, сдаться?» – задал он себе вопрос. «Ведь я ничего противозаконного не делал, а становиться заложником этих стен – значит признать несуществующую вину». Вроде бы всё ясно и понятно как божий день, но всё равно его что-то угнетало и мучило. Он стоял в нерешительности – сделать хоть шаг казалось ему невозможным. И в то же время Стародубцев ощущал давление этих гадких стен, ему хотелось бежать из подъезда.
Душевные метания Ивана прервала хлопнувшая где-то выше на этажах дверь. И мрачный подъезд ожил. Кто-то быстро стал спускаться по лестнице вниз, безжалостно забивая каждым своим шагом гвозди в закружившуюся голову Стародубцева. Он зажмурился, стараясь почти не дышать.
«Сейчас меня увидят, увидят, – стучало у него в висках, – и что дальше, Боже, неужели выдадут? А может, пройдут мимо и не обратят внимания?»
Шаги приближались. Стародубцев вжался всем телом в эту мерзкую, отвратительную стену.
– Вам плохо? – услышал он детский голос.
Внутри у Ивана всё оборвалось. Он открыл глаза – перед ним стоял подросток.
– Боже мой, Боже мой. Что же это такое? – прошептал живописец.
Ноги его подкосились. Опираясь о плечо мальчишки, он опустился на колени.
– Вам врача вызвать? – сочувственно предложил подросток.
Стародубцев прижал к глазам ладони, и они вдруг показались ему жёлтыми листьями. Его знобило, будто за порогом был не тёплый май, а стояла глубокая осень. Иван отрицательно покачал головой. Мальчишка пожал плечами и вышел на улицу.
Стародубцев попытался встать, но ноги его не слушались. Отдышавшись с минуту, он всё же встал и, шатаясь, покинул злосчастный подъезд.
Во дворе не было ни души. Иван присел на скамейку, опустошённый и уставший, он долго не мог прийти в себя от всего случившегося. Его взгляд отрешённо бродил по безликим однообразным фасадам пятиэтажек, по качающимся от ветра верхушкам деревьев. В голове то и дело воскресали картины сегодняшнего дня. Он то ёжился, то покачивался из стороны в сторону как маятник, словно пытаясь избежать чьего-то пристального взгляда.
Лишь только тогда, когда прохладный вечер окутал сумерками дома и лёг седой поволокой тумана на дышащую теплом землю, нервное напряжение спало. Улеглась и успокоилась внутренняя дрожь. И какое-то ленивое безразличие ко всему умиротворённо заполнило душевную пустоту.
Вдруг Стародубцев ясно услышал чей-то глухой голос, какой-то далёкий и в то же время звучащий совсем рядом. Будто невидимый ворчун втемяшивал в голову то, о чём он сейчас думал, но боялся себе в этом признаться.
– Никуда ты не денешься, – бурчал голос, отгадывая его мысли. – Ну же, ну… Ты здесь ни при чём, это всё он, и всё это только из-за него. Надо идти самому и обо всём рассказать. Всё равно рано или поздно за тобой придут.
Но ворчун не договорил, кто именно во всём виноват и кто за ним придёт. Иван и так всё прекрасно понимал, без каких бы то ни было объяснений.
Стародубцев вздрогнул от ощущения, что проваливается в какую-то бездну. И, очнувшись от этого наваждения, поймал себя на том, что разговаривает с собой.
Уставший и разбитый после бессонной ночи, он добрался домой только под утро. Переступив порог своей квартиры, живописец почувствовал себя в ней, как в бумажной крепости, в которой невозможно найти надёжного укрытия.
Иван вошёл в комнату, плотно задёрнул шторы, присел на стул и, вслушиваясь в звуки, доносившиеся с улицы, закрыл глаза. Воспалённое воображение рисовало ему отнюдь не радужные картины.
Глава 6
Погодин вошёл в картинную галерею. Большой зал был отделан мрамором. Высоко над головой парил огромный, из голубого хрусталя, куполообразный потолок, инкрустированный золотыми звёздами. К его удивлению, здесь не было ничего, что говорило бы о художественной выставке. Зал был пуст.
Семён, затаив дыхание, вслушивался в тишину, чувствуя каждой клеточкой своего тела чьё-то присутствие. И этот кто-то тоже молчал, ничем не открывая себя.
Настало долгое мучительное ожидание. Время дремало, замедлив свой ритмичный ход, растягивая минуты в часы, а часы делая вечностью. Ночь вступала в свои права, набросив чёрную вуаль на всё окружающее. Контуры предметов теряли очертания. Расплываясь и принимая причудливые формы, они исчезали в темноте.
От нервного напряжения в висках стучала кровь. И всё же этот кто-то наконец смилостивился, отступил, не стал назойливо досаждать игрой в прятки. Лишь лёгкое, едва уловимое движение воздуха то ли от взмаха крыльев, то ли от плаща, нечаянно выдало его исчезновение, оставив Погодина наедине с собой.
Тишина приобретала звучание. Будто откуда-то из далёкого, давно забытого прошлого стал доноситься органный аккорд. Он тянулся, перекликаясь в тревожном созвучии с громогласным раскатом бившего в набат колокола, с надрывным переливом церковного хорала.
То вдруг в воздух взмывал одинокий голос, подхваченный эхом, и, кружась, уносился под купол небесного свода к россыпям мерцающих звёзд. Там, настигая себя самого, голос растворялся в колыбельной песне, убаюкивающей чей-то детский плач.
То, срываясь с высоты, он падал, разрывая отчаянным криком ночь. Разбившись о мраморные плиты, неумолимо ждавшие внизу, крик разлетался в истошном вопле, обнажая свою беспомощность. Давясь и захлёбываясь слезами, он переходил в хриплый стон, полный мольбы о помощи и страха перед смертью и тёмной беспредельностью, в которой нет надежды.
Вдруг до Погодина долетел шёпот, тихий-тихий, как едва уловимое дуновение ветерка. Будто на цыпочках, через снега времени, через пространство, эхо робко донесло чью-то поминальную молитву. На мгновение он замер, прислушиваясь к самому себе.
Необъяснимая смутная тревога, разрастающаяся, словно плесень, несла томящее предчувствие неизбежного столкновения с неизвестностью. Притягивая невидимыми нитями, она завораживала. Трепет перед ней оплетал сознание ледяными щупальцами и уже не отпускал никуда от своей воцарившейся власти.
Внезапно липкую темноту, как бритвой, полоснула молния. Раскаты грома прокатились оглушающей волной, и всё разом смешалось в безумном хаосе. Теперь Семён не слышал ни гулкого перезвона колокольной меди, ни трубных звуков в переливах органа. Над залом повис монотонный гул, давящий на уши, пронизывающий мозг резкой нестерпимой болью. Пространство вокруг него стало сжиматься. Ошеломлённый, он прижался к стене, кромешная темнота вновь упала на плечи.
Протяжный гул вдруг потянулся вверх до самой высокой ноты и резко оборвался перетянутой струной. И зал озарился ослепительно белой вспышкой света. Воздух задрожал и сгустился в плотную кисею, серебрящуюся, как зеркало. И на ней, словно на огромном экране, стали проецироваться картины.
Время будто распахнуло своё пространство, извлекая из глубин веков работы великих мастеров и неизвестных авторов. В этом параде бесценных полотен отражались эпохи, художественные направления, бурлящие страсти, глобальные перемены – всё то, что происходило до и после Рождества Христова. Однако же что-то было не так в этих картинах. Они были совершенно другими, не теми прирученными музейными экспонатами, пылящимися в конуре золочёных рам.
Погодин буквально раздваивался. Одна его часть оставалась заворожённым наблюдателем происходящего, потерявшая ощущение времени, другая же в смятении спешно силилась понять произошедшие с картинами преображения. Вдруг показалось, что он заглянул за черту откровения, где всё тайное становится явным.
У Семена будто открылись глаза. Ответ пришёл сам собой. Вроде бы картина закончена, но по окончании работы, спустя какое-то время, появляется чувство её незавершённости, недосказанности, неудовлетворённости. И тогда кистью художника становится его воображение. Оно продолжает творить и дальше, что-то дополняет, изменяет. Так, проходя путь очищения, работа приближается к непогрешимой истине. И сейчас он видел перед собой плоды совершенства, достигнутые вдохновением мастеров. Он будто стал свидетелям судного дня, где перед ним картины открывали свою душу, ранее завуалированную под пафосным слоем красок.
Внезапно от центра этого зеркала, где происходила вся феерия, разбежались радужные круги, и в нём отразился коридор. Он словно длинный рубленый колодец протянулся вглубь зазеркалья прочерченными квадратами множества других зеркал. Там в его чреве что-то заворочалось. И Семён вскоре разглядел очертания младенца, тянувшего к нему ручонки. Поднявшись на ещё не окрепшие ножки, малыш пошёл по коридору, направляясь к смотревшему на него Погодину. По мере приближения неуклюжие шажки становились всё более уверенными, теперь уже ребёнок спешил, учащая шаг, вскоре перешедший в бег.
Семён теперь ясно видел, как встречный ветерок трепал золотые кудри волос, открывая уже юношеское лицо. Приближаясь всё ближе и ближе, юноша простирал к Погодину руки, словно желая заключить его в объятия.
Юношеское лицо изменялось с каждым движением, черты мужали, взрослели, и, наконец, перед художником предстало его собственное отражение.
Через минуту оно стало медленно таять и вскоре исчезло, а на его месте из темноты неожиданно появился исчезнувший портрет незнакомца. Слезящиеся глаза на портрете прищурились из-под насупленных бровей и окружились россыпью морщин. Взгляды Погодина и незнакомца встретились.
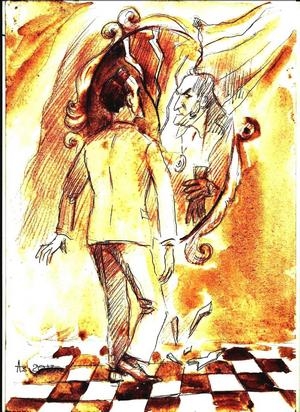
Семён вздрогнул, холодок пробежал по спине и обдал жаром. Кроме этих глаз, казалось, в мире не существовало больше ничего – кругом только пустота и пара глаз, смотрящих в упор, бездонную глубину которых он узнал бы из тысячи.
Незнакомец сделал жест рукой, приглашая художника подойти ближе. Погодин прильнул к ледяному глянцу стекла.
Вдруг глаза, смотревшие из зазеркалья, слились в один, который стал разрастаться в большое пятно. Теперь Погодин видел сияющий клочок неба, звонкий, головокружительный, чудесно голубой, вобравший в себя чистоту ручьёв и озёр.
Семён, не отрывая взгляда от происходящего чуда, буквально тонул в нём, впитывая его синеву.
Яркий луч солнца рассёк лазурную гладь, и небо распахнулось, словно створки ворот, открывая холодный провал бесконечности, по которому простиралась залитая серебряным светом лунная тропа. И чем дальше тропа уходила в зияющую глубину чёрного бархата, тем тоньше и прозрачнее она становилась. И всё то, что было снаружи, и то, что оставалось внутри, отделялось зеркалом – так же вечно и непреложно, как вчерашний день отделяется от сегодняшнего.
Погодин ударил рукой в эту преграду, в этот барьер, в эту границу бытия. Зеркало разлетелось вдребезги, ослепляя разноцветным каскадом брызг. Поток холодного ветра хлынул в лицо.
У Семёна перехватило дыхание. Выступившие слёзы жгли глаза. И вдруг он ощутил необыкновенную лёгкость. Будто с плеч упали свинцовые гири. Необъяснимая внутренняя свобода разлилась по всему телу тёплой волной. Охваченный безумной догадкой, Погодин ринулся в зовущую бездну. Подхваченный то ли неведомой силой, то ли порывом ветра, он взлетел. Щемящая сердце смутная тревога и опьяняющее чувство полёта слились воедино.
Он летел птицей, окунаясь в купель звёздного света, кричал и рыдал, как маленький ребёнок, только что явившийся на свет.
Тьма распахнулась, уступая ему дорогу, и окутанный колыбелью пространства, поднимаясь всё выше и выше, он уносился по серебряной тропе, ведущей к преддверьям великого таинства.
Глава 7
За окном зарождался день. Небо на востоке разгоралось, загоняя в подвалы Москвы ночь. Первые томные лучи солнца тронули позолотой крыши домов, скользнули в лабиринты улиц, забрезжили на окнах.
Проникнув через прокуренный желтоватый тюль в жилую комнату, служившей также и писательским кабинетом Сумелидию И. С., лучи коснулись пушистых ресниц литератора, и ласково лизнув его чело, окроплённое утренней испариной, отбросили греческий профиль на умопомрачительные обои в каштановую полоску, сплошь усаженную лавровым листом.
Ираклий Сократович мирно посапывал, развалившись в кресле-качалке, служившем ему в литературных потугах седлом Пегаса. Он причмокнул, слизнув с губ влагу пущенных во сне слюней и открыл воспалённые глаза. Затем Ираклий встал, судорожно зевнул и на цыпочках проследовал в угол комнаты, куда им были брошены домашние тапочки в попытке спугнуть серого грызуна, бесцеремонно явившегося после полуночи. Запихнув в них ревматические ноги, он зашаркал к письменному столу, зелёное сукно которого всё сплошь было изгажено чернильными кляксами. Сумелидий взял из сахарницы ложечку, аккуратно извлёк из фаянсовой чашки фамильным серебром изрядно насытившуюся вчерашним чаем разбухшую муху, и нисколько не смущаясь утопленницы, отхлебнул глоток.
В этот тихий ранний час, когда в открытую душной ночью форточку, ещё лениво потягиваясь, выползла на улицу утренняя сладкая дрёма, когда настенные ходики, мерно тикая маятником, ещё не разбудили ото сна кукушку, в дверь оглушительно забарабанили. Да так, будто в неё с треском ударил гром, и его раскаты дребезжащим эхом заметались по комнате, заухали в углах.
Ираклий похолодел. Ходики зажужжали пчелиным ульем, и стрелки часов рванули по кругу. Очумевшая кукушка вылетела, как ужаленная, из-под стрешни домика и зашлась в надрывном кряканье, будто контуженная взрывом гранаты утка.
– Тихий ужас! – проливая на стол остатки чая, прошептал слабеющий в ногах Ираклий Сократович.
Казалось, что этому кошмару не будет конца, но грохот всё же прекратился. Кукушка, оборвав крик, повисла на пружине, печально покачиваясь безжизненной тушкой.
– Это я, ваша соседка, Вихляева, – раздалось за дверью.
– Не спится?! – проскрипел зубами Сумелидий, но подумал отнюдь нецензурно. Зло сплюнул и добавил: – Прости Господи!
– Никак разбудила? – послышалось из коридора слабое извиняющееся мурлыкание.
– Разбудила, разбудила… Пожар, что ли? – раздражённо пробухтел Ираклий, вытирая со стола лужу подолом халата.
– Хуже! Гораздо хуже! – ответила соседка, будто расслышав его причитания. – И откройте, наконец, дверь, не томите женщину ожиданием!
Освежая лицо мокрым подолом, Сумелидий пошлёпал открывать входную дверь.
На лестничной площадке стояла унтер-офицерская вдова глубокого бальзаковского возраста. По молодости гражданка Вихляева работала заместителем администратора Большого театра, но будучи давно уже на пенсии, перешла на службу в Малый – билетёршей.
– Слышали вчерашние новости? – начала она с порога.
– Да я и сегодняшних-то ещё не слышал, – замотал больной головой Ираклий.
– Не мудрено, так всё на свете проспите. Вот и врагов под боком проспали!
– Каких врагов? – опешил Сумелидий.
– Вчера в нашем доме фальшивомонетчиков ловили. Правда, никого не поймали, они как сквозь землю провалились, но факт остаётся фактом. И сосед ваш по коммуналке, Андрей Кузьмич, куда-то тоже подевался. Он, случайно, не у себя дома? С самого утра ищу его, подлеца!
– Так вот оно что! То-то со вчерашнего дня в его комнате тихо было, никаких признаков жизни и завываний про «Паровоз» и «Смело, товарищи, в ногу» не доносилось. Это наводит на мысли…
– Значит, отпелся голубь, – с горечью в голосе вздохнула Вихляева. – А у меня холодильник сломался.
– А при чём тут холодильник? – изумился Ираклий.
– Так Кузьмич починить его обещал. Я даже ему авансом четверть литра чистейшего первача дала.
– Сочувствую!
– Позвольте спросить, над чем вы сейчас работаете, или, фигурально выражаясь, червячка литературного чем заморить решили? – поинтересовалась соседка.
– Да так, ерунда, всякое разное. Себя бы прокормить, не то, что червячка.
Вихляева заглянула в глаза Ираклия Сократовича.
– Кстати, вы завтракали? – И, не услышав утвердительного ответа, продолжила: – Вижу, что нет! Я знаю, вы редьку любите, так вот, я могу вам предложить сыр с очень пикантным душком, ни в чём не уступающим редьке.
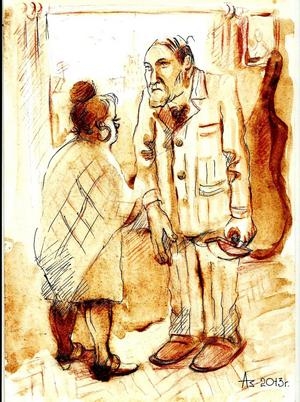
Ираклий скривился:
– Благодарю, знаете ли…
– Так я не поняла: «да» или «нет»? Что Вы всё как-то не договариваете?
– Скорее «нет-с», чем «да». Я, видите ли, с утра только яйца сырые пью.
– Фу-у-у-у! Гадость какая! Терпеть не могу! Б-р-р-р… – на сей раз скривилась Вихляева. – Кстати, о яйцах. На днях у нас в театре забавный казус приключился.
– Спасибо, но в другой раз расскажете, меня, понимаете ли, дела ждут.
Показывая, что разговор окончен, литератор двинулся на неугомонную соседку грудью.
– Ну что вы, что вы, послушайте, исключительно занятная история. Только представьте себе: осветитель сцены Горбатых, просто душечка, что за прелесть, сердобольный такой мальчишечка, ну лапочка-лапочкой, – чмокнула воздух Вихляева. – Когда напакостит, всегда краснеет, как невинная роза. Так вот, он был подкуплен Анджиевским, тем самым, который с треском провалился на премьере. Бездарность! Поганец из поганцев! Естественно, его роль отдали другому, а он в отместку за это, на второй показ, яйца тухлые принёс, и Горбатых подавил их за сценой. И по мере распространения запаха зрители стали выбегать из театра, а актёры потребовали прибавку к зарплате за работу во вредных условиях. Искали инженера по гражданской обороне, но не нашли. Назревал скандал. Дело приобретало скверный характер.
– Закрыли театр? – участливо поинтересовался Ираклий.
– Нет! – рубанула Вихляева.
– Х…м…м… Разогнали труппу? – предположил Ираклий.
– Нет! Нет! И ещё раз нет! – Она встала на мыски, сравнявшись ростом с литератором, ткнула его пальцем в лоб, отчего бессонные глаза Ираклия скользнули к переносице. – Думайте! – прошептала она. – Работайте мозгами.
– Ума не приложу… – развёл руками Сумелидий.
– Всё гораздо проще, любезный. Вы явно переспали. У вас леность воображения. Представьте себе, позвали меня, и я всех научила пользоваться противогазом. Меня ещё в Первую мировую войну мой покойный муж, Василий Данилович, этому обучал. Вот так-то.
– Что вы говорите? – артистично изумился литератор.
– Да, да. И тот час все вопросы были сняты, а меня премировали билетом в зоопарк.
– Поздравляю! – выдавил некое подобие улыбки Ираклий. – И как же вы после всего этого добрались домой?
– О-о-о, не волнуйтесь. Я, будучи юной, когда расцветала, как душистая фиалка, брала уроки борьбы у самого Ивана Поддубного. Так что за себя постоять я смогу. Хотите, что-нибудь покажу?
– Нет, нет, – шарахнулся в сторону Ираклий, – как-нибудь в другой раз.
– Так вы точно сыру не хотите, а то я принесу?
– Нет, нет! Мне работать надо, – замахал руками Сумелидий.
– Да бросьте, знаю я вас, скромнягу! Вы всё с душком любите.
– Боже упаси! Я понимаю вашу заботу, но каждому – своё. Я сыра, пардон, терпеть не могу, любезная вы наша! У меня от него изжога. А за новость – спасибо! Приму к сведению.
– Не то что примите, а запишите себе вот здесь, писака, – сказала Вихляева и опять ткнула его пальцем в лоб.
– Что вы всё в меня тыкаете, как хлебный мякиш на свежесть проверяете, – возмутился писатель.
– Не льстите себе, вы непробиваемый толстокожий сухарь, – сказала соседка и, гордо подняв голову, удалилась к себе домой.
Глава 8
Ираклий захлопнул дверь, прошёл в свою комнату, сделал глубокий вдох и ощутил, как на душе становится легко и даже как-то радостно. Разом ушли мысли, так долго отягощавшие его, будто внутри ослабла взведённая пружина.
«Главное, все счастливы», – подумал он. «Одни счастливы, что не попались, другие – что отделались всего лишь испугом, третьи – что разнесли эту новость, а я счастлив по-своему». – Он потёр руки и расплылся в счастливой улыбке. Но перед ним, как ложка дёгтя в бочке мёда, всплыл недавний конфликт с художником Погодиным.
В одной из центральных газет вышла разгромная статья про Нобелевского лауреата по литературе. В ней интеллигенция, раболепно подражая Генсеку, изображая себя родом из народа, дубасила этого самого лауреата. Также на его примере литературная элита выравнивала в прямую линию партии извилины в мозгах сомневающихся. Как литератор, в это праведное дело свою лепту внёс и Сумелидий. Будто в припадке паранойи, он гневно выписывал желчью каждую букву, требуя прополки сорняков в писательской среде, гражданской казни и высылки из Союза вчерашнего собрата по перу.

