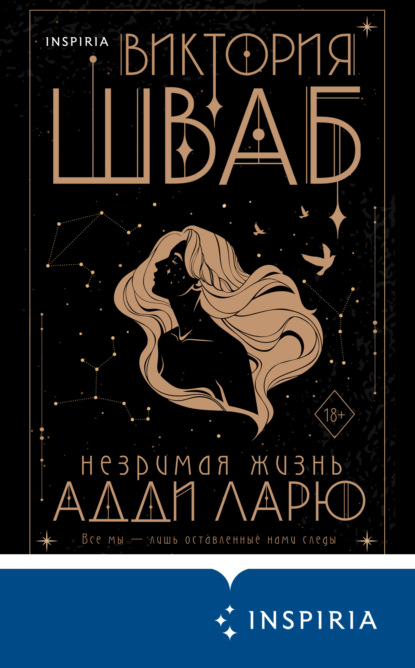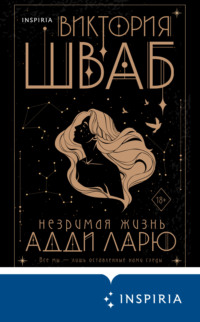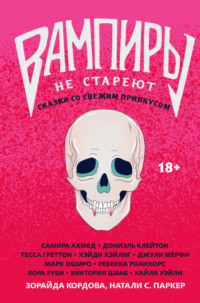Полная версия
Незримая жизнь Адди Ларю
Она пытается опять произнести свое имя, на сей раз уменьшенный вариант – Адди, а затем фамилию – Ларю, но все тщетно. Слова застревают между разумом и языком. Однако в ту же секунду, когда Аделин делает вдох, чтобы сказать любое другое слово, оно рождается запросто, воздух наполняет легкие, и горло совершенно свободно.
– Отпусти меня, – умоляет мать.
– Что здесь творится? – требовательно вопрошает низкий и глубокий голос.
Голос, что утешал Аделин ночами, когда она болела, рассказывал ей сказки, пока она сидела полу в мастерской отца.
Сам он с охапкой дров стоит на пороге.
– Папа… – бормочет Аделин, и тот отшатывается, будто его ударили.
– Она сумасшедшая, – всхлипывает мать, – или злой дух.
– Я ваша дочь! – настаивает Аделин.
Отец морщится.
– У нас нет детей.
Это слова вонзаются в нее тупым ножом. Рана становится еще глубже.
– Не может быть, – качает головой Аделин, не веря в нелепость происходящего. Каждый день и каждую ночь из своих двадцати трех лет она ночевала под этой крышей. – Вы же меня знаете!
Как они могли ее не узнать? Аделин так похожа на родителей – глаза отца, подбородок матери, лоб, губы… Все черты почти точная копия. Они ведь тоже это видят, они должны!
Однако для родителей это всего лишь очередное доказательство злых чар.
Мать осеняет себя крестным знамением, руки отца обхватывают Аделин, и ей хочется прижаться к нему, окунуться в его тепло и силу, однако он лишь тащит ее к двери.
– Нет… – умоляет она.
Мать рыдает, прижав одну руку ко рту, другой сжимая деревянное распятие на шее. Она называет свою дочь порождением дьявола, чудовищем, сумасшедшей, а отец, ни слова не произнеся, крепко стискивает ее руку и вышвыривает из дома.
– Уходи… – почти просящим тоном велит он.
На лице его отражается печаль, но не та, что приходит вместе с узнаванием. Нет, так сожалеют о потерянных вещах, дереве, вырванном бурей, захромавшей лошади, резном орнаменте, испорченном неловким движением.
– Пожалуйста, – молит она, – папа…
Но он, помрачнев, выталкивает ее в темноту и захлопывает дверь, запирая дом на засов. В смятении, дрожа от ужаса, Аделин отшатывается. А потом поворачивается и мчится прочь.
* * *– Эстель… – тихо шепчет она, словно молитву. У дома же старухи кричит в полный голос: – Эстель!
В хижине горит лампа. Когда Аделин подбегает к двери, у входа уже стоит Эстель, ожидая незваную гостью.
– Кто ты? Чужеземка или злой дух? – осторожно вопрошает старуха.
– Ни то, ни другое, – отвечает Аделин, представляя, как, должно быть, выглядит: платье разорвано, волосы растрепаны. Она выкрикивает слова точно заклинание: – Я человек из плоти и крови и знаю тебя всю жизнь. Ты делаешь для ребятишек куколки-обереги, чтобы малыши не болели зимой, считаешь персики самыми сладкими из фруктов, говоришь, что церковные стены слишком толстые и не пропускают молитвы, и хочешь, чтобы тебя похоронили не под камнем, а в тени большого дерева.
В чертах старухи что-то неуловимо меняется, и Аделин замирает, надеясь, что наконец узнана.
Но проблеск слишком мимолетен.
– Смышленый дух, – говорит Эстель, – но в мое жилище не войдешь.
– Я не дух! – вскрикивает Аделин и бросается к свету, исходящему от двери. – Ты рассказала мне о старых богах и способах их вызывать, но я ошиблась. Они все молчали, а солнце село слишком быстро. – Она крепко обхватывает себя, не в силах унять дрожь. – Я обратилась к ним чересчур поздно, кто-то ответил, и все пошло наперекосяк.
– Глупая девчонка, – упрекает ее Эстель. На сей раз голос звучит уже теплее. Словно она узнала гостью.
– И что же мне делать? Как все исправить?
Но старуха лишь качает головой.
– Тьма играет в собственные игры, – говорит она. – Устанавливает свои правила. И ты проиграла.
Сказав это, Эстель возвращается в дом и запирает дверь.
– Постой! – кричит Аделин.
Она всем телом ударяется в закрытую створку и рыдает, пока у нее не подкашиваются ноги. Аделин опускается на холодные каменные ступени, продолжая колотить кулаком по дереву.
А потом внезапно засов открывается. Дверь распахивается и появляется Эстель.
– Что стряслось? – спрашивает она, изумленно рассматривая девушку, которая скорчилась на ее крыльце.
Старуха смотрит на нее так, словно они никогда не встречались. Прошедшие минуты напрочь стерла запертая дверь. Недоуменный взгляд скользит по испачканному свадебному платью, растрепанным волосам, грязным ногтям, но на морщинистом лице нет узнавания, одно лишь сдержанное любопытство.
– Ты чужеземка? А может, злой дух?
Аделин крепко зажмуривается. Да что ж такое? Она все еще неспособна исторгнуть из горла звук своего имени. Когда ее приняли за злого духа, то вытолкали взашей, потому Аделин тяжело сглатывает и отвечает:
– Я не из ваших мест. – По ее лицу струятся слезы. – Пожалуйста… Мне некуда больше пойти, – умоляет она.
Старуха смотрит на нее долгим взглядом и все же кивает.
– Жди здесь, – говорит она, улизнув обратно в дом.
Аделин никогда не узнает, что собиралась сделать Эстель, поскольку дверь захлопывается и остается закрытой, а Аделин так и сидит на коленях, дрожа больше от потрясения, чем от холода.
Она сидит еще долго, сама не знает, сколько, но когда пытается подняться – ноги совершенно не слушаются. Аделин направляется мимо дома старухи к деревьям, растущим позади, что стоят стеной, словно часовые, – прямо в беспросветную тьму.
– Покажись! – кричит она.
Но раздается только шорох расправленных крыльев, шуршание листьев под ногами, рябь потревоженного сонного леса. Аделин вызывает в памяти его лицо, эти черные локоны, зеленые глаза, старается снова придать мраку форму, но проходят мгновения, а она по-прежнему одна.
Я не хочу никому принадлежать.
Аделин ступает в глубину леса. Это совсем нехоженое место, повсюду переплелись ежевика и кустарник, колючие ветки цепляют ее за голые ноги, однако беглянка не останавливается, пока вокруг не смыкаются деревья, чьи ветви заслоняют луну над головой.
– Я призываю тебя! – выкрикивает она.
Разве я какой-то джинн, связанный твоими желаниями?..
Низко растущая ветка, что наполовину утопает в лесном ковре, хватает Аделин за ноги. Она тяжело падает, вспахивая коленями неровную землю, а руками разрывая поросшую травой почву.
Пожалуйста, я отдам что угодно!
Из глаз вдруг брызжут слезы. Глупая, глупая, глупая! Аделин в отчаянии бьет кулаками по земле.
Это гадкий фокус, кошмарный сон, но он пройдет! Сны ведь по своей природе недолговечны.
– Проснись! – шепчет она во тьму.
Проснись.
Аделин сворачивается клубком на лесной подстилке, зажмуривается и видит залитое слезами лицо матери, искаженное тоской лицо отца, усталый взгляд Эстель. Она видит мрак – он улыбается. Слышит его голос, шепчущий слова, что связали их навеки.
По рукам…
XI
10 марта 2014
Нью-Йорк
В траву поблизости приземляется фрисби. Раздается топот бегущих ног, Адди открывает глаза и успевает заметить лишь огромный черный нос, стремительно приближающийся к ее лицу, а затем собака покрывает ей щеки влажными поцелуями.
Засмеявшись, Адди садится и треплет густую шерсть. И едва успевает схватить зверюгу за ошейник, не дав той стащить пакет с оставшимся маффином.
– Привет! – машет она хозяину собаки, который с противоположной стороны лужайки выкрикивает извинения.
Адди бросает фрисби обратно, и пес уносится прочь. Она дрожит от холода – сна больше ни в одном глазу. Таков уж март: тепло всегда заканчивается быстро. Есть в этом месяце узкий промежуток, когда он притворяется весной. Этого достаточно, чтобы, греясь на солнце, вы оттаяли, но тепло недолговечно. Солнце уходит, и подкрадываются тени. Адди снова дрожит и рывком поднимается с лужайки, отряхивая леггинсы.
Надо было украсть штаны потеплее.
Спрятав бумажный пакет в карман, Адди сует книгу Фреда под мышку и покидает парк, направляясь на восток, вниз по Юнион, а потом вверх к набережной.
На полпути она замирает, заслышав звуки скрипки, ноты ложатся одна к одной, точно спелые фрукты. У края тротуара на табуретке пристроилась женщина, зажав инструмент подбородком. Плывет мелодия, медленная и нежная, и Адди мысленно возвращается в Марсель, Будапешт, Дублин…
Горстка прохожих останавливается послушать. Песня заканчивается, и раздаются негромкие аплодисменты, а затем снова звуки шагов. Адди, отыскав в кармане последнюю мелочь, бросает ее в распахнутый футляр, и музыка возобновляется, становясь более легкой и глубокой.
Добравшись до кинотеатра в Коббл-Хилл, Адди проверяет расписание, потом толкает дверь и быстрым шагом пересекает переполненный вестибюль.
– Привет! – перехватывает она парнишку с метлой. – Похоже, я забыла сумочку в третьем зале.
Врать легко, если знаешь, что сказать.
Уборщик кивает, не поднимая глаз, и Адди ныряет под бархатный шнур билетера в темный коридор. С каждым шагом ее походка становится размереннее. Из одних дверей доносится приглушенный гром – там показывают боевик. Из соседних створок просачивается музыка – романтическая комедия. Взлетают и опускаются голоса, Адди неторопливо вышагивает по коридору, изучая плакаты с анонсами и надписи с названиями фильмов над дверями. Она сто раз их видела, да и плевать.
Похоже, в пятом уже идут титры – его двери распахиваются, и в холл выплескивается толпа. Сквозь поток выходящих Адди проталкивается в опустевший зал, между первым и вторым рядом находит перевернутое ведро попкорна, чьи золотистые камушки усеяли липкий пол. Берет его и возвращается в вестибюль, где пристраивается в очередь к буфету за тремя девочками-подростками.
Наконец Адди подходит к стойке, за которой ждет юноша-буфетчик. Адди зарывается рукой в волосы, слегка их взъерошив, и огорченно вздыхает.
– Простите, – говорит она, – какой-то малыш опрокинул мой попкорн. – Адди встряхивает головой, и буфетчик эхом копирует ее движение. – Может, вы просто подсыпете мне немного, и я доплачу, чтобы не…
Она уже лезет в карман, будто бы за бумажником, но парень забирает у нее ведро.
– Не переживайте, – говорит он, озираясь, – я понял.
– Вы просто чудо, – сияет Адди, заглядывая ему в глаза, и парень отчаянно краснеет.
Заикаясь, он бормочет, что это не проблема, совсем не проблема, хотя и бросает по сторонам взгляды – не появится ли менеджер. Высыпает остатки старого попкорна, наполняет ведро свежим и, как бы тайком, передает обратно.
– Наслаждайтесь фильмом.
* * *Из всех изобретений, чье появление в мире довелось наблюдать Адди, – паровозы, электрическое освещение, фотография, телефоны, самолеты, компьютеры – больше всего она любит кино.
Книги прекрасны – они компактны и долговечны, но, когда ты сидишь во мраке кинотеатра и смотришь на большой экран, весь мир исчезает, и на несколько коротких часов можно притвориться кем-то другим. Окунуться в романтику и интриги, комедию и приключения. И все это со стереозвуком и полноформатным изображением.
Начинаются титры, и в груди вновь поселяется тяжесть. Какое-то время Адди словно парила, а теперь приходит в себя и тонет, пока ноги не оказываются прикованы к земле.
Адди выходит из кинотеатра почти в шесть вечера, солнце уже садится. Она возвращается по обсаженным деревьями улицам, проходит через парк – рынок уже закрыт и в палатках никого нет, – к проржавевшему зеленому столику. Фред все еще сидит в своем кресле и читает «М – значит молчание». Раскладка переплетов на столе немного изменилась: тут зияет дыра на месте проданной книги, там – воткнут новый корешок. Свет тускнеет, скоро Фреду придется собрать коробки и унести их обратно в дом, подняться на два этажа вверх в свою спальню. Адди не раз предлагала ему помощь, но Фред решительно отказывался. Этим он тоже напоминает Эстель – несгибаемую, точно черствый хлеб.
У столика Адди ныряет вниз и поднимается с книгой в руке, словно та только что упала. Осторожно, чтобы не опрокинуть стопку, кладет ее обратно. Наверное, Фреду как раз попался какой-нибудь захватывающий момент: он что-то бурчит, даже не взглянув на Адди или бумажный пакет, который та примостила поверх книги. С последним шоколадным маффином.
Фреду нравятся только шоколадные. Однажды утром он рассказал Адди, как Кэндес всегда устраивала ему выволочку за любовь к сладкому, приговаривая, что она сведет его в могилу, но жизнь – та еще сволочь с извращенным чувством юмора. Кэндес больше нет, а он до сих пор ест дерьмо (слова самого Фреда, не Адди).
Холодает, и Адди прячет руки в карманы. Она желает Фреду доброй ночи, а потом отправляется дальше, повернувшись спиной к заходящему солнцу и догоняя тень, которая вытянулась далеко вперед.
* * *Уже совсем темнеет, когда Адди добирается до «Эллоуэй», одного из тех баров, что, похоже, кичатся статусом дешевой забегаловки, только все портят многочисленные визиты знаменитостей, желающих «почувствовать Бруклин». У тротуара слоняется кучка людей. Они курят, болтают, ждут друзей, и Адди ненадолго задерживается среди них. Стреляет сигарету, просто чтобы чем-то заняться, и старается как можно дольше сопротивляться желанию легко толкнуть дверь. Ее настигает дежавю.
Она знает этот путь. Знает, куда тот ведет.
Внутри помещение «Эллоуэй» формой напоминает бутылку виски: узкое горлышко входа, стойка темного дерева, ведущая к комнате со столиками и стульями. Адди присаживается у бара. Парень слева предлагает ей выпивку, и она соглашается.
– Дай угадаю, – улыбается он, – розе?
Адди хотела было заказать виски, просто чтобы посмотреть, как вытянется от удивления его лицо, однако это совсем не ее напиток. Она всегда любила сладкое.
– Шампанское.
Парень делает заказ, и они ведут непринужденный разговор, пока не раздается звонок, и незнакомец отходит, пообещав скоро вернуться. Адди отлично знает, что его не стоит ждать, и даже благодарна за это. Она потягивает шампанское – скоро на сцену выйдет Тоби.
Тот выходит, садится, приподняв одно колено, чтобы примостить на нем гитару, и робко, почти виновато улыбается.
Тоби еще не научился захватывать внимание публики, но у него все впереди. Он оглядывает небольшую толпу и начинает играть. Адди закрывает глаза, растворяясь в музыке. Тоби исполняет несколько каверов, затем один из напевов собственного сочинения в стиле фолк.
А потом это.
Над залом пролетают первые аккорды, и Адди снова оказывается в квартире Тоби, где сидит за фортепиано, извлекая ноты из клавиш. Он тоже там, прямо позади нее, и пальцы его лежат поверх ее пальцев.
Затем все сливается воедино, в мелодию вплетаются слова. Теперь она принадлежит Тоби. Будто росток, что пустил корни. Тоби будет помнить без посторонней помощи. Не ее – конечно, не ее, – но песню. Их песню.
Музыка заканчивается, сменяясь аплодисментами. Тоби бочком пробирается к стойке, берет себе «Джек Дэниелс» с колой (для него выпивка за счет заведения), где-то между вторым и третьим глотком замечает Адди и улыбается. На какой-то миг ей кажется, он ее вспомнил. Однако правда в том, что Тоби просто ее хочет. При плохом освещении влечение легко принять за узнавание.
– Извини, – говорит Тоби, наклоняя голову, как делает всегда, если смущается. Как в то утро, когда нашел ее у себя в гостиной.
Кто-то задевает Адди за плечо, протискиваясь к двери.
Адди моргает, и морок рассеивается.
Она так и не вошла. Все еще стоит на улице, сигарета в руке истлела до фильтра. Незнакомец придерживает для нее створку:
– Заходишь?
Адди качает головой и заставляет себя отступить – от проема двери, от бара, от парня, который вот-вот выйдет на сцену.
– Не сегодня, – отвечает она.
Оно того не стоит.
XII
10 марта 2014
Нью-Йорк
Окутанная ночью, Адди бредет по Бруклинскому мосту. Весна поманила обещанием тепла и схлынула, точно прилив, вновь сменившись влажным холодом зимы. Адди выдыхает облачко пара, плотнее кутается в куртку и пускается в долгий путь по Манхэттену. Можно было просто поехать на метро, но Адди не любит находиться под землей, где воздух спертый и затхлый, а туннели так похожи на гробницы. Оказаться в ловушке, быть похороненной заживо – вот чего ты боишься, если неспособна умереть. К тому же Адди не против прогуляться. Она знает, как сильны ее ноги, и наслаждается усталостью, которой раньше опасалась.
Совсем в позднем часу, с онемевшими от холода щеками, еле волоча ноги, Адди добирается до «Бакстера» на Пятьдесят шестой. Портье в элегантной серой форме придерживает дверь, и Адди входит в мраморный вестибюль. От внезапного прилива тепла кожу начинает покалывать. Мечтая о горячем душе и мягкой постели, Адди направляется к распахнутым дверям лифта, но консьерж за конторкой поднимается с места.
– Добрый вечер, – говорит он. – Чем могу помочь?
– Я к Джеймсу, – отвечает Адди, не замедлив шага. – Двадцать третий этаж.
– Его нет, – хмурится консьерж.
– Так даже лучше, – улыбается Адди, заходя в лифт.
– Мэм! – кричит он, торопясь за ней. – Нельзя просто…
Но двери уже закрываются. Ему не успеть, и он это знает. Портье разворачивается к конторке, тянется к телефону позвонить в службу безопасности, и это последнее, что видит Адди перед тем, как створки смыкаются.
Возможно, он поднесет трубку к уху, даже начнет набирать номер, а потом мысль ускользнет. Портье недоуменно вытаращится на телефон, гадая, что же собирался сделать, горячо извинится перед голосом на том конце линии и опустится в свое кресло.
* * *Квартира принадлежит Джеймсу Сент-Клеру. Пару месяцев назад они познакомились в кафе в центре города. Когда он вошел, все места были заняты. Из-под его зимней шапки выбивалась белокурая прядь волос, очки запотели от холода. В тот день Адди была Ребеккой. Не представившись, Джеймс поинтересовался, нельзя ли присесть к ней за столик. Он увидел, что незнакомка читает «Chéri» Колетт, и сумел произнести пару фраз на неловком ломаном французском. Затем сел, и после обмена улыбками завязалась непринужденная беседа. Забавно, многим требуются годы, чтобы оттаять, а другие запросто заходят в каждую комнату, как к себе домой.
Джеймс был как раз из последних, тех, которые мгновенно вызывают симпатию.
На его вопрос Адди ответила, мол, она поэтесса. Соврать было легко – никто ни разу не спрашивал доказательств. Про себя же Джеймс объяснил, что у него перерыв между проектами. Адди растягивала свой кофе сколько могла, но в итоге чашка все равно опустела, как и у Джеймса. К тому же в заведении появились новые клиенты, которые словно стервятники принялись кружить в поисках свободных стульев. Джеймс начал вставать, и Адди окутала знакомая грусть. Но тут Джеймс поинтересовался, любит ли она мороженое, и, хотя стоял январь и земля была покрыта льдом и солью, Адди ответила, что любит. На сей раз они поднялись из-за столика вместе.
И вот теперь Адди набирает на консоли у его двери шестизначный код и заходит внутрь. Включается свет, заливая деревянный пол и чистые мраморные столешницы, роскошные портьеры и мебель, что все еще выглядит нетронутой. Кресло с высокой спинкой. Кремовый диван. Стол с аккуратными стопками книг.
Адди расстегивает сапоги, выступает из них у порога и босиком шагает по квартире, бросив куртку на подлокотник кресла. На кухне наливает стакан мерло, из ящика в холодильнике берет брусок сыра Грюйер, а из буфета – коробку деликатесных крекеров и устраивает импровизированный пикник в гостиной, где за стеклом от пола до потолка расстилается город.
Она роется в аудиозаписях Джеймса, выбирает Билли Холидей, усаживается, подогнув колени, на кремовый диван и принимается за еду.
Она могла бы полюбить такой дом, будь тот ее собственным. Удобная кровать. Полный шкаф одежды. Дом, где повсюду были бы следы ее жизни, вещественные доказательства памяти. Но, похоже, Адди неспособна удержать что-либо надолго.
Хотя не сказать, чтобы она не пыталась.
Адди годами собирала книги, хранила предметы искусства, прятала в сундуки изысканные платья. Но что бы она ни делала, вещи пропадали. Исчезали одна за другой или все разом, унесенные странными стечениями обстоятельств, а может, просто временем. Только в Новом Орлеане у нее был дом, да и тот принадлежал не ей одной, но теперь его больше нет.
Единственное, от чего Адди не может избавиться, – это кольцо. Было время, когда она боялась снова с ним расстаться. Время, когда Адди оплакивала потерю. Когда ее сердце радостно забилось при мысли вновь обладать им десятилетия спустя.
Теперь же она его не выносит. Оно неприятно тяготит карман ненужным напоминанием об очередной утрате. Каждый раз, когда пальцы задевают деревянный ободок, Адди буквально ощущает, как мрак целует ей костяшки, снова надевая кольцо.
Видишь? Теперь мы в расчете.
Вздрогнув, Адди опрокидывает бокал, и через край выплескиваются капли красного вина, кровавыми отметинами ложась на кремовую обивку дивана. С уст Адди не срывается ругательство, она не мчится за газировкой и полотенцем. Просто наблюдает, как пятна впитываются и исчезают. Словно их никогда и не существовало.
Словно никогда не существовало Адди.
Она поднимается и идет принимать ванну. Смывает грязь городских улиц душистым маслом, оттирает кожу дочиста стодолларовым мылом. Когда все утекает сквозь пальцы, ты учишься смаковать ощущения. Адди откидывается на бортик ванны и вдыхает аромат лаванды и мяты.
В тот день они отправились за мороженым, она и Джеймс, а потом голова к голове ели его в кафе, воруя сироп друг у друга из чашек. Шапку он бросил на столик, обнажив светлые кудри, и выглядел совершенно ошеломительно. И пусть не сразу, но все же Адди заметила, что за ним следят.
Она привыкла к мимолетным взглядам – у нее были резкие, но женственные черты: созвездие веснушек на щеках, сияющие глаза. Красота, над которой не властно время, как ей говорили. Но здесь крылось нечто иное. Люди поворачивали головы. Задерживали взгляды. Когда она поинтересовалась, почему, Джеймс посмотрел на нее с веселым изумлением и признался, что на самом деле играет в довольно популярном шоу. Сказав это, он залился румянцем, отвернулся, а затем снова глянул на Адди, будто готовился к каким-то радикальным переменам. Но она никогда не видела его шоу, а даже если бы и так, Адди не из тех, кто сходит с ума по знаменитостям. Слишком долго жила она на свете, слишком много знала актеров. И даже, можно сказать, в большей степени предпочитала тех, кто все еще не закончил искать свой образ.
Итак, Джеймс и Адди продолжили…
Она посмеивалась над его мокасинами, свитером, очками в проволочной оправе. Джеймс отшучивался, что родился не в том десятилетии. Адди заявила, что родилась не в том веке. Он дурачился, а она нет, однако в его манерах и впрямь проглядывало нечто старомодное. Ему было всего двадцать шесть, но в разговоре Джеймс немного понижал тон и произносил слова неторопливо, как человек, который знает силу своего голоса. Он принадлежал к тому типу молодых людей, что одевались на манер своих отцов. Глупая возня юношей, которые слишком торопятся повзрослеть.
Голливуд тоже это заметил, и Джеймсу стали доставаться роли в костюмных пьесах.
– Мое лицо создано для сепии, – пошутил он.
– Лучше для нее, чем для радио, – улыбнулась Адди.
Он и впрямь был красив, однако что-то в нем было не так. Джеймс улыбался чересчур уверенной улыбкой человека с секретом. Они доели мороженое, и тогда Джеймс признался. Легкая радость, которой он фонтанировал, угасла, Джеймс уронил пластиковую ложечку в чашку, закрыл глаза и произнес:
– Извини.
– За что? – удивилась Адди.
Он откинулся на спинку стула и взъерошил волосы. Со стороны жест мог показаться небрежным, как кошачье потягивание, но стоило Джеймсу заговорить, на лице его отразилась боль.
– Ты очень красивая, добрая, забавная…
– Но? – надавила Адди, предчувствуя проблемы.
– Я – гей.
Слово будто застревало у Джеймса в горле, пока он объяснял, какое давление на него оказывали, как он ненавидит пристальный взгляд СМИ и все их претензии. Пошли сплетни, люди начали задавать вопросы, а он оказался не готов им рассказать.
И тогда Адди поняла, что все это постановка. Сцена, разыгранная на всеобщее обозрение в стеклянной витрине кафе-мороженого. Джеймс продолжал извиняться, мол, не следовало ему флиртовать, использовать ее подобным образом. Но Адди не прислушивалась к его словам.
Взгляд у него стал остекленевшим, заставляя ее задуматься, не к этому ли приему он прибегал, когда по сценарию требовались слезы. Если, конечно, Джеймс именно этого добивался. У Адди, разумеется, тоже имелись секреты, но ей ничего не оставалось, как продолжать их хранить.