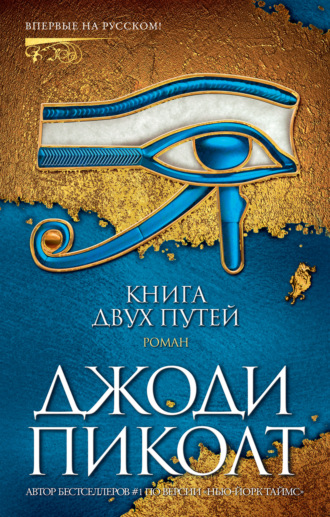
Полная версия
Книга двух путей
– Типа человеческого сознания?
– Именно это и предположил Джон фон Нейман. Но что делает людей настолько особенными, что они способны определить момент мгновенного перехода квантовой системы в одно из состояний с определенным значением? А что, если за процессом наблюдает не человек… а что, если это хорек? И как насчет кота в коробке? Мы знаем, что кот вполне справедливо заинтересован в исходе. Итак, способен ли он изменять состояние электрона, или триггера, или ружья? В теорию коллапса верили крутые ребята до тысяча девятьсот пятидесятых годов, когда Хью Эверетт Третий нашел еще одну причину, почему мы не видим, как по земле гуляют коты-зомби. Он сказал, что, подобно тому как электрон, и триггер, и ружье, и кот являются квантовыми объектами, им же является кто-то или что-то, кто наблюдает за тем, что в коробке. – Изобразив машущего рукой схематичного человечка, Брайан пририсовал ему юбку – показать, что это женщина, – после чего продолжил: – Сперва она стоит рядом с коробкой и не знает, что увидит, когда заглянет внутрь. Но в ту минуту, когда она поднимает крышку… она делится на две отчетливые копии самой себя. В одной версии себя она видит кота с мозгами, размазанными по всей коробке. В другой – слышит мяуканье. Если вы спросите ее, что она видела, одна ее версия скажет, что кот мертв, другая – что он жив. Наблюдатель видит только один исход, но никогда оба, хотя по законам квантовой механики имеют место обе версии существования чертова кота. А причина, почему она видит только один исход, состоит в том, что она попала в одну из временны́х шкал и не может видеть другую. – Брайан ухмыльнулся. – Это теория Эверетта. Причина, по которой мы не видим котов-зомби или вращения электронов в обе стороны, состоит в том, что в ту минуту, когда мы смотрим на них, мы становимся частью математического уравнения и сами расщепляемся на множество временны́х шкал, где различные версии нас самих видят различные конкретные исходы.
– Вроде параллельных вселенных, – заметила я.
– Вот именно. Я использую термин «временна́я шкала», но можно смело говорить «вселенная». Причем все это имеет значение не потому, что коты в коробках, а потому, что мы все сделаны из таких же частиц, как и те электроны. Короче, если увеличить масштаб, то все, что мы делаем, можно объяснить квантовой механикой.
– А что происходит с разными временны́ми шкалами?
– Они все больше и больше отдаляются друг от друга. Например, наблюдатель, который видит мертвого кота, может так сильно расстроиться, что в результате вылетит из магистратуры, подсядет на амфетамин и никогда не разработает технологии, способной помочь нам вылечить рак. И в то же время наблюдатель, который видит живого кота, поймет, что столкнулся с чем-то значительным, и станет деканом физического факультета в Оксфорде. – Брайан ткнул пальцем в стопку страниц. – Именно то, чем я и занимаюсь. Медленно разрушаю свою карьеру, пытаясь доказать, что мультивселенная постоянно разветвляется, создавая новую временну́ю шкалу всякий раз, как мы принимаем решение или вступаем во взаимодействие.
– А почему это должно разрушить твою карьеру?
– Просто потому, что физиков, которые в это верят, можно назвать статистическим выбросом. Но в один прекрасный день…
– В один прекрасный день тебя назовут гением. – Я запнулась. – А может, это уже происходит в другой вселенной.
– Совершенно верно. Все, что может произойти, уже происходит в другой жизни.
Наклонив голову, я уставилась на Брайана:
– Получается, в другой вселенной моя мама не умирает.
В разговоре возникла пауза.
– Нет, – ответил он. – Не умирает.
– И в другой вселенной мы никогда не встретимся.
Брайан покачал головой, краска смущения залила его кожу приливной волной.
– Но в этой вселенной, – сказал он, – я действительно хотел бы пригласить тебя пообедать со мной.
Я выхожу из душа и вижу на кровати дорожную сумку Брайана. Слышу, как в ванной снова включается вода, и смотрю на сумку. Потом со стоном отворачиваюсь, натягиваю нижнее белье, шорты, майку.
Провожу расческой по волосам, перекручиваю их жгутом, после чего в спальне вроде бы нечего делать, но уйти – выше моих сил.
Вода в душе все еще льется.
Я приближаюсь к сумке и расстегиваю молнию. Косметичка Брайана и туфли лежат сверху. Откладываю их в сторону, достаю хлопчатобумажный джемпер и обнюхиваю его. Какой-то цветочный запах. Неужели снова розы? Или это плод моего воображения?
– Дон?
Он стоит у меня за спиной, с полотенцем, обернутым вокруг талии. У меня немеют руки, холодеет тело. Поймана с поличным. Я воровка, шпионка. Дейзи, роющаяся в одежде Гэтсби.
– Я думал… у нас все в порядке.
– Потому что мы перепихнулись? – отвечаю я. – Ведь ты говорил, что это ничего не значит.
– Я с ней не спал. – Брайан садится на кровать и вырывает у меня из рук джемпер.
– Нет. Ты просто думал об этом.
Я злобная, мерзкая, неумолимая. Я зализываю свои раны с помощью яда. Брайан извинился. Мне следует его простить. Разве нет?
Но он был с ней в день рождения Мерит. Он пропустил обед. Он вернулся домой, пропитанный ароматом роз, – это и одежда, и волосы, и наш брак.
– Она тебе нравится? – Я заставляю себя задать сакраментальный вопрос. Слова острыми ножами втыкаются мне в горло.
– Ну… я хочу сказать, – запинается Брайан. – Ведь я ее взял на работу.
– Ответ неправильный, – отрывисто говорю я, вставая с кровати.
Уже на пороге спальни Брайан хватает меня за запястье и разворачивает лицом к себе:
– Я никогда никого не любил, кроме тебя.
В Бостоне однажды случилось землетрясение. Я везла Мерит домой из садика, и прямо перед нами на дорогу упало несколько деревьев. Землетрясение было совсем слабеньким по сравнению с разломом Сан-Андреас, но для людей, не привыкших к тому, что земля дрожит под ногами, даже это было шоком.
Между тем все шло своим чередом. Я приготовила Мерит на ланч макароны с сыром, отвела ее в парк покачаться на качелях, после чего сдала с рук на руки няне, так как в хосписе меня ждал пациент. Няня, округлив глаза, рассказывала о том, как кровать поехала прямо вместе с ней по полу, как баночки с таблетками посыпались с полки, словно их спихнула оттуда рука привидения. «А вы тоже почувствовали это?» – спросила она, но я в ответ лишь покачала головой. Поскольку я была в автомобиле и колеса громыхали в унисон дрожи земли, я не поняла, что происходит нечто неладное, пока мне не рассказали о землетрясении. Катастрофа чуть-чуть изменила мир, а я даже этого не заметила.
Брайан упорно не желает отпускать мою руку. Проводит по костяшкам большим пальцем:
– Дон, ну пожалуйста. Я знаю, что не могу все исправить. Но этого больше не повторится.
Я верю ему. Просто я больше ему не доверяю.
– Ненавижу сраные розы! – заявляю я и выхожу из спальни.
Самое абсурдное при воспоминаниях о прежней жизни, которая практически закончилась, – это то, что все шло своим чередом. Твое сердце может быть разбито, твои нервы могут быть расшатаны, но при всем при том мусор нужно вовремя выносить. Продукты необходимо покупать. Машину заправлять. И от тебя по-прежнему зависят люди.
По дороге к дому потенциального клиента я звоню брату.
Будучи нейрохирургом, живущим при больнице, он редко берет трубку, но сейчас, к своему удивлению, я попадаю не на голосовую почту, а слышу его самого.
– Кайран?
– Дон?
– Вот уж не ожидала тебя застать!
– Прости, что пришлось тебя разочаровать. – В его голосе звучат насмешливые нотки. – Я только что вышел из операционной. Что случилось? Погоди. Попробую догадаться. У тебя странная сыпь.
Естественно, я звоню ему по медицинским проблемам. Узнать, например, началась ли в Бостоне эпидемия гриппа, или что делать с плантарным фасциитом, или задать с десяток других вопросов, на которые брат не может ответить, так как это не его специализация.
– Нет, я здорова. Просто захотелось услышать твой голос. Я… соскучилась по тебе.
– Блин, к черту сыпь! Похоже, твое состояние тяжелее, чем я думал. Возможно, тебе нужно срочно приехать в отделение экстренной медицинской помощи.
– Заткнись! – отвечаю я, невольно улыбаясь.
– Тогда что происходит на самом деле? – спрашивает брат.
Я не решаюсь сказать.
– Просто пытаюсь вспомнить, ссорились ли когда-нибудь наши родители.
– Ничем не могу помочь. Если учесть, что, когда папа был жив, я находился в эмбриональном состоянии.
– Да, я знаю, – отвечаю я.
– Это насчет тебя и Брайана? Вы ведь никогда не ссорились.
– Похоже, все когда-нибудь бывает впервые.
Кайран ждет продолжения, но я не расположена вдаваться в подробности.
– Послушай, Дон, тебе нечего волноваться. Вы с Брайаном очень правильные. Стандарт. Вы матримониальный эквивалент восхода солнца по утрам и голубого неба, когда открываешь глаза. Вы будете вместе до скончания века. Ты это хотела услышать?
– Да, – отвечаю я. – Конечно.
В хосписе мы всегда держали кошку, предсказывающую смерть. Не кота, а именно кошку, у которой, насколько я знаю, не было клички – просто Кошка, – но которая жила в здании. В бюджете даже имелся отдельный пункт на ее питание. У нас также были две собаки для терапии, навещавшие пациентов, но кошка – животное, которое гуляет само по себе и, в сущности, чрезвычайно холодное. Насколько я понимала, единственная польза от кошки состояла в том, что она давала нам знать, когда кому-то оставалось жить меньше двадцати четырех часов.
Если, войдя в палату, я видела, что кошка, свернувшись клубком, лежит в ногах чьей-то кровати, то могла смело утверждать, что этот человек вскоре умрет. Уж не знаю, было то шестое чувство или некий обонятельный сигнал – собак ведь натаскивают определять по запаху некоторые виды рака, – но показатель успеха треклятой кошки составлял сто процентов.
Впервые я увидела, как умирает человек, только после года работы в хосписе. (Даже сейчас большинство моих клиентов умирают, когда в комнате никого нет, словно их удерживала на этом свете лишь сила воли людей, которые будут по ним скучать.) Как-то утром я вошла в палату пациентки хосписа Джудит и поймала на себе взгляд Кошки, помахивавшей хвостом.
Решив не тревожить ее дочь Аланну, которая сама ухаживала за матерью, я навскидку оценила состояние Джудит. Она не отреагировала на мой приход и тяжело дышала. Я посмотрела на Кошку, кивнула, и та, спрыгнув с кровати, медленно вышла из палаты.
– Аланна, – позвала я дочь Джудит, – если вы хотите что-то сказать маме, то говорите прямо сейчас. Ей, по-моему, недолго осталось.
Глаза женщины тотчас же наполнились слезами.
– Неужели это конец?
Если я что и узнала для себя, имея дело со смертью, так это то, что она всегда застает врасплох, даже в хосписе.
Я поставила себе стул рядом с Аланной. Она наклонилась вперед, непроизвольно задерживая дыхание всякий раз, как ее мать делала вдох. Дыхание Чейна – Стокса, характерное для умирающих, – это дыхание, при котором поверхностные дыхательные движения учащаются и, достигнув максимума, вновь ослабляются и замирают, а затем через несколько минут цикл повторяется в той же последовательности. И хотя это нормальное явление при прекращении работы дыхательной системы, подобное дыхание воспринимается как агония, и членам семьи невыносимо его слышать, тем более что они знают: это начало конца.
Моя задача – поддержать не только своих пациентов, но и их близких. Поэтому я попыталась отвлечь Аланну расспросами о том, как прошла ночь и когда Джудит в последний раз открывала глаза. Увидев, что Аланне становится все больше не по себе, я спросила, как обручились ее родители.
В свое время я прочла, что каждая история – это история любви. Любви к человеку, к стране, к образу жизни. Откуда следует, что все трагедии – истории утраты того, что вы любили.
Когда больной на терминальной стадии не может преодолеть страх смерти, ему стоит оглянуться на свое прошлое. Это успокаивает. Мы имеем обыкновение забывать, что когда-то были молодыми. Но именно тогда для нас все только начиналось, а не заканчивалось.
Аланна подняла на меня глаза:
– Мама и папа – представители совершенно разных социальных слоев. У папы имелся фамильный капитал, а у мамы не было практически ничего. Они решили совершить поездку по национальным паркам, и мама принесла переносной холодильник, набитый сэндвичами, потому что, когда она девчонкой куда-то ездила, ее мать всегда давала ей в дорогу еду. Обед в ресторане они даже не рассматривали как вариант.
Я представила, что Джудит, где бы она сейчас ни находилась, слушает свою историю и мысленно улыбается. Ведь способность органом слуха воспринимать звуки исчезает в последнюю очередь.
– Они отправились в Йеллоустонский национальный парк, к гейзеру Старый Служака, – продолжила Аланна. – Папа собирался сделать ей там предложение. Но к ним прибился какой-то парень, который постоянно задавал вопросы, а мама – перед поездкой она прочла все, что можно, о гейзерах – терпеливо на них отвечала. Как часто он выбрасывает горячие струи воды? Примерно двадцать два раза в день. Какой высоты достигают струи? Около ста тридцати футов. Какова температура воды? Более двухсот градусов по Фаренгейту. – Женщина слабо улыбнулась. – Инициатива явно уплывала из папиных рук. Тогда он, похлопав маму по руке, сказал: «У меня вопрос. – После чего встал на одно колено и добавил: – А куда уходит вся вода?»
– Ну и что ответила ваша мама? – рассмеялась я.
– Без понятия. Она просто сказала: «Да».
Мы посмотрели на Джудит, которая издала хлюпающий вздох и перестала дышать.
Аланна застыла:
– Это что… она что?..
Я не ответила, так как хотела удостовериться, что у Джудит полная остановка дыхания, а не апноэ. Но когда через пять минут дыхание не восстановилось, я сообщила Аланне, что Джудит ушла.
Аланна прижалась лбом к материнской руке, которую продолжала сжимать, и заплакала навзрыд, ну а я сделала то, что всегда делала в таких случаях: гладила Аланну по спине и успокаивала, давая возможность предаться скорби. Я выскользнула из палаты и подошла к стойке регистратора.
– Нам нужна медсестра зарегистрировать смерть, – сказала я и вернулась успокоить Аланну.
Через какое-то время она выпрямилась и вытерла глаза:
– Мне нужно позвонить Питеру.
Мужу. И вероятно, дюжине других родственников. Глаза у Аланны распухли, взгляд стал слегка исступленным.
– С этим можно и подождать. – Я хотела дать Аланне нечто такое, что осталось бы с ней на всю жизнь. – Джудит много раз говорила мне, как много значит для нее то, что вы были рядом.
Аланна тронула мать за запястье:
– Как по-вашему, где она сейчас?
Существуют самые разные ответы на этот вопрос, и каждый из них не может считаться верным или неверным по сравнению с другими. Поэтому я сказала то, что знала наверняка:
– Не знаю. – Я махнула рукой в сторону лежавшего на кровати тела. – Но она уже не здесь.
И в этот самый момент челюсть Джудит задвигалась, и я услышала длинный тягучий вдох.
Аланна метнула на меня изумленный взгляд:
– Я думала, она…
– Я тоже.
Появившаяся в комнате медсестра посмотрела на дышащую пациентку и вопросительно подняла брови:
– Ложная тревога?
Я часто рассказывала эту историю на конференциях и семинарах: первый человек, который умер у меня на глазах, сделал это дважды. И мой рассказ неизменно вызывал смех, хотя ничего смешного здесь не было, вообще ничего смешного. Только представьте себе Аланну, которой пришлось оплакивать мать во второй раз. Представьте себе самую ужасную вещь, которую вам пришлось пережить. А теперь представьте, что вы пережили это снова.
Моя потенциальная клиентка родилась в один день со мной. Не только в тот же месяц и в то же число, но и в тот же год. Я была доулой смерти у клиентов моложе меня и несколько раз – у детей, что было невыразимо печально. Прежде я относилась к таким вещам философски: это не мое время пришло, а их. Но сейчас я смотрю на медицинскую карту новой клиентки и невольно переношу все на себя.
Винифред Морс живет в Ньютонвилле, в маленьком дуплексе, задняя часть которого выходит на зеленые лужайки кампуса юридического факультета Бостонского колледжа. У нее четвертая стадия рака яичников, и, в отличие от большинства моих клиентов, она позвонила мне сама. Обычно ко мне обращаются близкие члены семьи, которые хотят, чтобы я пришла поддержать дорогого им человека, не сообщая ему, в чем состоят мои функции, словно само название «доула смерти» может ускорить смерть. Я отказываюсь от такой работы, поскольку все это выглядит нечестным по отношению ко мне, ведь я нередко вынуждена говорить опекунам умирающих о необходимости подождать, пока сам пациент не посмотрит в лицо смерти и не согласится с тем, что он нуждается в помощи.
Я подъезжаю к ее дому и секунду стою возле двери, закрыв глаза и сделав пару глубоких вдохов, чтобы снять напряжение в плечах и позвоночнике, загнать Брайана в дальний уголок души. Прямо сейчас единственные проблемы, которые я позволю себе иметь, – это проблемы Винифред Морс. Лично о себе я буду волноваться, когда наступит мой черед.
Дверь открывает Феликс – муж Винифред. Рост не меньше шести футов пяти дюймов; сплошные углы и загогулины, словно у богомола. Когда я представляюсь, он улыбается, но его улыбка, лишившись подпитки, сразу увядает.
– Входите, входите, – говорит он.
Я оказываюсь в прихожей, стены которой увешаны картинами в стиле модерн. На одних полотнах расплывчатые розовые пятна, которые, если смотреть под определенным углом, напоминают очертания женской фигуры. На других – сердитые косые полосы, похожие на черные когти животного, которое пытается продраться сквозь холст и вырваться из рамы. А еще есть картина, где сверху донизу методично представлены все оттенки синего, точно перепады настроения моря. И я сразу вспоминаю о своей маме.
В современном искусстве я разбираюсь не слишком хорошо. Знаю только, что оно должно пробуждать эмоции. Но при всем при том я не могу оторвать взгляда от написанного на холсте океана.
– Мне эта картина тоже нравится. – Феликс подходит ко мне: руки в карманах, острые локти. – Вин написала ее, когда была беременна Арло.
Я мысленно архивирую информацию, невольно задаваясь вопросом, где сейчас их сын и как он воспринимает болезнь матери.
– Значит, она художница, – говорю я.
У Феликса дергаются уголки рта.
– Была. На самом деле она перестала писать картины, когда заболела.
– Ну а как насчет вас? – Я трогаю его за руку.
– Какой из меня художник! Не могу даже нарисовать человечка из палочек. Я преподаю вождение. Хотел стать врачом, но недотянул по оценкам. Вот и нашел другой способ спасать человеческие жизни.
Я пытаюсь представить, как Феликс, втиснув свое угловатое тело на пассажирское сиденье автомобиля, терпеливо объясняет ученику, что, прежде чем отъехать от поребрика, нужно включить габаритки.
– Феликс, я имела в виду не вашу работу… Как вы себя чувствуете? Вы едите? Спите?
Он смотрит на меня с удивлением:
– А разве вы не должны спрашивать об этом Вин?
Обычно я беседую с глазу на глаз с тем, кто ухаживает за больным, только после того как познакомлюсь с пациентом. Ведь иногда его близкие замечают то, чего со стороны сразу не видно: например, тремор при попытке взять стакан с водой или повышенную возбудимость по ночам. Они всегда скажут, что у больного бессонница, что он в плохом настроении, что он видит несуществующих людей. Иногда пациент храбрится в моем присутствии и не признается, что ему больно или страшно, но его близкие всегда скажут правду, поскольку, по их мнению, так я смогу получить ответ на вопрос, который они не решаются озвучить при любимом человеке: когда и как это произойдет?
Скорбь от предчувствия неизбежного очень реальная и опустошительная. Она варьирует в широком диапазоне от: «Как же я останусь совершенно один в этом мире?» – до: «Что же я буду делать, если отрубится Интернет, ведь это она всегда звонила в кабельную компанию?»
– Я непременно задам ей эти вопросы. Но в мои обязанности входит проследить за тем, чтобы вы тоже были в порядке. – Ответив Феликсу, я оглядываю прихожую, где среди предметов искусства разбросаны предательские свидетельства болезни: ходунки, пара компрессионных носков, на боковом столике – полученные по рецепту лекарства. – Ведь и вся ваша жизнь теперь подчинена раку.
Феликс на секунду притихает.
– Вся моя жизнь – это ее жизнь. Вы сами увидите. Я еще никогда не встречал такой, как она. Когда я думаю, что ее больше не будет, это просто не укладывается в голове. Я не могу представить никого другого на ее месте. Когда она уйдет, в доме образуется пустота, принявшая очертания Вин, и, боюсь, пустота эта будет бездонной. – Он замолкает, глаза его становятся влажными. – Пойдемте, я вам покажу.
Он ведет меня по кроличьей норе их дома, где гораздо больше поворотов и закоулков, чем можно было бы ожидать в таком маленьком дуплексе. Вин находится в кабинете. За ее спиной, будто крылья орла, простираются книжные полки от пола до потолка. После операции она передвигается еле-еле, но все же передвигается и, шаркая ногами, подходит к книжным полкам поставить на место книгу. Она поворачивается ко мне, и я сразу вижу на ее лице следы, оставленные химиотерапией, облучением и лекарственной терапией. Худые ключицы торчат из выреза футболки. Отросшие волосы, мягкие и невесомые, напоминают утиный пух. Живот раздут от скопившейся там жидкости.
– Вы, наверное, Дон, – говорит Вин, протягивая мне руку.
Несмотря на столь жалкое состояние, она сохранила шарм и притягательную энергию. Что волей-неволей приковывает внимание. На темной коже выделяются чарующие золотистые глаза. Нетрудно представить, насколько неотразимой была эта женщина до болезни. У Феликса не имелось ни единого шанса.
– Винифред, я действительно очень рада с вами познакомиться, – говорю я от чистого сердца.
Одна из причин, почему я люблю свою работу, – это люди, с которыми я встречаюсь. В сущности, я люблю каждого из них. Но именно поэтому мне крайне важно узнать их поближе, прежде чем они уйдут.
– Зовите меня Вин[3], – ухмыляется она. – Хотя это не совсем корректно. Поскольку выиграла-то я в Лотерее смерти.
– Умирание – вот что действительно некорректно. Вы живы, пока живете. – Я покосилась на Феликса. – Но раз уж мы заговорили о некорректных вещах, то первый приз получило имя вашего мужа. На латыни Феликс Морс означает «Счастливая Смерть».
– А вы мне нравитесь, – смеется Вин.
Вот в этом и есть основная цель первого знакомства: проверить, будет ли потенциальному клиенту комфортно со мной и будет ли мне комфортно с ним. В случае Вин ее возраст, конечно, тоже является одним из факторов. Я не имею права проецировать себя на своих клиентов, осознанно или нет. Нет, нельзя работать доулой смерти, если постоянно думать: «А чего бы мне хотелось в такой ситуации?» или «На ее месте могла бы быть я».
В Чикаго, в свою бытность старшекурсницей, я работала волонтером в приюте для жертв домашнего насилия. Там была девушка примерно моих лет, которая потеряла отца еще в детстве и у которой на руках был двухлетний ребенок. Она так сильно запала мне в душу, что я не могла спокойно спать, если не знала, ела ли она вечером, ел ли ее сынишка и не вернулась ли она домой к буйному мужу. Координатор волонтеров вызвал меня к себе и сказал, что с таким подходом к каждому случаю я долго не выдержу. «Она не ты», – сказал координатор. С тех пор я научилась держать дистанцию, но иногда это чрезвычайно трудно, а значит, от таких клиентов следует сразу отказываться. Существуют границы, которые я не должна переходить, даже работая в такой области, где барьеры между людьми обычно рушатся.
– Почему бы вам не присесть? – предлагаю я.
Вин с Феликсом устраиваются на кожаном диване. Я придвигаю к нему кресло.
– Итак, – начинаю я, – что вы хотите рассказать?
– Ну, начнем с того, что врачи говорят, мне осталось жить меньше месяца, – отвечает Вин.
Я вижу, как пальцы Феликса переплетаются с пальцами жены.
– Вот почему это и называется практической медициной, – отвечаю я. – Они могут отпустить вам для жизни определенное время, но на самом деле им ничего не известно. Это время может быть короче, а может быть и длиннее. Моя задача – сделать так, чтобы при любом исходе вы успели подготовиться.
– Нам, вероятно, нужно поговорить о цене, – подает голос Феликс.
– Непременно, – отвечаю я, – но не сегодня. Сегодня у нас первое свидание. Сперва посмотрим, насколько мы совместимы, а уж потом начнем планировать будущее.
Я принимаю решение, брать или не брать нового клиента (или позволить ему нанять меня), только после второго визита. Впечатления от первой встречи должны улечься.
– Как вы себя сегодня чувствуете? – поворачиваюсь я к Вин, поскольку всегда начинаю с физического состояния и лишь потом перехожу к эмоциональному.











