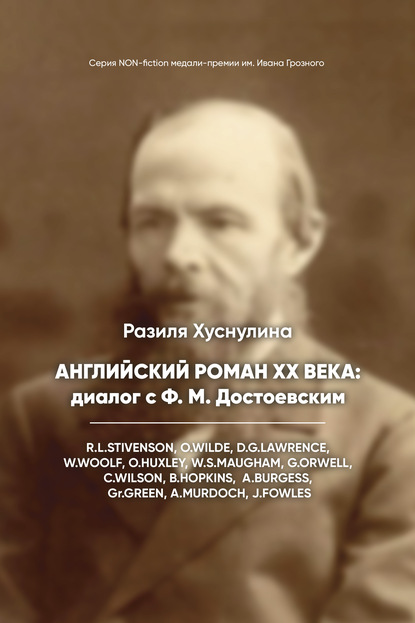Полная версия
Моя Елизаветка
Среди соседей считался интеллигентным человеком. Этому способствовала его привычка, здороваясь, неизменно приподнимать кепочку, никто из соседей этого не делал.
Война сломала его. Контузия повлияла на его психику, появились постоянные головные боли, бессонница. Были проблемы и со зрением. Приходилось постоянно носить пенсне с массивными тяжелыми стеклами. На носу у отца под действием зажимов пенсне образовались глубокие вмятины, без них удержать такую тяжесть было бы невозможно. Я несколько раз пытался надеть папино пенсне, но у меня никогда это не получалось.
От бессонницы отец принимал сильнодействующее снотворное – люминал (сейчас этот препарат запрещен как наркотическое средство, а тогда он продавался свободно). Но и эти таблетки помогали не всегда. Отец вставал по ночам, зажигал свет, пил чай вприкуску с колотым сахаром, курил «Беломор» и часа два-три читал, потом ложился спать снова. Книги он брал в библиотеке, преимущественно это были произведения французских классиков: Флобера, Стендаля, Гюго, Мопассана, Золя.
В середине пятидесятых годов отец совершил поездку в город своего детства Арзамас. Он надеялся найти там клад, который якобы был закопан еще до революции. Вернулся усталый, раздраженный, грязный, сказал, что нужное место не нашел, так как «там все изменилось».
Пенсию ему платили маленькую, сначала без, а потом с правом работы. Однако найти постоянную работу с достаточным заработком ему долго не удавалось. Неудовлетворенность собой, а может быть, и его неуживчивый характер приводили к тому, что на работе он конфликтовал с начальством, часто увольнялся, месяцами сидел дома без работы, потом устраивался снова, но ненадолго, в различные конторы типа «Трамвайтреста» и опять увольнялся.
Только в середине пятидесятых он устроился на приличную должность: ведущим экономистом в отдел капитального строительства Госплана РСФСР. В этой должности он проработал шесть лет, до ухода на пенсию. Однажды, в начале 1958 года, пришел домой возбужденный и сообщил, что его собираются отправить в командировку на международную выставку «Экспо» в Брюссель. Стали думать, в чем ехать, как пошить приличный костюм (до этого он ходил в перешитых морских кителях маминого брата Николая). Но поездка не состоялась.
На пенсии, живя в Мазилове, отец ходил на Москву-реку или на Пионерский пруд ловить мальков удочкой, а в последние годы сидел дома и от нечего делать составлял таблицы различных шахматных турниров и футбольных чемпионатов.
Но ни коллеги по работе, ни соседи, ни знакомые не знали, что была у него и другая, тайная, жизнь, никому не известная страсть. Этой страстью были бега.
Лошадей он полюбил с детства. И немудрено. Его отец служил управляющим конюшней у одного богатого предпринимателя. Поэтому лучшими друзьями маленького Лёни были лошади, он сызмальства полюбил это красивое и сильное животное. Чувство это он пронес через всю жизнь.
К женщинам он был почти равнодушен. Полушутя, полусерьезно говорил, что не может по-настоящему любить женщин, так как женское тело практически всегда скрыто под одеждой, другое дело – лошади, у них все на виду.
Бывать на ипподроме он пристрастился в конце тридцатых годов. Один сослуживец порекомендовал ему это место, сказав, что здесь можно увидеть увлекательное зрелище и сбросить психологическую нагрузку, которую всем служащим Страны Советов приходилось испытывать в то время. Совет этот совпал с его детскими воспоминаниями, и скоро он стал одним из завсегдатаев ипподрома.
Деньги были для него не главным, хотя он и делал ставки. Выигрывал он очень редко, чаще проигрывал, иногда и крупные суммы.
Привлекала его вся обстановка ипподрома: и вид беговой дорожки, и шум трибуны, нарастающий при приближении лошадей к финишу, и запах, доносившийся со стороны конюшен, и звук гонга, запускающего заезд, ну и, конечно, сами лошади. Он знал их клички, родословные знаменитых лошадей, мог по кличке лошади догадаться, кто ее родители, так как ему были известны правила, по которым даются клички новорожденным жеребятам.
Знаком он был и с наездниками. Особенно ему нравился один из них, который всегда выступал в форме, в которой преобладали желтый и зеленый цвета. Отец называл его «яичницей с луком» и всегда старался ставить на него.
На ипподроме он испытывал настоящее наслаждение. Когда лошади уходили со старта, он забывал все, тело его приподнималось «на цыпочках» и вытягивалось вперед, руки, согнутые в локтях, начинали дрожать.
После ухода на пенсию он тяжело заболел и вынужден был находиться дома. В то время мама, которая всю жизнь боролась с его тайной страстью, чтобы уменьшить страдания мужа, стала специально ездить на ипподром, покупать там и привозить ему программки заездов. И он всматривался в эти программки, производил какие-то вычисления и понарошку делал ставки, не зная, конечно, результата заездов.
Умер он в 1969 году от онкологического заболевания, не дожив трех месяцев до семидесятилетия.
Брат мой – ополченец
Ни у меня, ни у него не было родных братьев и сестер, не было и двоюродных. Так что у когда-то многочисленной семьи Зориных в советское время народились только мы двое, я и он – сын маминого брата Николая. И сам он тоже был назван Николаем, но звали его в семье Коляном. Так что были мы двоюродными братьями, но никого ближе у нас не было.
Мы были знакомы, хотя он на 14 лет старше меня. В сорок первом году он бывал у нас дома, говорят, любил играть со мной, годовалым, разговаривал, дарил мне игрушки. Долгие годы я хранил его подарок – два игрушечных автомобильчика: один – цельнолитая легковушка из серебристого металла с крутящимися колесиками; второй – грузовичок-самосвал из ярких цветных деталюшек, у которого и колесики крутились, и дверцы кабины водителя открывались, и кузов поднимался, как у настоящего самосвала. Жаль, что сейчас их у меня нет: затерялись при многочисленных переездах.
Рос он быстро, занимался спортом, выглядел старше своих лет. В семейном архиве сохранилась фотография, где он снят вместе со своими родителями на берегу моря: лежат они на гальке под южным солнцем, улыбаются. Как он учился, я не знаю, но, помню, говорили, что рос он общительным, бойким мальчиком, настоящим верным ленинцем, как тогда говорили, был пионером, потом вступил в комсомол.
Что побудило его вступить в народное ополчение, я не знаю, но факт остается фактом: летом 1941 года Николай Николаевич Зорин, 1926 года рождения, добровольно, действительно добровольно, вступил в народное ополчение. Матери он не сказал о своем решении, а отец, кадровый военный военно-морского флота, был далеко – держал оборону на подступах к Ленинграду, на полуострове Ханко.
Как его, пятнадцатилетнего подростка, взяли в ополчение, непонятно, ведь, согласно Постановлению ГКО от 4 июля 1941 года, ополчение формировалось из мужчин и женщин в возрасте от семнадцати до пятидесяти пяти лет. То ли он сам где-то приписал себе два года, то ли время было такое, что на эти «мелочи» внимания не обращали.
Судя по всему, Колян попал в 8-ю дивизию народного ополчения (ДНО), ее еще называли Краснопресненской – по месту формирования. Дивизия создавалась в спешном порядке. Всего за несколько дней июля около шести тысяч мирных жителей столицы стали бойцами 8-й дивизии народного ополчения Краснопресненского района. Сохранилось маленькое фото Коляна, такие обычно клеят на документы. На ней он в военной форме, но какой-то странной. Шинель размера на два больше, чем надо, он в ней прямо-таки утонул; шапка-буденовка с остроконечным верхом, подобные шапки использовала Красная армия в Гражданскую войну. Лицо детское, но смотрит серьезно, слегка нахмурив брови. Создается впечатление, как будто ребенка одели в военную форму для игры в «Зарницу».
Это все, что более-менее достоверно известно о личности брата. Дальше его судьба, как и еще нескольких тысяч ополченцев, теряет черты индивидуальности и оказывается неразрывно связанной с судьбой Краснопресненской дивизии. А судьба эта оказалась короткой и трагичной.
Уже 10 июля дивизия была передислоцирована из Москвы в область – в район нынешнего Красногорска. В течение июля шло ее доукомплектование за счет призывников и частично кадровых военных. Было сформировано три стрелковых полка, один – артиллерийский и еще несколько вспомогательных подразделений. Командиром дивизии был назначен комбриг Даниил Прокофьевич Скрипников, Георгиевский кавалер, с большим опытом участия в боевых операциях во время Первой мировой и особенно Гражданской войн.
В сентябре дивизия заняла линию обороны вдоль восточного берега Днепра, где она с трудом сдерживала натиск врага, неся потери, особенно от ежедневных бомбежек вражеской авиации.
29 сентября немецкое командование приступило к операции «Тайфун», противостоять которой в тот момент Красная армия не могла: противник имел на этом участке фронта двукратное превосходство в танках и авиации.
Тяжело читать, что было дальше.
В результате боев в первых числах октября погибло более половины ополченцев. Погиб и командир дивизии Д. П. Скрипников. Произошло то, что военные называют котлом, а проще говоря, наши войска попали в окружение. Часть бойцов ушла к партизанам, кто-то прятался по деревням, многие попали в плен, и только единицам удалось перейти линию фронта и вернуться к своим.
Можно предположить, что где-то здесь, на берегу Днепра, и погиб мой двоюродный брат. Место его гибели неизвестно до сих пор. Все, что официально получила семья, – это короткое извещение из райвоенкомата «пропал без вести» и больше ничего. Отец Коляна, мамин брат, кадровый военный, капитан первого ранга Николай Иванович Зорин, вернувшись после войны из осажденного Ленинграда, пытался навести справки, но так ничего и не узнал.
Я много думал о своем брате и в целом о роли народного ополчения в Отечественной войне, пытался представить себе, как это было на самом деле. И как-то сами собой сложились следующие стихотворные строки.
Памяти брата
Мой брат погиб у переправы,Двоюрный[1] брат мой, не родной.Он жить хотел не ради славы,А вот, поди ж ты, смыт волной.Пятнадцать лет прожил всего-то,А стал бойцом он Дэ-эН-О[2].Там бой кипел и гибла рота.Так свыше было суждено.Я вижу их на старом фото,Мальчишки сгрудились гурьбой.Такая вот была пехота,Им скоро в бой, в смертельный бой.Но не напрасна их кончина,Не зря вы пали под Москвой.Народа дух – вот в чем причинаПобеды нашей мировой.Жили-были
В раннем детстве меня одолевали частые болезни. Все изменилось лет в пятнадцать-шестнадцать, когда я стал больше времени проводить в Елизаветино.
Здесь мне особенно полюбилось Химкинское водохранилище. Летом, когда уже начинает смеркаться и жара спадает, мы после волейбольных баталий гурьбой идем на водохранилище купаться. Начинает темнеть, но бетонные плиты плотины еще сохраняют дневное тепло. Раздеваемся и, осторожно двигаясь по стыкам плит, спускаемся в воду: идти напрямую невозможно, так как в воде плиты покрыты зеленоватой скользкой тиной и стоять на них невозможно.
Вода ласково принимает твое тело. Хоть и заезженное это сравнение – «как парное молоко», но трудно подобрать более точное выражение. Поверхность воды гладкая, как будто она накрыта гигантским покрывалом. Гулко раздаются голоса над водой. Над противоположным берегом уже взошла луна и высветила на воде светлую дорожку. Я плыву ровно по этой дорожке прямо на луну, осторожно раздвигая покрывало, стараясь не намочить голову.
Рядом с плотиной Химкинского водохранилища находилась база военных моряков, а прямо у берега стоял настоящий военный корабль «Смерч». Вокруг него в воде плавали полузатопленные плоты, с которых было удобно удочкой ловить рыбу, чаще всего попадался окунек величиной с ладошку, иногда – ерш или плотва.
Я плохо вписывался в ребячий мир и порой остро ощущал свое одиночество. Один из таких моментов – «мертвый час» в детском саду на улице Восьмого марта. После обеда в садике полагалось спать, укладывали нас на открытой веранде второго этажа. Считалось, что спать на открытом воздухе полезно для наших ослабленных войной организмов. Моя кроватка в середине, слева и справа уже посапывают мои соседи. А я не сплю, лежу на спине, смотрю в бездонное небо, по которому нехотя бесшумно скользят белые глыбы облаков, и жуткое чувство одиночества и страха охватывает меня. Кажется, я, маленький и беззащитный, буду так лежать вечно, и никто не вспомнит про меня, а эти белые облака так же безучастно будут плыть надо мной, над этой террасой и над всем миром…
Но это там, где-то далеко, в детском саду.
А здесь, на Елизаветке, я тоже чувствую себя одиноким, но это одиночество светлое и радостное. Особенно хорошо мне на пожарке.
Пожарка – это то, что осталось от центральной части усадьбы Елизаветино после пожара: груды битых кирпичей, осколки стекла, железные прутья. Все это переплетено ржавой проволокой и заросло репейником, чертополохом, крапивой и еще много чем колючим и жгущимся. Ходить, а точнее, продираться здесь надо осторожно, иначе можно пораниться. Бывало, что и я спотыкался, падал и возвращался домой с разбитыми коленками.
Главная достопримечательность пожарки – бабочки. Их много, больше всего шоколадниц и лимонниц, но есть еще и павлиний глаз, и капустницы, и еще какие-то пестренькие без названия. Самой красивой считалась крупная бабочка черного цвета с белой каймой по краям крылышек. Эту бабочку мы называли махаоном. На самом деле ее русское название весьма прозаично и печально – «траурница».
Бабочки невероятно красивы в своих «ситцевых пестреньких платьицах, и в японских нарядах, и в черно-лиловых бархатных шалях». Красиво сказано, не правда ли? Слова эти не мои, а Ивана Алексеевича Бунина из рассказа «Суходол».
Бабочек я ловлю голыми руками. Сачка у меня нет, да он мне и не нужен: гоняться за бабочками на пожарке невозможно. Чтобы поймать бабочку, надо тихонько подкрасться к ней, пока она, сидя на малиновой колючке, нежится на солнышке, выждать момент, когда она соединит свои крылышки вместе, и осторожно схватить ее двумя пальцами.
Другим большим удовольствием для меня были поездки с мамой в центр Москвы, на площадь Пушкина.
Первым делом мы шли в Елисеевский магазин, где покупали сто граммов любительской колбасы и одну французскую булочку, на большее денег не было. Потом мы уютно устраивались на волнах широченной скамейки в начале Тверского бульвара, у «старого Пушкина», и вкушали эти яства. (Я пишу «мы», но это неправда: вкушал-то я один, мама только смотрела на меня.)
Называю эти продукты – колбасу и булочку – яствами не потому, что мы были голодны, хотя бывало и такое. Нет, я настаиваю на этом слове потому, что здесь оно вполне уместно. Колбаса была «пальчики оближешь», она просто таяла во рту. Позже, ни в хрущёвские времена в СССР, ни в нынешней России, ни в заморских краях я не встречал подобной колбасы. Да и булочка была ей под стать, не просто французская, а настоящая французская!
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
В стихотворении сознательно использована разговорная форма «двоюрный» вместо грамматически правильного «двоюродный».
2
Дэ-эН-О (ДНО) – дивизия народного ополчения.