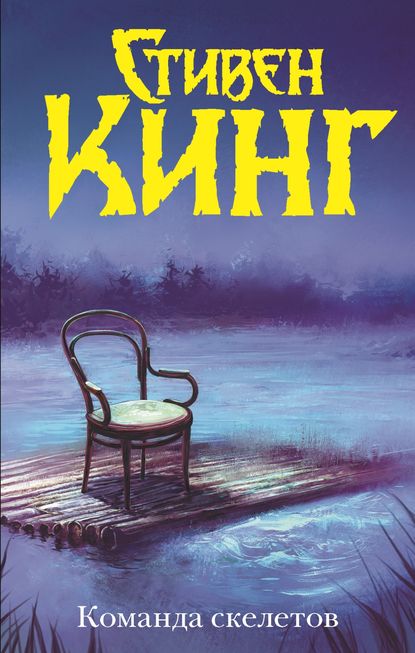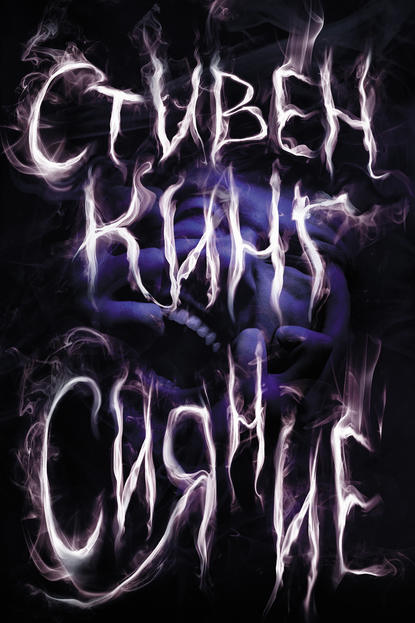
Полная версия
Сияние
Помни, что сюда нужно спускаться два раза в день и еще вечером, прежде чем отправиться на боковую. Всегда проверяй давление. Если забудешь, оно начнет ползти и ползти вверх, и как-нибудь ты вместе со всей семейкой проснешься на треклятой луне. Но если понемногу спускать пар, все будет тип-топ.
– Каков максимальный уровень?
– Конечно, по документам котел должен выдерживать все двести пятьдесят. Но теперь он точно взорвется гораздо раньше. Ты меня силком не заставишь спуститься сюда и встать рядом с этой бочкой, если стрелка встанет даже на ста восьмидесяти.
– А разве здесь не предусмотрен аварийный клапан?
– Не-а. Котел поставили еще до того, как такие причиндалы сделали обязательными. Это теперь правительство стало во все совать свой нос, верно? ФБР письма вскрывает, ЦРУ прослушивает каждый чертов телефон… А вспомни, что сталось с Никсоном. Вот уж было жалкое зрелище.
– Как насчет водопровода и канализации?
– Да, кстати. Я как раз собирался перейти к этому. Проходи через вон ту арку.
Они попали в прямоугольное помещение длиной, казалось, не меньше мили. Уотсон дернул за веревку, и единственная лампочка на семьдесят пять ватт озарила их лучами тоскливо мерцающего света. Прямо перед ними располагалось дно шахты лифта, с покрытыми густой смазкой тросами, обвивавшимися вокруг двадцатифутовых шкивов, и забитым смазкой электромотором. Повсюду лежали старые газеты: в кипах, в связках, в коробках. Также имелись ящики, помеченные надписями типа «Учетные книги», «Счета», «Квитанции», сопровождавшимися призывом «НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ!». Пахло старой бумагой и плесенью. Некоторые картонки начали разваливаться, и из них по полу разлетелись пожелтевшие ломкие листки, которым на вид было не менее двух десятков лет. Джек с интересом осматривался по сторонам. Вся история «Оверлука» могла находиться прямо здесь, погребенная в этой постепенно гниющей картонной таре.
– С этим лифтом сам черт не управится, – заметил Уотсон, указывая пальцем в сторону шахты. – Мне доподлинно известно, что Уллман за наш счет кормит шикарными ужинами старшего инспектора штата по лифтовому оборудованию, лишь бы не допустить ремонтников к этой развалюхе. А вот тебе и наша центральная сантехническая зона.
Прямо перед ними пять широченных труб, каждая в плотной изоляционной обмотке, прихваченной крепкими стальными обручами, уходили куда-то в тень под потолок, где и терялись из виду.
Уотсон кивнул на затянутую паутиной полку рядом со шкафом для инструментов. Помимо грязных тряпок, на ней лежала папка-скоросшиватель с множеством хаотично засунутых туда листков бумаги.
– Здесь все чертежи по сантехнике, что у нас есть, – сказал он. – Не думаю, что у тебя будут проблемы с протечками. Такого еще ни разу не приключалось. Но некоторые трубы иногда замерзают. Есть один верный способ избежать этой напасти – открывать ненадолго краны по вечерам, но только в этом Богом проклятом отеле их больше четырех сотен. Представляешь, как разорется наш пузырь-начальник, когда увидит счета за воду? Его в Денвере слышно будет, скажешь, нет?
– Напротив, мне это представляется на редкость точным аналитическим умозаключением.
Уотсон вскинул на Джека восхищенный взгляд.
– Вот, сразу видно, что ты из образованных. Говоришь, как пишешь. Я таких ребят сильно уважаю, если только они не голубые. А в колледжах пидоров пруд пруди. Знаешь, кто подбил студентов бунтовать несколько лет назад? Они самые. Гоммосексулы. Верно тебе говорю. Их вконец достали, вот они и взбесились. Пожелали, видите ли, выйти из тени – так это у них называлось. И куда только катится этот мир, скажи на милость? Ну да ладно. Так вот, если труба замерзнет, то скорее всего прямо здесь, у основания. Подвал же не отапливается, сечешь? Случись такое, пользуйся этим. – Он дотянулся до сломанного оранжевого ящика и достал паяльную лампу. – Снимаешь изоляцию, нащупываешь ледяную пробку и прогреваешь. Понятно?
– Да. Но что, если труба все-таки замерзнет где-то выше?
– Ничего подобного не случится, если ты будешь справляться с работой и вовремя протапливать помещения. А до других труб тебе все равно не добраться. Даже не заморачивайся. Как я сказал, проблем быть не должно. Но вообще-то подвал я не люблю. Жутковатое место. Рай для пауков. Мне здесь одному порой становится не по себе.
– Уллман рассказывал, что в первую же зиму смотритель убил свою семью, а потом и себя.
– Да, этот тип Грейди. Он был непутевый. Я это понял, как только впервые увидел его. Вечно скалился, как пес, отлизавший себе яйца. Тогда здесь все только начиналось, и этот толстый пердун Уллман готов был нанять даже Бостонского Душителя[4], если бы тот согласился пахать за гроши. Их потом нашел рейнджер из национального парка. Телефон не работал. Все трупы лежали на четвертом этаже в западном крыле, насквозь промерзшие. Девочек жаль было до слез. Восемь и шесть лет всего-то. Хорошенькие, как две куколки. Устроил здесь Грейди кровавую баню! Уллман как раз на то время перебрался во Флориду заправлять другим модным отелем. Он тогда по-быстрому долетел до Денвера, а в Сайдуайндере ему пришлось найти санную упряжку. Дороги-то замело. Уллман в санях, представляешь картину? Он потом из кожи вон вылез, чтобы история не попала в большие газеты. И врать не буду, с этим он справился на все сто. Несколько строк напечатала «Денвер пост», да еще вшивый листок, что выходит в Эстес-Парке, тиснул этот… как его? Некронолог, что ли. Вот и все. Отлично, если учесть дурную славу отеля. А я так и ждал, что какой-нибудь репортеришка начнет копать и свалит дело Грейди в кучу с другими скандалами.
– Какими скандалами?
Уотсон передернул плечами.
– Ни в одном крупном отеле не обходится без скандалов, – сказал он. – Как и без привидений. Спросишь почему? Да потому, черт возьми, что через них проходят такие толпы людей. Кто-то непременно отдаст Богу душу прямо в номере. От сердца там или от удара – от чего угодно. Отели битком набиты суевериями. Где-то не бывает тринадцатого этажа, почти нигде нет тринадцатого номера, зеркал не вешают с обратной стороны входной двери. И все в таком роде. Да что за примерами далеко ходить? У нас самих в прошлом июле одна дамочка копыта отбросила. Уллману это тоже пришлось замять, и можешь не сомневаться, он справился. Вот за что ему платят двадцать две штуки баксов в сезон, и, хотя я недолюбливаю этого хлыща, он свои деньги отрабатывает по полной. Это как если бы люди специально приезжали сюда, чтобы проблеваться, а потом нанимали парня вроде Уллмана прибрать за собой. И вот появляется эдакая мадам. Ей на вид не меньше шестидесяти, ей-богу! Моего возраста. А волосы выкрашены в красный цвет, как фонарь при борделе. Сиськи отвисают до пупа, потому что она, видите ли, не желает носить лифчик, а все ноги в варикозненных венах и похожи на две дорожные карты, хотя золотом и разными камушками она была увешана, как твоя рождественская елка. С собой она привезла парнишку лет, должно быть, семнадцати. Космы вот по сих, до самой задницы, а между ног он словно напихал мятых комиксов. Они провели здесь неделю или даже дней десять, не помню точно, но каждый вечер повторялось одно и то же. С пяти до семи они торчали в «Колорадо-холле». Причем она глотала «сингапурские слинги» с такой скоростью, словно их к завтрему грозились запретить, а он выпивал всего-то бутылочку пивка, растягивая удовольствие. Она сыпала шутками, говорила что-то там смешное, и парень лыбился, как шимпанзе, растягивал рот, будто она за привязанные тесемки дергала. Но только уже через несколько дней стало заметно, что ему все труднее и труднее заставлять себя смеяться, а уж как ему удавалось поднимать свою штуковину в постели с ней, так и вовсе одному Богу известно. После бара они, значит, отправлялись в ресторан ужинать. Она к тому времени так набиралась, что еле ноги волочила. А мальчишка, стоило ей морду отвернуть, щипал за задницы официанток и кокетничал с ними напропалую. Черт, мы даже стали заключать пари, как долго он продержится!
Уотсон пожал плечами.
– Однажды вечером, ближе к десяти, он спустился вниз и заявил, что у его «жены» случилось «легкое недомогание» (а это означало, что она попросту отрубилась, как бывало почти всегда) и ему необходимо срочно купить ей особое снадобье для желудка. Затем он сел в тот самый двухместный спортивный «порш», на котором они к нам приехали, и исчез в неизвестном направлении. На следующее утро внизу появляется она и пытается разыгрывать спектакль, но только лицо ее с каждым часом все сильнее бледнеет. Тогда мистер Уллман дипломатично так спрашивает: мол, не желает ли она, чтобы поставили в известность копов? На всякий случай. Ежели он вдруг попал в аварию или еще что стряслось. Так она набросилась на него, как разъяренная кошка. Нет-нет! Не надо. Никакой полиции. Он – прекрасный водитель. Она совершенно спокойна и ждет его к ужину. Однако в тот день она засела в баре «Колорадо-холла» уже с трех часов, а ужинать не стала вовсе. В половине одиннадцатого поднялась к себе в номер, и больше живой ее уже никто не видел.
– Как это вышло?
– Окружной судебный медик установил, что она приняла почти тридцать таблеток снотворного в придачу к огромной дозе бухла. На следующий день приехал ее муж, какой-то супер-пупер-законник из Нью-Йорка. И устроил нашему приятелю Уллману нервотрепку по высшему разряду. «Я вас засужу за то, я подам на вас в суд за это, а когда я закончу, вы так обделаетесь, что во всем Колорадо не найдете пары чистых подштанников». Но только Уллман, мать его, тоже не так-то прост. Быстро сумел привести его в чувство и успокоить. Думаю, он спросил у этого прохвоста: «Как вам понравится, если грязное белье вашей женушки начнут полоскать во всех нью-йоркских газетах?» Заголовки типа «Супруга известного Как-Вас-Там-Величать покончила с собой, наглотавшись таблеток». И рассказ о том, как она играла в популярную игру «Найди мою колбаску» с юнцом, который ей во внуки годился.
Полиция штата скоро нашла брошенный «порш» на задворках круглосуточной закусочной в Лайонсе, а Уллман надавил на нужные кнопки, чтобы машину вернули тому юристу. Потом они уже вместе взяли в оборот старину Арчера Хоутона – окружного судебного медика – и заставили изменить свои выводы на естественную смерть. Сердечный приступ, только и всего. Теперь Арчер рассекает на новеньком «крайслере». И я его не виню. Нужно ковать железо, пока горячо, особенно когда пенсия уже на носу.
Бандана снова появилась из кармана. Хрюкающий звук. Взгляд. И пестрый платок пропал.
– Но что же происходит потом, спросишь ты? Вообрази, всего неделю спустя эта тупая лоханка, горничная по имени Делорес Викери, убирая номер, в котором жили те двое, сначала подняла истошный крик, а потом завалилась в обморок как подкошенная. Придя в себя, она заявила, что видела в ванне голую мертвую женщину. «У нее лицо все посинело и распухло, а она смотрела на меня с усмешкой» – вот ее собственные слова. Понятно, что Уллман заплатил ей двухнедельное пособие и велел выметаться отсюда на все четыре стороны. А всего, по моим прикидкам, с тех пор как мой дед открыл этот отель в десятом году, здесь умерли человек этак сорок пять.
Он бросил на Джека лукавый взгляд.
– Хочешь знать, как большинство из них покинули этот мир? От инфарктов и инсультов, когда кувыркались в постели с дамочками, вот как. На курортах вроде этого такое случается сплошь и рядом. Сюда часто приезжают старички, чтобы устроить типа последнюю гастроль. Видать, в горах легче вообразить, что тебе снова двадцать лет. Для кого-то все заканчивается печально. А далеко не все управляющие умели так лихо отваживать газетных писак, как это делает Уллман. Вот у «Оверлука» и появилась известная репутация. Что было, то было. Хотя уверен, о «Билтморе» идет такая же слава, если расспросить нужных людей.
– Но привидений здесь все-таки нет?
– Джек, я проработал в этом отеле всю жизнь. А прежде сам играл здесь, когда мне было столько же лет, сколько твоему сынку на том фото из бумажника, что ты мне показывал. И ни разу не видел никаких призраков. Пойдем дальше. Мне еще нужно показать тебе сарай, где хранятся инструменты.
– Хорошо.
Когда Уотсон протянул руку, чтобы выключить свет, Джек заметил:
– Чего здесь в избытке, так это старых бумаг.
– Вот это точно. Тут все хранится, должно быть, уже лет тысячу. Газеты, квитанции разные, товарные накладные и еще черт знает что. Мой папаша в свое время разделывался с ними в два счета, пока мы пользовались обычной дровяной печью, но теперь здесь полный бардак. Однажды я найму какого-нибудь парнишку, чтобы отвез весь хлам в Сайдуайндер и сжег. Если Уллман раскошелится. А я думаю, он даст на это денег, если я как следует припугну его крысами.
– Стало быть, крысы здесь все-таки водятся?
– Да. Должно быть, есть немного. Я запас ловушки и отраву, которую мистер Уллман просил тебя разбросать на чердаке и в подвале. Но потом тебе лучше присматривать за своим мальцом. Не приведи Господь, чтобы с ним что-то приключилось. Ты же не хочешь этого, верно?
– Не хочу, – ответил Джек. В устах Уотсона совет звучал нисколько не обидно.
Они подошли к лестнице и задержались на секунду, чтобы Уотсон смог снова прочистить нос.
– В сарае ты найдешь все нужные тебе инструменты, да и ненужные тоже. И там есть гонт. Уллман сказал тебе об этом?
– Да, он хочет, чтобы я заменил часть кровли западного крыла.
– Этот толстый маленький хмырь бесплатно выжмет из тебя все соки, а весной еще будет ныть, что ты все сделал не так, вот увидишь. Я однажды ему это сказал прямо в лицо. Мне, говорю…
Уотсон стал подниматься первым, и продолжение его рассказа слилось в успокаивающий монотонный гул. Джек Торранс напоследок обернулся и посмотрел в непроницаемую, провонявшую тленом черноту, подумав, что если где-то могут водиться привидения, то здесь им самое место. И ему представился Грейди, запертый в мягком, но непреодолимом снежном плену, тихо сходящий с ума и совершающий свои жуткие убийства. Кричали ли они? Бедняга Грейди! Он наверняка ощущал, как с каждым днем снег давит все сильнее, пока наконец не понял, что для него весна не наступит уже никогда. Ему не нужно было приезжать сюда. И не следовало терять контроль над собой.
Но когда Джек двинулся вслед за Уотсоном, эти слова настигли его эхом погребального звона, а потом раздался сухой треск – словно сломался грифель карандаша. Боже милостивый, как же ему хотелось пропустить сейчас хоть один стаканчик чего-нибудь покрепче! А еще лучше – сразу тысячу.
Глава 4
На теневой стороне
В четверть пятого Дэнни сдался и отправился наверх за печеньем и молоком. Он быстро расправился с едой, неотрывно глядя в окно, а потом подошел поцеловать маму, которая прилегла отдохнуть. Она предложила ему остаться дома и посмотреть «Улицу Сезам» – так время пролетит незаметнее, – но он решительно помотал головой и вернулся к своему посту на краю тротуара.
Начало шестого. Хотя у Дэнни не было часов, да он и не слишком умел определять по ним время, мальчик видел, как удлиняются тени, а лучи клонящегося все ниже солнца приобретают золотистый оттенок.
Он крутил в руках планер и мурлыкал себе под нос:
– Иди ко мне, Лу, прыг-скок… хотя мне все равно… иди ко мне, Лу… хотя мне все равно… я остался один, так иди ко мне, Лу… прыг-скок…
Эту песенку они распевали хором в детском саду «Джек и Джилл», который он посещал в Стовингтоне. В Боулдере он уже не ходил ни в какой детский сад, потому что папа не мог за него платить. Он знал, что папа с мамой переживали, тревожились, что ему совсем одиноко (а пуще всего, хотя они никогда не говорили об этом вслух, – что Дэнни винит их), хотя на самом деле ему не хотелось ходить даже в «Джек и Джилл». Там все было для малышей. Сам он еще не стал большим мальчиком, но и малышом себя не считал. Большие мальчики ходили в большую школу и ели горячее на обед. Первый класс. На будущий год. А нынешний получается ни то ни сё. Промежуточный между малышом и настоящим школьником. Но он ни о чем не жалел. Конечно, иногда он скучал по Скотту и Энди – особенно по Скотту, – но все было в порядке. Одному даже лучше дождаться и посмотреть, что будет дальше.
Он очень многое понимал в поведении своих родителей, знал, что часто им не нравилась его излишняя проницательность, а еще чаще они попросту отказывались верить в его способности. Но однажды им придется поверить. Он готов подождать.
Хотя все же жаль, что они пока не верят ему по-настоящему, особенно в такие моменты, как сейчас, например. Вот мама лежит на своей кровати и чуть не плачет, до того волнуется за папу. Некоторые проблемы, тревожившие ее, были слишком серьезными, чтобы Дэнни мог в них разобраться, – что-то смутное по поводу безопасности и папиного самомнения, чувство вины и злость, а еще страх, что будет с ними всеми. Но две основные мысли, глодавшие ее сейчас, заключались в опасении, что у папы в горах сломалась машина (тогда почему он до сих пор не позвонил домой?) и что папа мог снова сорваться и приняться за Скверное Дело. Дэнни отлично знал, что это за Скверное Дело, с тех пор как ему все объяснил Скотти Аронсон, который был на шесть месяцев старше. Сам Скотти знал много, потому что его папа тоже занимался Скверным Делом. Однажды, как рассказывал Скотти, его папа ударил его маму прямо в глаз и сшиб с ног. В результате между папой и мамой Скотти из-за Скверного Дела случился РАЗВОД, и когда Дэнни с ним познакомился, Скотти жил с одной мамой, а с папой виделся только по выходным. С тех пор самым страшным в жизни Дэнни стал РАЗВОД – слово, которое мысленно рисовалось ему написанным крупными красными буквами, каждую из которых обвивали шипящие ядовитые змеи. При РАЗВОДЕ твои родители больше не живут вместе. Они обращаются по поводу тебя к судье (Дэнни слышал только о спортивных судьях, но поскольку его папа с мамой в Стовингтоне играли и в теннис, и в бадминтон, и всякий раз на вышке непременно сидел судья, он точно не знал, о котором из них речь). Почему-то только этот судья мог решить, с кем ты останешься жить, и тогда своего другого родителя ты почти совсем не видел. А потом, если ему вдруг приспичит, тот родитель, с которым ты жил, мог привести в дом нового мужа или жену, совершенно незнакомого человека. Но страшнее всего в РАЗВОДЕ было для Дэнни то, что он явственно ощущал, как это слово – или понятие – крутится в головах его родителей. Иногда расплывчато и неопределенно, а иногда пугающе четко и даже ослепительно, как проблеск молнии. Именно так обстояло дело после того, как папа наказал его за беспорядок в своем кабинете, и доктору даже пришлось наложить ему на руку гипс. Воспоминание об обиде и боли давно померкло, но память о слове РАЗВОД оставалась устрашающе отчетливой. Тогда оно читалось в основном в голове у мамы, и Дэнни какое-то время жил в постоянном ужасе ожидания, что она выловит это слово из своего мозга, вытащит через рот и сделает чем-то совершенно реальным. РАЗВОД. Это слово постоянно присутствовало в мыслях обоих родителей и было одним из немногих, что Дэнни улавливал без малейшего труда, как ритм немудреной мелодии. Но как и всякий ритм, центральная мысль становилась лишь основой для более сложных вариаций, в которых он путался, ничего не понимая вообще. В этих хитросплетениях ему удавалось улавливать по большей части только цветовые гаммы и различия в настроениях. У мамы РАЗВОД обрастал размышлениями о том, что папа сделал с его рукой, и о случае в Стовингтоне, когда папа потерял работу. О том парнишке. О Джордже Хэтфилде, который разобиделся на папу и наделал дырок в колесах их «жука». Мысли отца о РАЗВОДЕ читались намного хуже. Они были окрашены в темно-фиолетовый цвет с пугающими вкраплениями совершенно черного. Порой у него мелькала мысль, что жене и сыну станет только легче, если он уйдет. И тогда перестанет быть так больно ему самому. А папе было больно почти все время, и его влекло к себе Скверное Дело. Это Дэнни тоже улавливал без труда: папино чуть ли не постоянное желание отправиться в одно темное место, чтобы смотреть цветной телевизор, есть жареный арахис из миски и предаваться Скверному Делу до тех пор, пока у него совершенно не онемеют мозги и черные мысли не перестанут терзать его.
Но сегодня у мамы не было причин волноваться, и оставалось только пожалеть, что нельзя пойти и успокоить ее. «Жук» не сломался. Папа не свернул с дороги, чтобы заняться Скверным Делом. Он уже почти добрался до дома, и «жук» пыхтит сейчас по шоссе между Лайонсом и Боулдером. В этот момент папа даже не думает о Скверном Деле. Он думает о… Думает о…
Дэнни украдкой бросил взгляд себе за спину на окно кухни. Иногда, если он сосредотачивал чересчур много внимания на какой-то мысли, с ним происходило нечто необъяснимое. Окружавшие его вещи – реальные вещи – исчезали, и он видел то, чего на самом деле не было. Однажды, вскоре после того, как ему на руку наложили гипс, это случилось прямо за столом во время ужина. Родители тогда не слишком охотно разговаривали друг с другом. Зато они много думали. О да! Мысли о РАЗВОДЕ повисли над кухонным столом подобно темной грозовой туче, готовой в любой момент обрушиться дождем на их головы. Дэнни чувствовал себя от этого так плохо, что не мог есть. Его даже подташнивало, когда он пытался заставить себя взяться за еду под гнетом черного слова РАЗВОД. А поскольку это показалось ему очень важным, он полностью сфокусировался, и с ним снова случилось странное. Очнулся он, лежа на полу, с размазанными по брюкам бобами и картофельным пюре. Мама обнимала его и плакала, а отец говорил по телефону. И хотя Дэнни сам испугался, он все же попытался объяснить им, что ничего страшного не произошло, что так с ним бывало и раньше, когда он силился понять вещи, не доступные пока его уму. Попытался рассказать им о Тони, которого они прозвали его «невидимым дружком».
Папа говорил в трубку: «У него была Га-Лу-Цы-Нация. По-моему, он пришел в себя, но я все равно хочу, чтобы его осмотрел врач».
Когда доктор уехал, мама заставила Дэнни пообещать, что больше он этого делать не будет, никогда не станет их так пугать, и ему пришлось согласиться. Он и сам перепугался до жути. Потому что стоило ему внутренне сконцентрироваться, как он проник в мысли отца и всего лишь на мгновение – пока не появился Тони (как всегда, окликнувший приятеля откуда-то издалека), пока странные видения не затуманили обстановку кухни и стоявшее на столе синее блюдо с жареным мясом, – на мгновение окунулся в темноту отцовского сознания и увидел непонятное слово, гораздо более страшное, чем РАЗВОД. И это было слово СУИЦИД. Позже Дэнни никогда больше не ощущал присутствия этого слова в мыслях папы и, уж конечно, не делал попыток намеренно разыскать его там. Он даже не хотел выяснять, что оно значит.
А вот концентрировать внимание ему по-прежнему нравилось, потому что тогда к нему мог прийти Тони. Хотя необязательно. Бывало, что окружающий мир лишь на минутку начинал выглядеть размытым, расплывался перед глазами, но потом все прояснялось. Так, кстати, получалось чаще всего. Но иной раз где-то на границе видения вдруг возникал Тони, окликая и маня за собой…
С тех пор как они переехали в Боулдер, это случилось дважды, и ему запомнилось, как приятно он был удивлен, поняв, что Тони проделал с ними весь долгий путь из Вермонта. Значит, он потерял не всех друзей, как думал прежде.
В первый раз он был на заднем дворе дома, и ничего особенного не произошло. Просто явился Тони, помахал рукой, а потом все окутала темнота, и через несколько минут Дэнни вернулся к реальности, запомнив лишь смутные фрагменты, как бывает с отрывочными снами. Зато во второй раз, пару недель назад, все получилось куда занимательнее. Тони снова манил его за собой, стоя совсем близко: Дэнни… Иди посмотри… Ему сначала показалось, что он поднимается, а потом он словно провалился в глубокую дыру, как Алиса в страну чудес. И вдруг очутился в подвале их многоквартирного дома, а Тони был рядом, указывал на стоявший в глубокой тени чемодан, в котором отец держал все свои самые важные бумаги и в первую очередь, конечно же, ПЬЕСУ.
– Видишь? – спросил Тони своим вечно далеким, но мелодичным голосом. – Он стоит под лестницей. Прямо под ступеньками. Грузчики поставили его… прямо… под лестницу.
Дэнни сделал шаг вперед, чтобы получше рассмотреть чудо-чемодан, но почувствовал, что снова падает. И действительно свалился с дворовых качелей, на которых все это время сидел. Причем со всей силы ударился о землю.
Спустя дня три или четыре папа вне себя от злости расхаживал по квартире, жалуясь маме, что перевернул вверх дном весь подвал, но своего чемодана так и не нашел. В ярости он грозился подать в суд на фирму, будь она трижды проклята, перевозившую их пожитки, которая наверняка потеряла чемодан где-то между Вермонтом и Колорадо. Как, скажите на милость, сможет он когда-нибудь закончить работу над ПЬЕСОЙ, если рукописи след простыл?