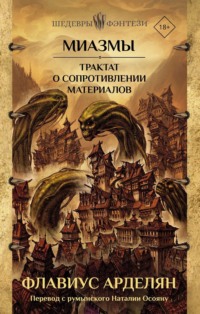Полная версия
Скырба святого с красной веревкой. Пузырь Мира и не'Мира
– Куда мы едем, Тауш?
– Куда глаза глядят, Бартоломеус, по следам зла.
– А мы его когда-нибудь догоним, брат?
– Я не знаю, – сказал Тауш, – потому что чем сильней ты догоняешь зло, видишь его черный затылок и чуешь вонь подмышек, тем сильней зло догоняет тебя, и затылок, который ты видишь, – это твой затылок, а смрад источает твое собственное тело.
И замолчали братья, и пустились в путь следом за мужчиной с патлами и бородой и брюхатой бабой, и любыми гнилыми помыслами, которые их призвали. Время от времени Тауш оборачивался, но не для того, чтобы проверить, в порядке ли Данко, – он смотрел дальше, поверх повозки, на горизонт, от которого они отдалялись.
– Что такое, брат Тауш? – спросил Бартоломеус. – Что ты видишь?
– Там кто-то есть, брат Бартоломеус. Кто-то идет за нами?
– Кто?
– Это два брата, я их хорошо вижу.
– И кто же они, святой?
– Тауш и Бартоломеус из Деревянной обители Мошу-Таче; они едут на повозке за нами, и их конь ступает по следам нашего коня, а колеса повозки едут по колее, которую оставляют наши колеса.
Бартоломеус решил, что всему причиной неуемная печаль и боль, и больше ни о чем не стал расспрашивать Тауша.
Глава десятая
В которой мы узнаем о ферме Унге Цифэра и о том, что там нашли братья; первая скырба Святого Тауша исходит от утробы
Сперва они шли, обходя города, но спустя некоторое время стали путешествовать от города к городу, задерживаясь на несколько дней, чтобы помочь тем, кто в этом нуждался, – по хозяйству, или с исцелением домашних животных, или с утешением больного или умирающего. И вот в одном из таких городов – был ли это Моос зеленый? – пока они у колодца на площади дожидались часа, когда можно будет уехать, и переговаривались напоследок с горожанами, кто-то узнал, что один из трех путников – святой Тауш, чья слава дошла и туда. К нему подошел старый хромец и спросил, найдется ли время, чтобы вылечить двух животных.
– Мой господин щедро вознаградит тебя и твоих спутников, я в этом не сомневаюсь, – заявил он, но сперва положил в ладонь Тауша толстый кошель с «клыками».
Бывшие ученики Мошу-Таче в дороге нуждались в деньгах, поэтому они направили свою повозку, в которой все еще лежал и плакал молодой Данко, туда, куда им указали; рядом с ним уселся старый хромец, бросая беспокойные взгляды на бедного измученного юношу с конской головой в руках – останками чего-то, что когда-то было живым, а теперь сделалось пищей червей и испускало вонючие соки.
Повозка выехала из города и направилась через холмы в лес. Лес этот называли Огненным супом, но он не выглядел выжженным: заросли были густые, зеленые и прохладные. Ветру там места не нашлось, и он ушел, унеся с собой все звуки. Но в тишине и спокойствии братья вскоре поняли, откуда взялось название: выехали они на прогалину, где трава не росла, а по краям стояли деревья с наполовину сгоревшими кронами. Когда-то здесь случился большой пожар, и в самом центре возникшего пустыря построили ферму. Это был большой особняк, чьи длинные крылья простирались в обе стороны, а перед ним, в некотором отдалении, стояли хлева и большие загоны, в которых кишела и шумела всевозможная живность – куры, коровы, овцы, кони, гуси, индюки. Подъехав ближе, братья увидели, кто ждет их на ступеньках особняка.
– Господин Унге Цифэр, – сказал старый хромец и опустил глаза, уставившись на жирного червячка, который копошился в шерсти конской головы в руках Данко.
– Рад гостям из Деревянной обители Мошу-Таче! – провозгласил мужчина. – Я вас ждал.
И как бы мне, дорогой путник, описать тебе этого хозяина по имени Унге Цифэр из фермы посреди Огненного супа? Представь себе человека длинного и худого, чьи тонкие руки плясали вокруг него, словно привязанные к веревкам, за которые дергает кукольник, от души налопавшийся дурману, – они, казалось, ломались во многих местах, как будто у этого мужчины было больше суставов на руках, чем у тебя или у меня, и с ногами было то же самое, но начни ты считать суставы, узрел бы, что их положенное количество, и сильно бы удивился увиденному. Кожа у него была, пилигрим, как та дубленая и выделанная, которую натягивают на барабан, по краям вся в мелких складках. Он не моргал никогда – или, по крайней мере, пока на него кто-то смотрел, – не улыбался, и глаза его в орбитах на удлиненном, смуглом лице почти не шевелились. А голос? Его голос, путник, был самым странным звуком, какие когда-либо слышал человек: он как будто рождался не в горле, а где-то позади, за спиной этого странного типа, вне Унге Цифэра, следуя за ним, но все время не поспевая.
– Пурой, – сказал Унге Цифэр, – покажи братьям, где они будут ночевать, и приготовь все к ужину. Дорогие ученики, – продолжил он, обращаясь к Бартоломеусу и Таушу, – давайте отужинаем вместе и поговорим обо всем, о чем нам нужно поговорить.
Он поклонился, согнувшись всеми сочленениями, а потом ушел в свой особняк.
Ведя учеников в комнату, которую им выделили на ночь, хромец Пурой все время поворачивал голову в сторону особняка и говорил:
– Эх, господа, теперь, когда вы познакомились с мастером Унге Цифэром, не судите нашу братию. Мы такими были не всегда. Когда-то тут была другая, красивая ферма, и хозяин был другой – звали его Хогарт, он выращивал всякое и разводил славных животных. Но пришел ему конец, и ферму со всем содержимым, включая меня, купил хозяин Унге Цифэр. Я не всегда был Пуроем [6], но это теперь мое имя, потому что все в жизни меняется и все мимолетно.
Показывая гостям кладовые и комнаты, и все, что еще нужно было показать, он сообщил, что в семь их ждет богатый ужин в саду позади особняка. Тауш и Бартоломеус подняли Данко из повозки и хотели отнести в комнату, но тут увидели, как к ним бежит Пурой и приговаривает, дескать, где была его голова? Забыл предупредить, что дохлятине не место в комнатах, да и вообще на ферме…
– Нет-нет, дохлятина пусть остается в повозке, а повозка – за пределами фермы, – сказал Пурой. – Здесь, когда кто-то или что-то умирает, мы его тотчас же выносим за ограду; и речи быть не может, чтобы притащить нечто мертвое на ферму по собственной воле!
Ничего не поделаешь: Тауш и Бартоломеус, как хорошие гости, с сожалением вынесли Данко с фермы и отвезли в повозке на край прогалины. Поцеловали в лоб. Данко был потерян, и братья это знали – он заблудился, как случается с живыми на тропах смерти, но они его любили и не хотели бросать.
До ужина оставалось еще два часа, и все это время Тауш простоял у окна своей комнаты, глядя в пустоту – на останки сожженных деревьев, на колыхание листвы, – и думая о Катерине, о матери и отце, о Мошу-Таче и обо всех созданиях, что когда-то были или будут. Но в особенности он думал о тех, кому не суждено появиться на свет. Когда вошел к нему Бартоломеус и сказал, что ему холодно, и какое-то странное чувство терзает нутро, Тауш сказал, что это естественно – они отправились по следам зла, и там, где они теперь ступают, зло уже успело пройти. А зло сперва проникает в нутро, потом – в поясницу, и уж после этого добирается до черепа, вот так сказал Тауш.
И в семь часов, как и было обещано, братья вышли, чтобы поужинать в саду за особняком. Там они обнаружили огромный шатер, приготовленный к празднику, и в его тени – длинный стол, за одним концом которого восседал хозяин Унге Цифэр, а за другим стояли два пустых стула.
– Мне сообщили, что ваш брат с нами ужинать не будет, – сказал хозяин. – Я приказал, чтобы ему в повозку отнесли кое-что из яств со стола. Не робейте! – И Унге Цифэр принялся уговаривать их есть и пить. – Пурой! Музыканты!
И тут из-за боскета [7] вышли трое музыкантов с дудкой, арфой и цитрой и начали играть мелодию, легкую, как ветерок, и убаюкивающую, как волны. На столе были выставлены отборные яства, серебряные кубки наполнили дорогим вином, и все самое ценное, что нашлось в доме, принесли Таушу, чтобы почтить его. В шатре витали ароматы блюд из самых разных стран, и, если бы братья не закалили свой дух за время ученичества, они бы точно накинулись на еду, позабыв обо всем на свете.
Ели они молча, и Тауш время от времени бросал взгляд на сарай, который стоял на самом краю фермерских угодий, между обгорелыми деревьями на границе прогалины.
– Что вы там держите, наисчастливейший Унге Цифэр? – спросил Тауш, указывая на эту старую хижину.
– Э-э, вон там? – переспросил хозяин, но не обернулся – он каким-то образом понял, о чем речь, как будто ждал вопроса. – Там у меня звери невиданной в этих местах породы, которых привезли издалека – ох и дорогая вышла затея. Но они спят днем, и в такой час едва ли успели продрать глаза.
– А мы не сможем поглядеть на этих прекрасных существ? – спросил Бартоломеус, и Унге Цифэр рассмеялся.
– Ох, нет! Они очень застенчивые и спят между зеркал. Если мы туда пойдем сейчас, они спрячутся, и мы не увидим ничего, кроме наших уродливых человечьих лиц – уж простите за такие слова!
И все рассмеялись, кроме Тауша.
– Зачем ты нас позвал, добрый хозяин? – спросил святой, и Унге Цифэр ответил, что их ждали.
– Ваше прибытие было предсказано некоторое время назад, еще когда вы ушли из Гайстерштата и отправились странствовать. Есть у меня два зверя: они совсем обессилели и не пьют; я бы хотел, чтобы ты их исцелил. Если получится, вознагражу сторицей. Если нет, спасибо за попытку и прими этот обильный ужин вместе с ночлегом на одну ночь как достаточную плату.
Тауш кивнул, дескать, сойдет, и вся компания вернулась к еде и питью.
– А вы откуда родом, мастер Унге Цифэр? – спросил Бартоломеус, прикончив седьмой кубок – да-да, дорогой мой путник, я в то время очень полюбил вино.
– Не думаю, братья-ученики, что вы знаете о таких местах, – ответил Унге Цифэр, – они далеко отсюда, там холодно и сухо, да и в общем-то мало кому нравится. Моих соплеменников всегда было мало, а теперь – еще меньше, и мало кто там останется. Здесь лучше – земля щедрая, воздух свежий, народ многочисленный и славный, нам такое нравится. Эти места люди творили сами, и нам это по нраву, ибо наши родные края никто не творил, они возникли случайно. Но хватит про мою родину, наш молодой святой устал и скучает, а у него трудная ночь впереди. Давайте-ка покончим с едой и выпивкой, а затем отправимся к животным. Пурой, пусть играет музыка!
Под конец пиршества они выпили вина – старого, прозрачного, с медовым вкусом. Бартоломеус сильно захмелел и, поедая сладости, принялся приплясывать возле музыкантов, веселясь. А вот Тауш вел себя тихо. Он раскурил трубку и сидел с нею в молчании, не сводя глаз с хижины у леса.
– Ну что ж, молодой святой, пришло время отправиться к больным животным, ради которых я пригласил тебя на свою ферму.
Тауш опустил глаза и кивнул – дескать, идем. Шагая рядом с Унге Цифэром, Тауш почувствовал исходящую от хозяина сильную вонь. Прислужники открыли хлев, но в нем обнаружились отнюдь не лошади или коровы, но две твари одной породы, а вот какая это была порода, он понятия не имел. Никогда еще таких зверей не видел. Ноги у них были длинные, раза в два длиннее лошадиных, и в два раза тоньше – можно ладонью обхватить. В конечностях было суставов больше обычного, и скелетоподобные тела держались на них весьма странным образом, болтаясь из стороны в сторону. Шкура была короткая, белая, и только вокруг головы росла густая серая грива. Тауш обошел их по кругу и посмотрел им в глаза, но увидел лишь дыры вместо глазниц, в которых ничто не шевелилось, и лишь глубоко внутри башки что-то поблескивало, как будто истинные глаза находились где-то там. У этих тварей, сказал мне позже Тауш, глаза были мертвые, а глазницы – живые. Он набрал воздуха в грудь и заметил, что животные не источали никакого запаха, хозяин вонял куда сильней, а вот они – ничуть, так что ни один хищник их бы не учуял. Кто знает, сколько было им лет и столько еще они могли вот так прожить, умирая?
– Что с ними, хозяин Унге Цифэр? – спросил Тауш. – С первого взгляда я что-то не нахожу причин волноваться.
– О, но она есть, и она серьезная, славный Тауш! Понимаешь, они умеют хорошо и красиво разговаривать – не как другие звери, а как люди, и даже лучше, я бы сказал, потому что не встречал никогда философа, который знал бы так много, или отшельника, который был бы таким набожным. Но вот уже три дня они молчат и просто глядят в пустоту.
– Откуда они, досточтимый Унге Цифэр? – спросил Тауш. – Я таких тварей впервые вижу.
– Они из моих родных краев. Их осталось мало, и очень редко они попадаются кому-то на глаза. Исцели их, прошу! – взмолился хозяин.
– А коли не смогу?
– Коли не сможешь, не страшно, славный Тауш. Завтра ты уедешь со своими братьями, как будто ничего не случилось.
– А если мы уедем прямо этим вечером?
– Ох, как ты можешь так со мной поступать? Я оторван от своего народа, от таких, как я, но мы все – гостеприимные хозяева. Я лишь об одном тебя прошу: не отнимай у меня то, что мне принадлежит, и позволь принять вас, как положено.
– Позволю, мастер Унге Цифэр, но знай: зверей твоих я исцелить не в силах, потому что даже не знаю, больны ли они на самом деле.
– Больны, Тауш, я же тебе говорю.
– Ты можешь говорить, что хочешь, но я-то ничего не чувствую, – возразил Тауш. – Из них ничто не исходит ко мне, от меня ничто в них не проникает; как если бы я стоял подле двух валунов на ходулях. Могу пальцами двигать сколько угодно, но эти создания не исцелятся, потому не могут заболеть, а заболеть не могут, потому что смерть не познали. Смерть же они не познали, потому что не познали жизни. Нету в них жизни, Унге Цифэр. Этих тварей, Унге Цифэр, не существует, и ты об этом прекрасно знаешь.
И, сказав это, Тауш вышел из загона и отправился к Бартоломеусу, который, хорошенько напившись, все еще был в саду за особняком – пожирал плацинды с тыквой. Эх, что сказать, славный мой пилигрим, очень я в те времена любил тыкву…
– Уже ночь, брат, – сказал Тауш. – Ложись спать, а то ведь мы на рассвете отправимся в путь.
Он сказал это громким голосом, чтобы все услышали. Взял Бартоломеуса и повел в их комнаты, а там отвесил брату две пощечины и вылил на голову кувшин воды.
– Очнись, Бартоломеус, – сказал святой. – Мы не будем тут ночевать.
И тогда он поведал брату все, о чем говорил с Унге Цифэром, и как тот смердел, и про хижину возле леса, и про зверей из хлева, одновременно мертвых и живых. И еще кое-что он сказал:
– Бартоломеус, когда я собрался выйти из хлева, этот негодяй Унге Цифэр на миг повернулся ко мне спиной, и у него на затылке я заметил складки кожи, а в них – глаз, который смотрел наружу. Как у владык добра есть свои разведчики, Бартоломеус, так и у владык зла. Нас ждали, нас заманили; они знали, что мы идем по следу Миазматического карнавала, и то, что окопалось на этой ферме, просто хочет нас остановить.
Бартоломеус, вспомнив про бойню в лесу, тотчас же протрезвел, как будто кто-то незримый очистил его кровь от алкоголя, и вместе с Таушем разложили они на кроватях подушки и всякое тряпье, да прикрыли одеялами, как будто легли спать, а сами тайком выбрались из комнаты. Была уже глубокая ночь, и даже луна над фермой светила неохотно, будто милостыню подавала. Они спрятались за густым боскетом в саду и в фальшивом лунном свете стали наблюдать за особняком и окрестностями. Не прошло много времени, и вот что случилось: открылась дверь, и через нее просочились три силуэта; потом из особняка вышел четвертый, пересек сад и направился в лес – туда, где стояла повозка Тауша и Бартоломеуса, в которой лежал безучастный Данко. А трое – судя по походке, одним из них был слуга Пурой, гнусный червяк – тихонько вошли в комнату братьев. Время шло, тишину не нарушал ни один звук, злодеи подкрадывались тихо, как смерть во сне. Со стороны леса приблизился Унге Цифэр, которого теперь лживая луна озаряла целиком – его туго натянутая кожа блестела от пота, и сам он выглядел ожившим пугалом, но при этом нес Данко в руках, а бедный Данко сжимал голову коня, и казалось, что безучастный человек, которого несет Унге Цифэр, весит не больше перышка, а конская голова, которую он прижимает к груди – не больше песчинки. Они вошли в хижину на краю леса, а по другую сторону сада трое слуг во главе с паршивым хромцом Пуроем уже узнала про уловку братьев и принялась разыскивать в особняке хозяина – видимо, чтобы сообщить ему о своей неудаче.
Тауш и Бартоломеус выбрались из укрытия и побежали к хижине. Оказавшись рядом, распахнули дверь – и на них излилась жуткая вонь, а Унге Цифэр оказался прямо на пороге, но один; Данко исчез вместе с гнилой головой коня. Не успел Унге Цифэр ничего сказать, как братья накинулись на него с кулаками и пинками, оттащили за хижину, чтобы никто не увидел. Заткнули рот и принялись колотить, но их кулаки с каждым ударом погружались в плоть, как во что-то мягкое.
– Ты с ними в сговоре, – кричал Тауш, – у вас с той брюхатой и ее дружком один гнилой замысел на всех!
И бил его Тауш, и Бартоломеус следовал примеру брата. Унге Цифэр уже не пытался издать ни звука, как будто то, что сидело в нем, распрощалось с жизнью, но он еще не умер. Тауш это почуял, поэтому перевернул его спиной кверху и раздвинул кудрявые локоны на затылке. Отыскал дыру между складками кожи (изнутри слабо повеяло теплом), сунул в нее пальцы и раздвинул. Оболочка треснула, и Тауш увидел под нею скелет, как будто сделанный из смолы и нутряного жира, горячий и сальный кокон, и, потрогав пальцем зеленовато-желтую кожицу, узрел сотни глаз размером с детский кулачок, которые шевелились и трепетали. Тауш поискал в зарослях сломанную ветку. Ткнул концом в тварь, что лежала у его ног, и из лопнувшего кокона пахнуло блевотиной и дерьмом.
– Быстро вытащи оттуда Данко! – велел Тауш, ковыряя веткой оболочку, и Бартоломеус так и сделал – побежал, выбил дверь, но не нашел Данко в хижине, там была лишь вонь, и в углу – открытый колодец, ведущий в недра земли. Бартоломеус даже заглянуть в него не посмел, но вышел наружу и, обойдя хижину, вернулся к Таушу, который стоял, онемев и не шевелясь, над растерзанным телом Унге Цифэра. Посреди кокона, в самой сердцевине их «хозяина», обнаружился человек – какой-то незнакомый мужчина, весь обожженный неведомыми жидкостями и оплавленный, как свечка, то бишь мертвый. Но Тауш не был в ужасе, он просто стоял молча и неподвижно, внимательно, словно в поисках чего-то, вглядываясь в рисунки, образованные ожогами, плотью и раковинами, и лицо его исказилось от отвращения, снизошел на него ужас: на шаг он приблизился к чуждому миру, и что-то в голове у него вспыхнуло, словно его собственная душа вдруг стала хворостом, а Унге Цифэр – ветром, раздувающим пожар. Бартоломеус встряхнул брата, умоляя прийти в себя.
– Данко пропал, его бросили в колодец. Тауш, не оставляй меня тут одного!
Потом в саду раздался шум: Пурой и его подручные с вилами и топорами отправились на охоту за святым, и Бартоломеус, схватив Тауша за руку, убежал вместе с ним вглубь леса. Оглядываясь в поисках преследователей, Бартоломеус видел, отчего бежать с Таушем так легко: святой не бежал, его ноги даже не касались земли, он летел над нею, как перышко, а брат Бартоломеус был его ветром.
И вот так началась, дорогой путник, первая скырба Тауша, святого Гайстерштата и Мандрагоры.
Глава одиннадцатая
В которой мы узнаем про первую скырбу Тауша – немногое, потому что о ней мало известно; нечто догоняет братьев
Только на рассвете братья вышли из укрытия. Где-то далеко раздавалось петушиное пение, Бартоломеус вытер Тауша от росы; трухлявый пень послужил им надежным укрытием, и Пурой с двумя подручными не нашел братьев. Вытерев как следует святого, Бартоломеус ласково пригладил ему волосы и сказал:
– Тауш, брат мой, мы опять спаслись. Что это было за существо, мой святой друг? Ведь оно точно не из нашего мира.
Но увидев, что Тауш не говорит, не зная, слышит ли он, чувствует ли и о чем думает, Бартоломеус взял его на руки и отнес в село, где недавно пели петухи, приветствуя новый день. Он не остановился, пока не дошел до колодца, где попил воды и умылся, а потом добрался до другого конца села, где усадил Тауша под деревом на обочине. Вернулся, чтобы столковаться с кем-нибудь из жителей и заполучить лошадь и какую-нибудь повозку попроще. Сделал ученик, что сумел, и получилось – вернулся Бартоломеус верхом на старой кляче, которая тащила жалкое подобие повозки, кое-как сколоченное из кучи досок. Тауш, как оказалось, продолжал глядеть в пустоту, глаза у него вытаращились, как у повешенного, и сидел он, съежившись, почти не дыша – словом, выглядел так же, как и когда Бартоломеус его оставил. Тот же поцеловал святого в лоб – как брата по крови, а не по вере – и уложил в повозку.
Ехали они долго, до самого вечера, из страха и по незнанию объезжая села и ярмарки, ибо Бартоломеус чувствовал себя одиноким и покинутым, и не мог никак защитить своего брата. Когда ночь обрушилась, словно серп на пшеницу, Бартоломеус остановил повозку под открытым небом, обнял Тауша и заснул. Ночь была нелегкая, путник, ибо Бартоломеус (то бишь я, да) прошел сквозь огонь и воду, и дурные сны тревожили его покой один за другим. Один я помню, а остальные забыл. Привиделось мне, что я лежу рядом с Таушем в повозке, и тут наступает заря. Я встаю и решаю, что пора ехать дальше, как вдруг вижу, что Тауш с ног до головы покрыт всевозможными букашками-таракашками; я крикнул и руками замахал, прогоняя летучих и ползучих гадов с тела моего друга, и когда я по нему ладонью хлопнул, прогоняя насекомых, она ушла глубоко – и все они внезапно взлетели или разбежались, а там, где должен был лежать Тауш, осталось пустое место. Я очень испугался и проснулся – ну, Бартоломеус проснулся, весьма испуганный, что потерял брата, ведь больше у него в жизни ничегошеньки не осталось. Но не переживай, пилигрим, Тауш лежал себе, где лежал, так что наша история тут не закончится, не сегодня. Он лежал в той же позе, в какой я его оставил, когда обуял меня сон – с вытаращенными глазами, неподвижный словно кукла, охваченный скырбой.
Так было и на следующий день, до ночи, когда они снова остановились под открытым небом, под ясной полной луной, и Бартоломеуса опять навестили ночные духи, шепча во сне о том, что он хотел и не хотел услышать. Лишь на третий день Тауш открыл рот и попросил Бартоломеуса остановиться. Тот так и сделал, и очень обрадовался, что Тауш не сошел с ума и вернулся в мир живых. Тауш спустился и отошел на обочину, где справил нужду за все три дня, что провел в неподвижности. Попросил поесть и попить, тоже за три дня. Потом сел рядом с Бартоломеусом, и братья отправились в путь. Бартоломеус, снедаемый любопытством, не сдержался и спросил, где же святой был столько времени.
– Повсюду, – ответил Тауш, не глядя на него.
– И что же ты видел?
Святой ответил, что видел все.
– А меня видел? – спросил Бартоломеус.
– Нет, – прозвучало в ответ, – тебя там не было.
И вот так, в печали, ехали они вдвоем в края неведомые, где ждали их гниль и всякие ужасы, но братья набрались мужества от пережитого, и покой дороги лишь раз был потревожен, когда Бартоломеус, видя, что Тауш все время смотрит в сторону, спросил:
– Что такое, святой мой брат? Что ты там видишь?
– Вижу двух учеников из Деревянной обители Мошу-Таче, – сказал Тауш. – Едут они, как мы, не опережают и не отстают.
– А кто они, Тауш?
– Это Бартоломеус и Тауш, последние ученики творца миров, и объяла их печаль.
– А Данко с ними, святой? Данко Ферус?
– Не знаю, – ответил Тауш. – Не видать его.
И на этом замолчал, а потом вновь наступила ночь.
Глава двенадцатая
В которой мы узнаем про трактир наслаждений и про то, как братья опять спаслись от смерти; вторая скырба начинается с чресл
Вкаждой деревне ученики спрашивали про Миазматический странствующий карнавал. Одни говорили, что знают про него, и показывали то туда, то сюда, на дороги через лес и окраинные тропы; другие знали, но молчали; третьи не знали и не желали знать, а тем, кто не знал, но хотел узнать, лучше было бы поберечься. Тауш и Бартоломеус останавливались у добрых людей, которые кормили их и позволяли ночевать в хлеве или на чердаке; у вероломных людей, которые попытались украсть у них последнее тряпье. Ехали они все дальше и дальше, с печалью узнавая, что на достаточно большом расстоянии от Гайстерштата все меньше людей слышали про обитель Мошу-Таче, а когда добрались до местечка, где как будто бы вообще никто не знал про их родные края – мало того, над ними насмеялись и прогнали, точно псов бешеных, – оба очень сильно расстроились. А потом повеселели: ведь это к лучшему, да, пилигрим? Пускай тайное остается тайным, а видимое спрячет его еще лучше. Чем сильней они удалялись от дома, тем больше Мошу-Таче и его ученики превращались в миф и погружались в забвение. И вот в один из тех дней блужданий, ближе к вечеру, они подъехали к трактиру, решив в кои-то веки поесть и выпить у теплого очага, а потом – поспать в мягкой постели.