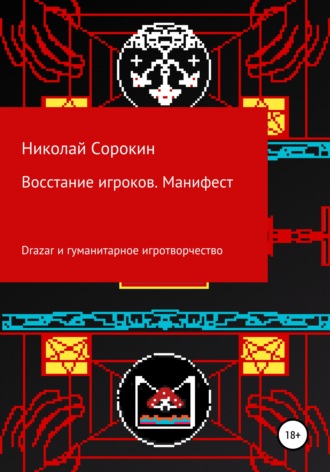 полная версия
полная версияВосстание игроков. Манифест
Таким образом всякая искусная игра есть потенциальная профессиональная деятельность; искусство – это такая любая искусная игра, которая воздействует (сейчас – не имеет значения, а раньше – «положительно») на чувства всякого живого организма (особенного такого, что обладает центральной нервной системой). И если искусно-приготовленный алкоголь может положительно оценить (стимул-реакция) всякое животное обладающее чувством вкуса и чувством равновесия, или искусно-написанное музыкальное произведение – всякое животное, что обладает чувством слуха, то при этом ни одно животное не сможет осознать причину её искусности: не воспроизводить комплекс блюд или партитуры, а самой постичь искусство музыки и кулинарии. Если «искусная» игра не подразумевает какую-то собственную профессиональную эстетику «вне» игры (профессиональная форма, профессиональная музыка и т.д.), эту эстетику реализует счастливый случай.
Пространство всякой потенциальной профессиональной игровой деятельности («искусной») определяется в прямой зависимости от определяющих эту профессиональную игровую деятельность факторов, – то есть игровое пространство есть всё что прямым образом ответствует за игровую мастерскую суть: определённая группа мышц, психика актора, предметы определяющие саму суть игры и т.д. Этим образом и «кости», и «карты» становятся профессиональными атрибутами, если известно, что крапление карт и тяжесть костей прямо влияют на вероятности (крапление так почти полностью исключает идею «вероятности» и оставляет только механику раздачи карт и логику карточной игры), хотя и известно, что выпадение счастливого случая и заключение пари можно реализовывать в любой форме. Время же «искусной» партии находится в прямой зависимости от первой оплошности, после которой можно утверждать, что профессиональная игра изменила свою игровую структуру. За этим можно объявить как игровую паузу (отличать от «перерыва», «передачи хода», «завершения первого акта» и т.д.), так и окончание игры. Тем искуснее такой игрок, чем менее он производит профессиональных оплошностей, и тем искуснее игра, чем менее совершается игровых пауз.
О «подражании» рассказывать можно бесконечно-долго прежде всего по той причине, что одной темы о клинических ролевых играх и психодраме хватит на всю профессиональную деятельность компетентного исследователя, чего не требует данная работа. Вместо того чтобы объяснять психические механизмы и бесконечное множество «кейсов» в своих примерах предлагаю подойти с точки зрения классической социологии. «Сознание, самость, общество», Дж. Г. Мид, чикагский социолог и школа символического интеракционизма: «У первобытных народов, как я сказал, признание необходимости различать самость и организм явствует из представлений о так называемом двойнике: индивид обладает некоторой самостью, подобной вещи, которая испытывает воздействие со стороны индивида, когда он оказывает воздействие на других людей, и которая отличается от организма как такового тем, что может покидать тело и возвращаться в него. Это основа представления о душе как некоторой обособленной сущности…<…> Игра в этом смысле, особенно та стадия, которая предшествует организованным соревнованиям, есть игра во что-то. Ребёнок играет в то, что он – мать, учитель, полицейский, т.е. как мы говорим, здесь имеет место принятие различных ролей. <…> Дети собираются, чтобы «поиграть в индейцев». Это значит, что ребёнок обладает определённым набором стимулов, которые вызывают в нём те отклики, которые они должны вызывать в других и которые соответствуют «индейцу».<…> Он обладает некоторым набором стимулов, которые вызывают в нём самом отклики того же свойства, что и отклики других. Он принимает эту игру откликов и организует их в некое целое. Такова простейшая форма инобытия самости.».
Герберт Мид продолжает свою мысль затем описывая соревновательные игры как модель «обобщённого другого», то есть как такую модель, когда каждый из акторов понимает роль каждого, а также понимает, что каждый также понимает роль каждого: этим образом появляются значимые символы, то есть такие символы, которые необходимы для ролевого взаимодействия, и незначительные «жесты», то есть обыкновенные движения. О структуре такого ролевого взаимодействия он рассказывает на примере игры в бейсбол, хотя известно, что бейсбол не является театром дабы рассказывать о ролевых играх.
И так, на данный момент мы имеем ролевую игру «символических интеракций», то есть такую игру, в которой игроки в бейсбол знают, что они игроки в бейсбол и играют ни во что иное вне бейсбола («бейсбол» и его правила в этом случае выступают Мидовским «обобщённым другим»), и при этом также знают, что смотрящие за игрой болельщики также не являются никем иным кроме как смотрящими за игрой. За пределами стадиона ролевые законы символического интеракционизма продолжают действовать, формируя символическую действительность: поэтому можно утверждать о значимых символах использующимися в пределах одной «команды» в формах жестов, языковых жаргонизмов и т.д. Такое ролевое взаимодействие невозможно без «другого», поэтому, если угодно, «своим-другим» мы формируем значимые символы, и при этом понимая что и «чужие-другие» могут такие символы воспринимать, нам потребуется создать свой значимый язык чуждым для «чужих-других».
При этом «подражание» не обязательно должно быть по отношению к «чужому-другому», если, понятно почему, против «я» никакой «чужой», т.е. противник, не выступает. В принципе, подражать можно чему угодно (логике, эстетике, или всему сразу), и каким угодно способом. При этом ролевая игра одновременно может сочетать внутри себя не только несколько подражаний в разных формах, но и несколько ролевых секторов взаимодействия одновременно (чудесно): я не только знаю что играю «с другим» (игровая роль «чужого» или «своего»), но ещё мне известно (или неизвестно) кто мой «другой» вне актуальной партии (социальная роль), почему именно он играет в данную игру (личностная роль, где «личность» – социальный феномен, нежели личностный), а также, если это всё таки «ролевая игра», какую именно роль он отыгрывает (то есть «внутриигровая» роль).
Теперь учитывая тот факт, что значимых ролевых «подражаний» минимум 4 сектора, если под самим подражанием не брать во внимание журчание воды, шум ветра и т.п. можно обозначить сейчас, что культура постмодерна обладая характерным актом в форме «крушения четвёртой стены» по своей сути шире обозначило «границы» ролевых игр: для Роже Кауйа стирание «границ» игр воспринималось за форму помешательства, если, конечно, такие лица изначально не намеревались «всех» держать в страхе дабы иметь политическую силу (таков посыл прослеживается в его описании культуры «масок» у народов примитивной формы развития). Нет, границы ролевых игр завершаются только на том месте, где уже более не работают законы символического интеракционизма, хотя Г. Мид говоря о ролевом взаимодействии говорил о значимых откликах, и игры здесь скорее являются актами создания символического языка, но вот игры эти «искусные», «ролевые», «счастливослучайные» или тем более «биологически-необходимые» мне из неоднократного переознакомления известно не стало; по крайней мере ничто из перечисленного ничего не отрицает, поэтому общество символических интеракций Г. Мида – общество, играющее одну из наиискуснейше-сделанных кем-то игр, или игр наидуачнейше-выкинутых вселенным кубиком вероятностей, или наиобразнейше-подобных игр, или игр необходимейших самой сущности, или тем более всему Сущему.
Существенным отличием от «репрезентации» является тот факт, что подражание не является трудом, то есть не является работой. В театре, человеку к искусству причастия имеющего малого, отличить репрезентацию от подражания практически не предоставляется возможным. Опираясь на «культурный» мир диктатуры рабочего класса можно предположить, например, что формы «художественной самодеятельности» для всякой постановки суть чуждое; «если человек «работает», то пусть «работает» по ГОСТу и не отходит от заданного плана партии», – подражательное суждение, возникшее из эмпирического опыта. Тот же момент, что, например, сам Шекспир ставил бы и тембр голоса, и композицию, и актёров по-своему для собственной пьесы, и сам бы сыграл свою роль иначе, – рабочему человеку не понять. В.В. Маяковский перенял этот дух эпохи, и осознано или нет, но создал свой «стиль» и «свою» строфу таким образом, что читая поэта более не остаётся его читать никак по-другому кроме как он сам своей строфой определил. «Репрезентуя» таким образом поэта, мы всё равно при этом не «репрезентуем» Маяковского как личность через его же стихи. Однако стоит ознакомиться с биографией автора, и стихи написанные вдруг приобретают совершенно другой окрас: теперь это не поэт, это некто спящий на запертой кухне не-своей женщины и славящий блага наступившей кровавой диктатуры. И более не спасёт «великого» поэта его репрезентативная строфа перед личностным подражанием актора.
Этим образом можно заключить, что «подражание» есть реализация в пространстве всякого личностного субъекта, живого или мёртвого, существовавшего или нет, одушевлённого или неодушевлённого, а «ролевая игра» – реализация в пространстве всякого общественного субъекта, архетипа, ярлыка и т.п. Подражание поэтому больше определимо к искусству (моё видение о солнце-корове-траве-событии в форме музыкальной, дабы вы прочувствовали и моё видение о субъекте, и сам субъект в моём понимании о нём), а «ролевые игры», собственно, к играм: так как «индейцев» изучить проще «мёртвого поэта». Поэтому музыку не обязательно «изучать»; достаточно обыкновенной практики взаимодействия с инструментом и прочувствывания интересующего вас субъекта, дабы и о нём написать хотя бы песню.
И так, пространство игр «подражательных» и «ролевых» находится внутри, вовне, и для какого-то определённого поля распространения ролевого взаимодействия, то есть: 1) пространство «в нас» как акт подлинного творчества в неисчислимом времени (можно постоянно передумывать и переделывать свои собственные представления о субъекте); 2) пространство «вне нас» как акт наличного творчества как «делание» (музыки, картины, маски и т.п.), во времени ограниченное вашей потенцией или игроками (особенно если вы играете в «ролевую игру» на подобии «D&D»); 3) пространство «какого-то» определённого поля определяется логически и эстетически в зависимости от выбранной формы для презентации (а не делания) ролевого подражания (музыка, театр, кино и т.п.). И «делание», и «презентация» при этом могут происходить одновременно, а само «делание» может быть как «трудом», так и игрой (в любой её форме).
Исходя из утверждения о бесконечном множестве игр, а также если исходить из некоторого понимания тех позиций, что игровые стихийные элементы не противоречат своим нахождением друг другу в пределах одной игровой формы, можно предположить, что во всём бесконечном количестве игр и их форм в принципе присутствует некоторое количество бесконечных игр, в которых можно наблюдать все приведённые элементы. Можно взять таким образом некоторое (условно составив предварительную выборку) количество игр и отсеять от них «всё лишнее», тем самым придя к их элементарной структуре: в принципе так окажется, что все взятые игры точно имеют внутри себя все приведённые игровые элементы, и от того окажется, что в принципе человечество играет в одни и те же игры в принципе.
Ответом на вопрос «почему же всё-таки мы играем в разные игры если учитывать их общие элементарные составляющие» явится, собственно, «идея». «Идея» эта не обязательно должна быть глубокой, но и весьма поверхностной, как например: «идея бросать мяч в кольцо». Таким образом можно, заранее забежав вперёд, утверждать, что игры наиболее явно приближены к миру идей, и поэтому дух человечества, его созидательная сила суждения наиболее раскрывается в своем действии по отношению к играм: как для игроков, так и для наблюдателей. Однако ни игрок, ни наблюдатель не «делают» новых игр: игрок и наблюдатель есть социальные роли в пределах игрового пространства, вне же него, каждая личность, несомненно, лишаясь статуса «игрок» и «наблюдатель» обладает полной потенцией к игротворению. Стоит учитывать, конечно же, что выходя за пределы одного игрового поля можно сразу же оказаться в другом, пусть более обширным, но всё таки игровым полем. Собственно, поэтому статус «игрока» весьма условен, так как человечество постоянно играет в игры, масштабные, и более скромные. Так и вот: всякая идея лежит в корне любой игры, и эта же «всякая» идея ответственна за бесконечные субъекции одной и той же игровой элементарной инвокации.
Установимо таким образом, что игра по своей природе обладает элементарно-структурной моделью (поэтому мы её можем определить и отделить от иного рода деятельности), и сама из себя игра реализуется как в форме «биологической необходимости», то есть такой необходимости, что заложена в «игровой» природе живых существ, так и «человеческой необходимости», то есть тем, что определяет человека от всяких живых существ, то есть «идейным созерцанием». Поэтому здесь игры и делятся на «идейные» (то есть все человеческие) и «безыдейные», и по причине того, что «безыдейными» играми занимаются деятели заинтересованные в биологии, речь далее будет вестись только об «идейных» играх.
***
И так, всякая игра есть явленная миру в своей неповторимой форме идея: мир идей бесконечен, и реализовать одну и ту же идею можно в бесконечном множестве форм: это можно подтвердить на одном только примере игр, посвященных идее «счастливого случая», и тем более «счастливый случай» можно выявить во множестве других игр, где он является органичным дополнением к другой внутриигровой идее. Поэтому можно утверждать, что всякая явленная миру игра (еще раз: не игра, обусловленная «биологической необходимостью») есть носитель какой-то идеи. Поэтому человечество обладает потенцией к систематизации бесконечного количества игр опираясь на их идею («идея игры с мячом», «идея игры с клюшкой» и т.д.). Синтезом к вопросу о бесконечности и конечности игрового пространства здесь является фигурность этого пространства: поэтому «игра с клюшкой» не является игрой с клюшкой без наличия клюшки; тогда это будет «хоккей ногами», например, как еще одна форма одной идеи хоккея.
Всякая игра должна быть приведена в движение: поэтому всё что не одушевлено, бездвижно, или хотя не обладает свободой в собственном действии, может являться на весьма гуманных основаниях игровым компонентом. Использование поэтому одушевлённых объектов в качестве компонентной основы в актуальном цивилизованном обществе невозможно, и в контексте актуальных норм морали использование всякого живого явления позволительно только в форме образов и моделей. И, конечно, найдётся весомое число игр, которые и неодушевлённые предметы используют образно и модельно, например, игры об идее войны и её ведении (с другой стороны, опять-таки, вопрос гуманности использования настоящего оружия для игры «понарошку»). Приводя таким образом игру в движение, мы, то есть игроки, идейно двигаем компоненты, что прямо или образно отвечают нашей идее. Если «идее» безразлично какие именно компоненты приводить в движение, такая игра является абстрактной. Поэтому, чисто в теории, все шахматные фигуры на доске можно заменить на разноцветные игральные кубики: в этом плане шахматы останутся шахматами в своей идее значимости положения в пространстве. Отсюда можно посудить, что в принципе всякую игру, прямо не завязанную на идее какого-то конкретного компонента, можно назвать абстрактной. По своему обыкновению (что не удивительно) идеи таких игр математичны, а сами создатели таких игр так или иначе связаны с математическим вакуумом по своему образованию. Взять хотя бы игры на счастливом случае, где «счастье» по разумению таких вакуумных математиков отбрасывается как суеверие, что приписывается поверх теории вероятностей.
И так, можно-ли ответить на вопрос: «почему именно лошадь ходит буквой «г»», если для абстрактной игры не имеет никакого значения как обозначать фигуры (главное не путаться), а потому эту самую «лошадь» можно поставить в качестве «короля». Возразят, что «шахматы» про войну. Тогда можно заменить все фигуры кроме «короля» на разноцветные пасхальные яйца, от того шахматы не убудут в своей идее, но по своей сути исчезнет… То, что исчезнет есть «эстетика», и именно она и определяет почему шахматные фигуры выглядят так, а не иначе. Фигура коня эстетически соотносится с ходом фигурой буквой «г», и поэтому конь не заменим на обыкновенный красный куб, хотя по факту сама эстетика шахмат может сохраниться.
Эстетика, поэтому, главная опора для игротехника гуманитарного склада ума, а сама игра, обладающая не только внутренней логикой игры, но и эстетикой компонентов игру сопровождающих, собственно тех, кого именно идея игры приводит в движение посредством игроков, есть игра игротехнического гения. Найти «носителя эстетики» в чистом движении абстрактной фигуры также непросто, как обозначить механики для эстетического объекта, а потому незаменимого для игры.
И так, о проведённой работе мудрого игротехника (будь это человек или общество) можно судить из того, как некоторая идея находит своё игровое отражение в сочетании игровой логики и эстетики, прямо к идее относящейся. Логично, что для того чтобы «дойти от точки «А» в точку «Б» нужно идти в правильном направлении, а именно соблюдая условие задачи: от «А» до «Б». Эстетично, что для того чтобы «дойти от дома до метро», нужно не только логично пройти от точки «А» до точки «Б», но ещё и перенять целый комплекс каких-то особых, вне-математичных переживаний по ходу дороги: и неожиданные встречи, и переживания, и погода, и т.д. Получаемая игра таким образом в своём наблюдении и игрании породит целый комплекс созерцаемых идей из первоначальной идеи «поход до метро»: в зависимости от того какой эстетикой будет наполнена игра и как она прямо будет соотноситься с логикой игры.
Тесным «союзником» для всякой игры является «миф»: строго по той причине, что и миф, и игра суть явленные в мир обналиченные идеи. Если миф в трансценденталистском понимании А.Ф. Лосева: «есть в словах данная чудесная личностная история»3, – то игре же в целом не обязательно иметь личность как некоторую живую сущность. Данное положение было явлено из стихии «подражательных» и «ролевых» игр, где «роль» включает в себя только социальный элемент, а «подражание» – всё вне социума; можно подражать и воде, и музыкальному произведению подражающему воде, и исполнителю музыкального произведения подражающему воде и т.п.
Традиционные магические ритуалы в явленной формуле Б. Малиновского «миф, заклинание, ритуал» есть ничто иное как игра подражательная, а не ролевая. Мало того, в целом если исходить из установок сугубой рациональности «примитивного» человека, что стоит помнить в рассуждении о магии, можно здесь заверять, что, подражая мифу, даже если миф рассказывает сугубо об актуальных социальных отношениях, магически мы понимаем, что всё вне-ролевое образует роль: и журчание тех же вод, и пение птиц, и сияние Солнца, и всякое животное рядом формирует представление об обществе примитивного человека как прежде всего личностное-вне ролевое, особенно если рассуждать о «священных» мифах, которые непременно участвуют в обрядовой жизни всякой «племенной» и «родоплеменной» группы. Приводя и далее труд Малиновского: «По Дюркгейму религия социальна, ибо все её Истины, её Бог или Боги, сам Материал из коего она создаётся – всё это ничто иное, как обожествлённое общество. <…> Однако неужели примитивной религии неведомо одиночество? Например обряды инициации говорят об обратном. А сущность морали основана на совести»4; и в это же время: «Во всех примитивных обществах магия и выдающаяся личность идут рука об руку»5; «Общество, являющееся хранителем светских традиций, мирского, не может быть воплощённой религиозностью, или Божеством»6.
То есть «символические интеракции», что происходят в процессе ролевой коммуникации, не отражают тех же процессов, что происходят в процессе коммуникации личности по отношению к миру как личности, особенно в процессах созидания такого мира. Созидательная сила суждения каждой личности выявляет из мира те идеи, которые в ролевых играх переосмыслить без личностного фактора невозможно; можно переосмыслить «плохих» разбойников приведя в пример Робин Гуда, но «разбойник» как социальная роль останется разбойником, – в ином случае это не разбойник. Не обязательно говорить здесь о морали, – например можно переосмыслить, что разбойники не только обитают в лесах, но и ходят по морю. А можно переосмыслить, что море это находится в лесу, или в космосе, или под землёй, и т.д. Точно также не переосмысляемы и «плотники», – однако из этого не следует, что за «плотником» не стоит личности; потому «играть» в плотника есть симулировать или репрезентовывать плотника, если не выходить за пределы его мастерской (конечно, мастерской именно плотника, а не игротехника, или кого ещё). Здесь лежит ключевой момент: если логика плотника и эстетика плотника прямо соотносится с теми «откликами», которые формируют этого самого плотника, то можно говорить о симуляции. Однако играть в «индейцев», например, в России, – это именно играть, а не репрезентовывать, так как мифологическое мышление индейцев не сформировано пространством России. «Хорошо», – скажите вы, – «а как же шаманы, что есть и на территории России, и на территории Америки?». Отвечаю так: у шаманов не было ни «американских», ни «российских» школ, и потому если в России «играть шаманов», то непременно нужно быть ни в российских лесах, а там, где шаманов не было: в тех же самых школах, например. Здесь я ответственно заявляю, что «шаман» в своей социальной идее и по своим социальным функциям (то есть его «роль») остаётся шаманом вне зависимости от пространства (учитывая шаманские практики путешествий), НО шамана, причём шамана современного, то есть неизменённого носителя традиции в эпоху хоть индустриализации, хоть пост-индустриализации, не могло возникнуть нигде, где его не могло возникнуть, хоть, например, в Италии, хоть в Московской общеобразовательной школе. Ни то, ни другое своим пространством (то есть своей личностью в эстетическом и логическом комплексах) не породило шаманов, и потому «вынуть» социальный феномен и поместить его в пространство ему несвойственное – чистая идея синкретики ролевых и подражательных игр: мы не можем сказать что бы было тогда-то (и вести себя сообразно собственным знаниям, а не представлениям), потому можем только репрезентовать известную нам социальной роль в своей «естественной» среде в среде ей неестественной, и то лишь до тех пор, пока наши знания о поведении в старой среде находят отклик в новой среде. И когда такие отклики наших знаний оканчиваются, мы или развиваемся как личность через призму нашей репрезентуемой роли, или завершаем репрезентацию, то есть не переступаем порог симулирования, а потому в принципе не начинаем играть.
Собственно, поэтому здесь и говорится: в ролевых играх личность есть такая роль, что реализует себя далее собственных социальных рамок («расширяя» пределы роли за счёт личностного развития), при этом не сменяя саму роль. Только по той причине, что каждому из игроков известно, что игроки играют, такое «ролевое-личностное» понимание игры всё-таки является пониманием ролевым, так как «игрок» прежде всего есть социальная ролевая модель: поэтому ролевые игры объективно называются «ролевыми», а не ролёво-личностными, хотя внутриигровой элемент такой игры сугубо «подражательный», а не «ролевой»; поэтому только в одиночных играх игрок перестаёт быть ролью, и является личностью.
Одиночная же игра ребёнка, что ведёт речь о собственных родителях, прежде всего есть чистое подражание без социального «игрового» статуса, так как без коллективного переживания такую деятельность нельзя назвать «ролевой» игрой, а потому не может возникнуть в пределах деятельности «социальных символов» символического интеракционизма: стоит вспомнить хотя бы миф об Одине, кто в одиночку постиг руны, то есть письменную символику, что священна и значима, очевидно, не потому что она возникла в пределах общественной коммуникации как типичный «значимый» язык.
О чистом подражании ребёнка далее: ребёнок помещает своего отца в пределы собственного тела (как «шамана поместить в школу») и подражает предположительному поведению собственного отца в чужом (своём) теле, или ребёнок помещает именно «роль» отца в пределы собственной личности и сам пытается реализоваться как личность через рамки новой, «отцовской» роли. Можно увидеть таким образом, когда игрок вселяется в чужую роль, а когда эту роль помещает в чуждое ей пространство. Установимые созиданием выводы о чужом опыте «подражательной», то есть одиночной, а не «ролевой», то есть коллективной игры, отразят собой чистую идею, непременно данную в истории; а потому одиночные подражательные игры являются мифотворческими ресурсами, и, как следствие, компонентами для традиционной магии: причём не только в качестве мифа, но и косвенно, то есть путём подражания полученному мифу, в качестве «ритуала». «Роль» здесь есть идея, причём именно как «роль развития личности в ролевой игре». В искусной ролевой игре поэтому сама личность суть «дайс» («пирамида», «куб», и т.д.) с неограниченным, динамично-сменяющимся числом граней по отношению к выпадению тем ситуациям, на которые ролевые, то есть социальные границы не могут ответить, а потому предопределить реакцию личности, его поведение, и поэтому его становление: азартные игры поэтому с ограниченным числом выпадений очень органично вписываются в неограниченные выпадения личностных реализаций; только неоднократное переживание одного и того же личностного становления отвечает за игровую стратегию, но в отличии от математической модели, неоднократно одной личности попасть (не «организовать» как правоохранительную практику, а самому стать участником) в ситуацию «дилеммы заключённого», – вопрос неисчислимого множества вероятностей.








