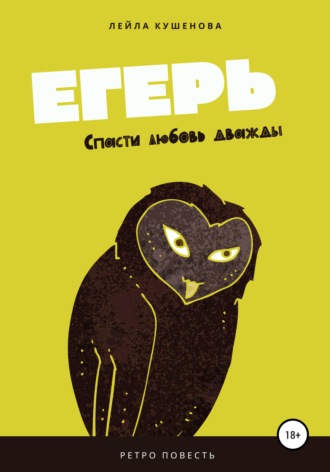
Полная версия
Егерь

Лейла Кушенова
Егерь
Часть Первая. Когда идёшь над пропастью
Предисловие
20 июня 1986 года, 18:32. Афганистан, гора Яфсадж.
Остались в живых только я и таджик Расул. Жара, вонь, настырные чёрные могильники кружат прямо над головой, издавая чудовищные звуки. В сумерках я то и дело теряю сознание, пока Расул тащит меня по горячим камням в сторону света. Я судорожно сжимаю в руках оторванную в бою кровоточащую ногу. Кто знал, что нога отдельно от тела может столько весить?! Каждый раз, когда нога выпадает из рук, Расул останавливается и ждёт, пока я её найду. Он что-то бормочет на своём. «Ту метавони. Ту метавони”…
Здоровая нога больно бьётся о горячие камни. Глаза мои залиты кровью, я плохо вижу. В разреженном горном воздухе усиливается гул. Главное, не потерять ногу и доползти до людей. Только бы выжить, только бы выжить… Голова наливается тяжестью. Какое-то смутное воспоминание пытается пробиться сквозь затуманенное сознание. Вижу мамины руки, она прикладывает к моей разбитой коленке лист подорожника… В тот день в далёком детстве я упал с дерева в церковном дворе и поранил ногу. Что я делал в церкви?
– Ту метавони, ты сможешь! – сквозь нарастающий в горах тревожный гул слышен крик Расула.
Я не понимаю, это он мне кричит или себе. Расул отчаянно тащит меня по раскалённой горе. Мне кажется, я слышу скрежет его зубов. Могильников становится всё больше и больше. Я держусь изо всех сил. Грудь распирает ноющая боль, в висках стучит. Гора полыхает ярким пламенем. Где-то далеко воет сирена. Кровь, всё залито кровью.
Глава 1. Человек и Филин
Новосибирск, середина августа 2019 года.
Я проснулся в холодном поту, судорожно нащупав влажную простыню. Опять этот сон. Каждую ночь я выпиваю двойную дозу снотворного, чтобы не слышать этот повторяющийся ночной гул. Но снотворное не работает. Сердце опять колотится так, будто просится наружу. «220», – определил я автоматически. Я научился измерять свой пульс давно, ещё на той войне. В темноте нащупал костыль. Холодное дерево привело меня в чувство.
Лунный свет осторожно пробирался в комнату, очерчивая узкую световую дорожку. Я кое-как доковылял до окна, открыл форточку и глубоко вдохнул таёжного воздуха… Тихо. Тридцать лет я слушаю эту оглушительную тишину. Тихо настолько, что я даже слышу, как тяжело дышит тайга. Я наслаждаюсь этими недолгими мгновениями перед рассветом. Ещё несколько минут, и всё закончится. Совсем скоро солнце начнёт просвечивать лес изнутри, как на рентгене.
Я сел на подоконник, скрутил самодельную папиросу и закурил. Закашлялся от жгучей махорки. Я не курю фабричные сигареты. Их дыма не хватает, чтобы погрузить моё больное сознание в едкую тьму. Крутить махорку меня научил Расул. Помню, как на «учебке» он ловко соорудил мою первую армейскую папиросу. На той войне курили все и всё. Когда заканчивались запасы джарса, в ход шла вся трава в округе. Обкуренные, мы уже не разбирали ни запаха, ни вкуса. Имел значение только дым. Он моментально проникал в мозг и выкуривал всё лишнее.
Мои мысли прервал громкий шелест крыльев. Это лесной филин, Яшка. Он грузно опустился на подоконник и двусложно заухал.
– Ну, здравствуй, Яков! Давненько тебя не было!
Яшка живёт в дупле старого дуба на дальней лесосеке и прилетает ко мне только в исключительных случаях. Когда чувствует, что со мной что-то не так.
Филин вопросительно наклонил свою голову, крутящуюся на неподвижной шее как на шарнирах. На меня уставились два круглых красных глаза.
– Нога окаянная, ноет как живая, – пожаловался я, показывая глазами на безжизненную культю.
Отсутствующая правая нога не даёт мне покоя с тех самых пор, как её ампутировали. Она будто отказывается принять факт своего физического отсутствия. Я просыпаюсь по ночам от жуткой боли, когда всё тело простреливает электрическим током. Такие боли называют фантомными. Мозг, запомнивший, что на месте обрубка когда-то была здоровая нога, посылает в это место импульсы. Не найдя выхода, они пробивают током каждую клетку моего надломленного организма.
– А ты слышал, Яшка, что после смерти человеку дают последний шанс вернуться и прожить ещё тридцать три года?
Филин неуверенно потоптался на старом подоконнике.
– Правда есть одно условие, нужно понять главную фатальную ошибку, допущенную при жизни. А вот это задача…
Мы сидели на подоконнике – одноногий егерь и старый лесной филин. Ни у меня, ни у него в этом лесу нет никого ближе. Впрочем, есть ещё собака по кличке Аяла. Это моя вторая Аяла. Первую я потерял давно, на афганской горной заставе.
Глава 2. Аяла
Зардевское ущелье. Афганистан, март 1986 года.
После шести месяцев учебки я попал в распоряжение пограничной заставы Гульхана на военную базу Ярим. База располагалась у подножия Зардевского горного ущелья, где за год до моего прибытия прошла самая крупная зачистка от боевиков.
По рассказам одного из дембелей, Лёхи, в тот день как раз завезли новое обмундирование: настоящие кожаные белорусские кроссовки, рубашки из плотного сукна с блестящими пуговицами и чёрные ремни с коваными бляшками. Счастливые, в обновках, солдаты отправились исследовать устье местной реки, где и попали в засаду, оказавшись живыми мишенями для душманов. Те зверски расправились с каждым, докалывая раненых вилами на месте. Многим из ребят до дембеля оставались считаные дни. Две недели спустя за убитых отомстили масштабной операцией, в ходе которой сотни боевиков были взяты в плен. На многих из них были те самые белорусские кроссовки.
– Те кеды мы в цинковые гробы положили, хотя на кой они им, – сказал тогда Лёха, смачно сплюнув в сторону.
С Лёхой я познакомился в первые дни службы. Хилый, невысокого роста, "доход", одним словом. Сначала я принял его за салагу и даже как-то, нажравшись бражки, послал его за джарсом к землякам во второе отделение. Помню, я тогда проспал построение после изрядной попойки и, проснувшись, в ужасе кинулся во двор казармы.
Лёха сидел у ворот на корточках и вяло курил самокрутку. Щуплый, полтора метра в прыжке солдат не обратил на меня ровно никакого внимания. Меня это жутко возмутило:
– Эй ты, недовесок, греби сюда!
Салага посмотрел на меня, едва приоткрыв полузакрытые глаза. Было не понятно, услышал он меня или нет.
– Ты чё, нюх потерял??? Воды принеси, одна нога здесь, другая там!
– Где это там? – наконец произнёс солдат, коверкая и растягивая слова.
– Ща покажу!
Покачиваясь от количества выпитой накануне бражки, я доковылял до доходяги, взял его за шкирку и, приподняв хлипкое тело до уровня своих глаз, плюнул ему в лицо.
Солдатик напрягся, аккуратно вытерся рукавом гимнастёрки и пошёл прочь, что-то бормоча под нос. За свой поступок я поплатился, когда меня избили до полусмерти за казармой свои же «зёмы». Как я потом узнал, «салага» Лёха (на самом деле он его звали Исмаилом) слыл ротным героем, завалив как-то в одном бою аж десятерых духов. Лёха тогда стоял один в охране, когда всё отделение было дислоцировано в соседнюю деревню. Его напарник ушёл в самоволку, и он один на один бился с душманами, отбив заставу и склад вооружения. Вот тебе и «доход»…
– Смотри сюда, курга поганый! Еще раз Лёху тронешь, тебе не жить, – предупредили меня тогда ротные.
Мы с Лёхой потом сильно сдружились. Да так, что перед дембелем он передал мне своего щенка по кличке Аяла. Лёха нашел его в соседнем кишлаке во время перестрелки с местными. Испуганный щенок застрял тогда в узкой щели забора и жалобно скулил.
– Ты того, корми её только, не забывай, – наказал мне Лёха, уезжая.
– Все будет путём, – успокоил его я, пряча Аялу в офицерскую куртку, которая тоже перепала мне от него в наследство.
– Главное, чтобы комод её не заметил, сразу на ученья заберут!
Аяла была немецкой овчаркой, а таких собак в нашей роте тренировали как миноискателей. Лёха до последнего прятал Аялу в казарме, и теперь, уезжая, очень переживал, как бы её не определили в собачий спецотряд.
Мы выхаживали щенка всей заставой. Поили молоком с алюминиевой ложки и подкармливали армейской тушёнкой. Если же на ужин изредка выдавали сгущёнку и белый хлеб, мы дружно делились сладкой радостью с нашей дорогой подопечной. Щедро поливали густой сгущёнкой белый батон, и вкуснее десерта для неё не было. Прожорливый щенок мог услышать запах сгущёнки даже за версту.
«Комод» (так называли у нас командира отделения) всё же узнал про Аялу, но учить её было уже поздно. Чтобы Аялу не перепутали с обученными овчарками, жена «комода», местная афганка, связала ей мягкий красный ошейник из мохера, который больше походил на опознавательный знак.
В ту ночь, когда всё случилось, душманы, уже несколько дней атаковавшие нашу заставу, начали очередной обстрел реактивными снарядами. Обстрел они вели с разных точек. Артиллерийская разведка определила места их запуска, но противник обхитрил нас при помощи обыкновенных ртутных градусников, установленных на медных клапанах взрывчатки. Утром разогретая солнечными лучами ртуть поднялась на несколько столбиков и замкнула контакты с проводами.
Прогремело несколько взрывов, и эрэсы внезапно обрушились на нашу заставу как пчелиный рой. Понятно, когда мы открыли ответный огонь, бабаев там и в помине не было. Комвзвода отправил второе отделение в оккупированное бандитами ущелье, но пробраться туда оказалось невозможным. Душманы заминировали дороги на подступах итальянскими минами, которые не мог распознать ни один миноискатель. В таких случаях на помощь и приходили минно-розыскные овчарки, которых тренировали при взводе.
Обученные собаки сразу же заученно и осторожно разбрелись по минному полю. Обнаруживая мины, они тихонько усаживались рядышком и сидели, не шелохнувшись, в ожидании сапёров, пока те не вколют в землю колышек рядом с найденной миной. В какой-то момент комод заметил, что одна из собак беспечно носится по полю.
– Белены что ли объелась, – произнёс он, всматриваясь в бинокль.
Через несколько секунд прогремел взрыв.
Как только мы услышали о происшествии, то бросились искать Аялу. Нашли только красный ошейник, зацепившийся за ограду. По всей видимости, Аяла потеряла свой мохеровый шарфик и случайно попала с остальными овчарками в заминированное ущелье.
С того дня все до одного солдаты нашего отделения, не сговариваясь, отказывались от сгущёнки. А Аяла ещё долго мне снилась, весёлая и невредимая, и, как это обычно было при жизни, клянчила сгущёнку, подобострастно заглядывая мне в глаза.
Я до сих пор в память о ней всегда храню в холодильнике синюю жестяную баночку на случай, если она вдруг вернётся.
Глава 3. Кеша
Село Калачи, Украина, лето 1979 года.
– Максiмка, прокидайся вже! Ну ті и засоня!
Это мой друг Вовка. Он всегда встаёт раньше и каждое утро будит меня. Вовка любит купаться, когда река ещё не проснулась, а заводь тихая и сонная. Мне очень хочется спать. Дай мне волю, я бы спал до обеда. Но Вовка просто так не отстанет, уж я-то знаю. Такой, зараза, прилипчивый. Сейчас начнёт кидать в окно камни, а потом залезет по трубе и будет сидеть рядом, пока я не встану. Я нехотя натягиваю на себя одежду, и мы бежим к реке, недалеко, всего-то в пяти домах от нас.
Село наше находится на левом берегу речки в трёх километрах от города. А ещё у нас есть самая настоящая церковь, которую когда-то построили в честь «мучениці Параскеви». Говорят, этой церкви больше двухсот лет! Старейшины села передают легенду про греческую святую из поколения в поколение, и каждый раз она обрастает всё новыми и новыми деталями. Как-то раз тётя Гала, Вовкина мама, рассказала и Вовке на ночь сельскую страшилку про то, как «бідну дівчінку» до смерти замучили завистники, втыкая в неё железные гвозди.
«Злі демони» заточили девушку в темницу, а наутро нашли её живой и невредимой, и кожа ее опять светилась чистотой и особым сиянием. «Чаклунка чортова!» – воскликнули тогда демоны и, вконец напуганные её чудесным воскрешением, отрубили девушке голову.
Вовка тогда еле дожил до утра, чтобы поделиться ночным рассказом со мной.
– Як думаєш, а голова у неї відросла знову?
Я поспешил успокоить друга, ведь теперь он точно не уснёт:
– Конечно, выросла! Ещё и красивее, чем первая! – уверенно ответил я.
Чтобы закрепить результат, я придумал для Вовки свою версию воскрешения девушки и даже предположил, что наверняка её привидение до сих пор бродит по церкви. С той поры Вовка на всякий случай обходит святое заведение стороной. А кому ж хочется столкнуться с привидением обезглавленной девушки, даже если она такая замечательная была при жизни?
Со временем я и сам поверил в существование привидения. И как-то раз всё же убедил Вовку заглянуть в церковь, когда стемнеет, чтобы посмотреть хотя бы одним глазком, чем же занимается воскресшая девушка, когда всё село спит. Вовка долго не соглашался. Тогда я пообещал ему, что возьму тайком у папки фотоаппарат, спрятанный в серванте.
Трофейный аппарат достался папке от деда, военного фотокорреспондента. Обычно отец раз в неделю достаёт фотоаппарат и аккуратно протирает его салфеткой, вымоченной в спирте. Папка называет фотокамеру Аннушкой, так обращался к ней дед.
– Ну что, Аннушка, скучно тебе без дела? Ничего, потерпи, скоро возьму тебя с собой в город на стройку, уж там тебе работы будет невпроворот! – каждый раз ласково разговаривает отец с трофейной техникой.
Знаменитую немецкую фотокамеру во время войны называли «Лейкой». Аннушка прошла с дедом все 1418 дней войны. Чего только не видел её хрустальный глаз, от обороны Москвы до взятия Берлина. Теперь Аннушка торжественно хранилась в нашем серванте под ключом. Но я знаю, как её достать так, чтобы папка не заметил. Секрет заключался в том, чтобы аккуратно отодвинуть заднюю фанерную стенку серванта.
Когда я предложил Вовке снять привидение на фотоаппарат, он не смог устоять. Мы готовились к нашему церковному походу целый день. В походный рюкзак были аккуратно уложены спички, фонарик, отцовский компас, походный ножик и даже пара банок тушёнки. На Вовкино недоумение я отвечал, что всё же это не простой поход, а почти что научная экспедиция. Кто знает, как там всё повернётся. Вдруг привидение нас заколдует, и нам придётся выбираться из подземелья при помощи компаса и острого ножа, которым мы, если что, вскроем тяжёлый чугунный засов.
Наконец стемнело. Я еле дождался, пока родители заснули, и на цыпочках пробрался к входной двери, которую предварительно смазал касторовым маслом. Чтобы не скрипела. Вовка уже ждал меня за оградой с фонариком в руках.
– Аннушку взяв? – спросил он, деловито разглядывая содержимое моего рюкзака.
– Да взял, взял!
– Тільки б дядько Митяй не прокинувся! – обеспокоенно посмотрел по сторонам Вовка.
– Не, не проснется, я им с мамкой в чайник сонных капель добавил.
В церковь мы попали через высокий забор. Тьма кромешная, светилось только малюсенькое окошко на втором этаже. При помощи Вовки я забрался на подоконник и заглянул внутрь. В святилище было темно, только тусклые свечи подсвечивали иконы. Привидения нигде видно не было. Я подтолкнул окно, и скрипучая створка, подчинившись мне, открылась. Изнутри потянуло запахом жжёного воска. Ничего интересного.
Когда мои глаза привыкли к темноте, я заметил около паперти странную фигуру в большом колпаке. Было страшно, но я всё же решил сфотографировать то, что увидел. Когда я дрожащими руками доставал фотоаппарат из рюкзака, банка тушёнки предательски выскользнула и с грохотом упала на землю. Фигура в колпаке вдруг вскочила и побежала прямо на меня. Я только успел разглядеть, что она была невысокого роста и похожа на толстого неуклюжего ребёнка. От неожиданности я потерял равновесие и полетел вниз.
Мы бежали что есть сил в сторону реки, чтобы там отдышаться и обсудить увиденное.
– Так ти бачив привид? – спросил Вовка, еле придя в себя.
– Вовка, там такое! Огромное чудище с тремя головами. Вот те крест! Глаза у него квадратные, а одного уха и вовсе нет.
– А ти його хоч сфоткал? – испуганно прошептал Вовка.
И тут я обнаружил, что и рюкзак, и фотоаппарат остались там, в церковном дворе. Возвращаться на место преступления нам обоим, очевидно, не хотелось. Мы решили, что папка Митяй не сразу обнаружит пропажу фотоаппарата, а там посмотрим. На том и разошлись по домам.
На следующий день мы и думать забыли о ночном приключении и, как обычно, с утра побежали на речку. Накупавшись, понеслись наперегонки домой на мамин завтрак, который Вовка никогда не пропускал.
И вот входим мы в дом, а там за столом сидит тот самый ночной кошмарик из церкви и, как ни в чём ни бывало, попивает компот из моей большой кружки. Мамка подкладывает ему на тарелку оладьи, а тётя Гала, подперев подбородок руками, вздыхает и краешком платка утирает слёзы.
Мы с Вовкой застыли в дверях.
– Всяк знает, что бог милостив и милосерден. Я вот всё думал, отчего же боженька дал мне росточку малого и ласки лишил родительской, – канючил незваный гость, не обращая на нас внимания.
На этом месте тётя Гала и вовсе не выдержала и заскулила.
– Дал мне душу добрую, а наружность немилую. Вот и живу уже пятый десяток, мухи одной не обидел, – продолжал, пользуясь случаем, плакаться карлик.
Я дёрнул Вовку за рукав.
– Это он!
– Кто? – только и выдохнул Вовка в ответ.
– Чудище из церкви!
Карлик наконец обернулся на нас и укоризненно покачал головой.
– Боженька, он всё видит. Знамо, что тело мирское – токма рамка для души. А оно как ить бывает, иным достаётся рамка позолоченная, а моя вот такая, убогая. Вот оно и есть, кому рамка дорога, а кому то, что внутри, – поучительно отчитал нас карлик, дожёвывая при этом очередную оладушку.
Потом вдруг вспомнил что-то, хлопнув себя по голове.
– Что ж вы, герои? Всё порастеряли! – сказал карлик, протянув нам наш рюкзак.
Мама и тётя Гала вопросительно посмотрели сначала на карлика, потом на нас, а потом на рюкзак. Когда мамка потянулась за полотенцем, мы с Вовкой дали дёру, не дожидаясь последствий.
Как потом выяснилось, карлика подкинули в церковь ещё младенцем. Звали его Иннокентием, или Кешей в простонародье. Человеком он был добрым, любил пропустить пару рюмочек горячительного и пофилософствовать на разные темы.
Плёнка с его снимком засветилась, и папка Митяй ещё раз сфотографировал Иннокентия по его же просьбе. Как оказалось, у него никогда не было своей личной фотокарточки, и он очень гордился тем фото.
Глава 4. Тайник
Село Калачи, Украина, лето 1979 года.
Наши родители тоже выросли в этом селе. Вовкин отец и мой папка Митяй дружили с первого класса школы. Когда тётя Гала вышла замуж за Вовкиного папку, а моя мамка – за моего, они построили дома по соседству. Через год появились мы с Вовкой. Мамки наши стали медсёстрами в малюсеньком фельдшерском сельском пункте, расположенном на краю села. До ближайшей городской больницы километра три, поэтому все приходят за помощью к ним. Лечебные травы мы выращиваем на нашем огороде, а потом отварами и настоями мамки лечат всё село. Их так и называют, сестрицы-травницы.
Потом не стало Вовкиного папы. Он был местным рыбаком. Говорили, что в рыбной ловле не было ему равных во всей округе. Рыба, говорят, сама просилась в его сети, послушно в них запрыгивая. Тётя Гала рассказывает, что когда Петро (так его звали) возвращался с рыбалки, то лодку его было видно уже издалека. На закате она отсвечивала как золотой слиток из-за набитых в неё доверху красных карасей.
А ещё Петро мечтал поймать сома, такого гигантского, пятиметрового. Старожилы поговаривают, что такой сом может запросто потянуть кило на триста. Вовкин папа верил в свою мечту, прямо как старик у моря у Хемингуэя. Тётя Гала, когда его хоронили, даже положила с ним рядом его любимую книжку.
Однажды в обычный июньский день Вовкин папка встретил своего сома. Огромных размеров рыба зацепилась за крючок и потащила старую лодку с рыбаком по реке всё дальше и дальше от родного берега. Рыба таскала лодку несколько дней, и, говорят, Петро умер от жажды. Он не выпускал леску до последнего, ведь он держал в руках свою детскую мечту, свою большую рыбу, которая стала его последним уловом. Так и утащила та рыба Вовкиного папку в водные глубины. Тело нашли через месяц, когда обнаружили лодку. Она кружила, застряв в водовороте, одинокая, без хозяина. В лодке лежали снасти, старая куртка и пилотка, с которой рыбак никогда не расставался.
По рассказам тёти Галы Вовкин папа очень любил свою реку, жить не мог без неё. Каждый день перед сном он отправлялся на берег к старой лодке якобы проверить снасти, а сам усаживался на берегу и молча смотрел, как река медленно утекает, оставляя позади тайны прошлого. О чём он тогда думал? Тётя Гала каждый раз, вспоминая его, плачет и приговаривает: «Річка його і погубила».
Мы с Вовкой совсем его не помним и не понимаем, почему Вовку в селе называют «безбатченки», а старушки, завидев его, обязательно норовят погладить по голове. Вовсе он не «безбатченки», ведь у нас есть мой папка Митяй. Ну и пусть, что один на двоих, зато у нас две мамки, кот Барсик и наш огород! А ещё у нас есть глубокий земляной погреб, в котором хранятся банки с заготовками.
Банки закатывает обычно тётя Гала. Сначала в ход идут толстенные розовые помидоры, которые сельчане почему-то называют «бычьим сердцем». Впечатлительный Вовка всегда думает, что и внутри соседской коровы вместо сердца булькает огромный розовый помидор, точь-в-точь такой же, как на нашем огороде. Потом в банки отправляются огурчики, кабачки, «синенькие» (так называют в селе баклажаны), болгарские перцы, морковка. Даже арбузы не остаются без дела и томятся в бочках с солью.
Когда наступает лето, огород требует к себе особого внимания, моего и Вовкиного. Полоть его теперь надо ежедневно, и каждый раз мы спорим до хрипоты, чья теперь очередь. Вовка всегда отлынивает и придумывает тысячи причин, чтобы отвертеться. Если спор затягивается, он обычно предлагает переплыть речку на спор. Кто переплывёт быстрее, тот и выиграет. Но я же не дурак, я знаю, что победить Вовку на реке трудно. То ли утонувший отец даёт ему силы, то ли река его любит и жалеет. Плавает Вовка как рыба.
Как я уже говорил, с Вовки начинается каждый мой день. Ещё засветло мы несёмся на речку, пока село ещё не проснулось. Вокруг тишина, заводь тихая, только кувшинки торчат из воды жёлтыми носиками. Вовка быстро переплывает на противоположный берег, пока я упражняюсь в кидании «блинчиков» из камней. Равных мне в этом занятии во всём селе нет. Потом мы бежим домой на мамин завтрак. Это для Вовки святое.
Мамка всегда нас кормит сытно с самого утра, знает, что потом уж до позднего вечера нас не поймать. Вовка сразу же усаживается на высокий деревянный стул, сооружённый папкой Митяем, и терпеливо ждёт, когда мама наконец достанет чугунок из печки и выложит запечённые в топлёном масле картофелины на большое керамическое блюдо.
Я вообще-то больше люблю жареную картошку. Никто как не жарит картошку как мама. Даже у тёти Галы так не получается. Сначала она подтапливает сало на тяжёлой чугунной сковороде, потом добавляет немного сливочного масла и тут же подбрасывает в сковороду тоненькие ломтики картошки. Такие тонюсенькие, что запросто можно разглядывать через них друг друга, как через стёклышко. Что мы с Вовкой обычно и делаем.
Мама тогда непременно ворчит:
– Бач, негiднiки! Чого надумали! З iжею грати!
Но мы-то знаем, что она понарошку. По-настоящему она сердится только когда Вовка прикармливает домашнего кота. Барсик – кот ненасытный, он может есть беспрерывно. И днём, и ночью. Как только мы садимся за стол, он уже тут как тут, затаится под столом и выжидает, когда Вовка наконец-то вспомнит про него и «нечаянно» опрокинет кружку со сметаной. Когда же жирная сметана растекается по полу, Барсик ловко управляется со своей долгожданной трапезой. И даже вопли мамки, гоняющейся за нами по кухне с намотанным на руку льняным полотенцем, ему не помеха.
Иногда мама, если настроение хорошее, на завтрак готовит галушки. Сначала она заваривает тесто на кипящем масле. А когда тесто остывает, мы с Вовкой помогаем лепить галушки в форме звёздочек, ракушек, шаров и шишек. Потом мамка закидывает их в большую кастрюлю с кипящей водой. Галушки сначала массово тонут, а потом весело всплывают одна за другой. Однажды Вовка даже слепил самый настоящий танк! Правда, его дуло моментально потонуло в кастрюле, но всё равно Вовка очень гордился своей оригинальной поделкой.
Накормив нас, мамка собирает обед папке Митяю. Он работает в городе, на стройке, и его не бывает дома иногда по несколько дней подряд. Пока мама укладывает аккуратными ломтиками сало на горячий хлеб, мы бежим на задний двор проверить сохранность нашего с Вовкой тайника. Это наш почти что военный секрет. В тайнике хранится самое настоящее табельное оружие, военный самозарядный пистолет ТТ. Этот пистолет мы нашли в лесу, случайно, когда собрали грибы. В наших краях велись бои за Днепр, и такие находки тут не редкость. Убедившись, что тайник на месте, мы хватаем тяжеленную сумку с папкиным обедом и наперегонки бежим в город.









