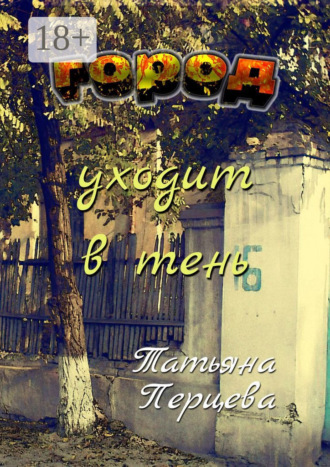
Полная версия
Город уходит в тень
И прекрасно жили. Тяжело, но прекрасно.
Газ появился, когда мне было шестнадцать. Тогда жизнь вообще расцвела, как роза «глори дей».
К контрамарке подвели газ. Печку сломали. Полкомнаты занимала. На балконе поставили сразу газовую плиту на четыре конфорки, ванну с колонкой и унитаз. Больше места не было.
Так было у всех жильцов нашего дома.
Главное – больше в моей жизни не стало бань, керосинок, туалетов во дворе, ведер с углем и скорпионами.
И керосиновые лампы постепенно вышли из обихода. Хотя я иногда подумываю, что неплохо бы их держать про запас. Правда, свечи держу. А моя запасливая подруга Таня лампу сохранила. И, по-моему, керосинку тоже. А вдруг?!
БЫТЬ КАК ВСЕ
Все идет из детства, все идет из детства…
В детстве я не знала слова «самооценка». Это сейчас оно в моду вошло, а тогда… ну разве может маленькая девочка разбираться в том, что такое самооценка?
Я не буду здесь рассказывать подробности. Я уже рассказывала. Достаточно сказать, что моя самооценка в те годы была даже не ниже плинтуса. Ниже фундамента дома, в котором этот плинтус находится.
Возможно, все происходило потому, что я жила очень одиноко. Папы никогда не бывает. Он все по рудникам, а потом и вовсе в Москву уехал. Мамы один день нет до поздней ночи, в другой – ей не до меня. Дел полно, и выспаться тоже надо.
Когда в школе или во дворе показывали новые игрушки, я только завистливо вздыхала. Как я хотела получить металлический зеленый бутон со стерженьком! Нажмешь на стерженек – бутон вертится, раскрывается, а внутри Дюймовочка!
Не поверите. В голову не пришло просить у мамы. Все равно не купят. Не потому, что жалеют денег. Не потому, что это такая уж роскошь. Всем некогда.
Мне было лет шесть-семь, когда сестра закончила институт. Стала работать, появились свои деньги.
Вот она иногда приносила мне игры. А однажды, на девять лет, подарила почему-то вазу из синего резного стекла. Мама тогда сказала, что подарок совершенно неуместен.
Но ваза пережила все переезды и катаклизмы и сейчас до сих пор стоит у меня. Антиквариат…
Да, вот так я и жила. А вспомнила я обо всем этом, как ни странно, когда еще в прошлом году в моду вошли платья в полоску.
Себе покупать не стала, потому что их слишком много, и еще потому, что люблю не полоску, а клетку.
И вспомнила потому, что в жизни нашей был еще один период, когда в моде были полосатые платья.
А было это… нет, я уже почти взрослая была… году в пятьдесят восьмом – пятьдесят девятом.
В отличие от нынешних мод, те моды среди населения осваивались без особых затрат, хотя были весьма затейливыми и очень-очень женственными. Сама я, пережив много всплесков моды, остаюсь верна в своих симпатиях одежде пятидесятых.
Поверьте, молодежная мода была удивительно недорогой. Ткани стоили дешево, а панбархат носили женщины постарше. Ситец же стоил копеек шестьдесят, сатин – чуть дороже, маркизет – еще чуть дороже. А портнихи тоже не сдирали с тебя последние штаны.
Помню, как все поразились, когда мама сказала, что, оказывается, за границей именно готовые вещи стоят дешево по сравнению со сшитыми портнихой. Как-то в голове не укладывалось!
Итак, в моду вошли полосатые платья.
И, конечно, вся молодежь посходила с ума.
Прихожу я как-то к сестрам Слуцким (Лиза и Люба Слуцкие, мои одноклассницы, близняшки), а на одной – ситец в синюю полоску, на другой – в красную.
Как же мне обидно стало! У всех есть…
И опять я промолчала и не попросила. Это у других может что-то быть, а я как бы недостойна.
Это вот «у других – да, а куда мне, недостойна» сохранялось в душе десятилетиями.
Но произошло чудо. Пришла сестра и притащила мне отрез ситца в полоску! Только не широкую, как у всех, а тоненькую, голубую.
Сейчас я понимаю, что у сестры был вкус и грубые широкие полосы никого не украшают, но тогда… так обидно…
Мне сшили платье, вроде бы модное, но не как у всех…
Очень красивое, с матросским воротником, вставкой, в талию, с юбкой в сборку… ну очень!
А я втайне страдала, никому не показывая, как обидно, что я опять хожу в белых воронах…
Наверное, это очень важно каждому подростку: быть как все.
Понимание того, как важно и выгодно НЕ быть как все, приходит куда позднее.
Теперь я одеваюсь не как все.
Только поздно.
Все равно никто не смотрит.
МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ
Странное дело: стоит мне последнее время сказать, что мои ташкентское детство и юность были счастливыми, несмотря на вечный недостаток денег, мне со всех сторон начинают возражать.
Нет, не ташкентцы. Мои немногие оставшиеся сверстники и те, кто младше, вполне со мной согласны. А молодые, и не только они, считают необходимым подчеркнуть, что «вот где-то» люди жили плохо, не имели самого необходимого; мало того, считают, что я либо вру, либо принадлежала к привилегированному классу и пользовалась какими-то невероятными льготами, на что прямо или косвенно намекают.
Буквально вчера я прочитала рассказ из тех, что на первый взгляд смешны, а на второй… плакать хочется. О том, что в наше время открыли порталы в прошлое и отсюда повалили граждане за настоящими продуктами. Жители СССР сначала на них орут, потом жалеют. Заканчивается рассказ словами: «Джинсы у них есть, а вот жизни – нет»…
Какой-то комментатор написал, что это все вранье и никаких продуктов не было. Я объяснила, что, скажем, в конце сороковых все магазины Ташкента были уставлены банками с крабами, а на улице висели плакаты, призывающие их покупать. Ответ меня потряс. Молодой человек писал, что странно, как это четырех-пятилетняя девочка может помнить сталинские крабы, мало ли кто жил в сталинских домах, когда вся Европа и СССР дохли от голода.
Типичное торжествующее невежество вкупе с, прямо скажем, недостатком извилин.
На своем веку я встречала выражения «сталинские репрессии», «сталинские соколы», «сталинские достижения», но чтобы «сталинские крабы»? Этот зверь откуда взялся?
Дурачку невдомек, что крабы считались в Ташкенте хуже любой кильки. Ну не привыкли узбеки к крабам, какие крабы? Крабы ставились на стол только в домах людей прижимистых. Из всей нашей семьи одна я горячо их любила. Из продуктов только и были крабы, сгущенка, тушенка, хлопковое масло, серые макароны и брикеты каш и супов. Но разве это голод? В Ташкенте были рынки. Я еще помню, как сидела и ела помидоры без хлеба. Наесться можно. И потом, в те времена я, скажем, больше всего любила икру баклажанную. Блюдо, которое я научилась готовить лет в двенадцать, потому что любила икру жареную, а мама – сырую: печеные баклажаны и перец, сырой лук и помидоры… Но «сталинские крабы» – это высший пилотаж!
Да, и в Ташкенте не было сталинских домов. Совсем. Были дома, построенные в сталинскую эпоху. Но сталинского ампира не было. Я имею в виду жилые дома. И в домах, построенных при Сталине, жили люди как люди. Обычные. Родители мужа жили в доме, построенном пленными немцами. Дом работников завода «Фотон». Где на одной площадке жили простые рабочие и директор завода.
Стоило мне выложить пост о том, как мне повезло слышать прекрасных исполнителей, тут же коммент о том, что в других местах люди жили в бараках и просто не могли слышать исполнителей вживую. Скажем, в горняцких поселках Кузбасса. Я глубоко уважаю комментатора, она человек неординарный и, на мой взгляд, прекрасный, но бараки были везде. И если посчитать, сколько певцов, композиторов и актеров вышли из сельской местности и барачных условий, пальцев на руках и ногах не хватит. Все зависит от желания. Моя подруга Вера Провидохина, дочь войны (мать забеременела на фронте), росла именно в бараке – женском общежитии фирмы «Юлдуз». Я видела этот барак. Тогда я, девятилетняя, поверить не могла, что такое бывает.
Длиннющий барак. Два ряда кроватей по стенам, на которых висят вышивки, открытки, плакаты. Очень чисто. Но жить так?!
Еще через год маме и дочке дали… клетушку на территории общежития. Крохотная застекленная верандочка, где Вера делала уроки и они обедали, и шестиметровая каморка, где помещались кровать и тумбочка. Одежда висела на стене. Удобства и вода – во дворе.
При этом Вера прекрасно училась, лучше меня, много читала, и мы с ней бегали на балет – тогда никого не удивляли девочки, покупавшие билеты и смотревшие спектакли. То есть никакие бараки при этом не мешали.
После землетрясения общежитие расселили. Вере с мамой дали квартиру. Она закончила институт, вышла замуж, уехала в Челябинск.
Моя подруга Таня Вавилова много лет жила в узбекской махалле, в домишке-мазанке. Ни хуже, ни глупее она от этого не стала. Закончила мединститут, стала уважаемым врачом, пишет поразительные статьи об истории своего рода.
Моя вторая подруга, Вика Остапчук, первые годы жизни и вообще жила в здании института, где работали родители, и с удовольствием вспоминает о том, как, пардон, младенцем напрудила на стол декана… Она не стала от этого ни хуже, ни глупее; закончила электромеханический факультет, теперь кандидат наук и научный секретарь другого института.
Я уже рассказывала о докторе наук Геннадии Алексеевиче Чиркине родом из рабочего поселка, где половина сидела, а половина готовилась.
Прекрасно образованный человек.
При чем тут бараки?
Кстати, в маленьких городках и деревнях радио точно было. И пластинки точно были. И кто хотел, тот слушал. Кто хотел – приезжал в большие города. Кто хотел вырваться из барака – вырывался. Вопрос в том, хочет ли человек пропивать свою жизнь или сделать ее лучше. А есть театр в городе или нет – дело десятое. И мои родители, скажем, в силу профессии отца до войны жили на именно на рудниках и в горняцких поселках, только донбасских. При этом мама, не получившая высшего образования, была очень начитанна, и всю жизнь боготворила Шаляпина и тогда очень известную певицу Надежду Обухову, и больше всего на свете жалела библиотеку, которую пришлось бросить из-за эвакуации.
И почему-то мне кажется, что жители маленьких городков и поселков в Европе и США тоже лишены возможности ходить на концерты и мюзиклы, в силу не только удаленности от центров культуры, но и просто из-за отсутствия денег: там это всегда было очень дорого.
Когда при мне ноют, что на черную икру, которая была тогда в изобилии, не хватало денег, – врут. Икра стоила не так дорого, чтобы не позволить себе купить 100 граммов. Нет денег – подработай. Мы поженились в 19 лет, жили на 60 рублей в месяц, муж получал повышенную стипендию, я вообще никакой. Не потому, что плохо училась, – потому, что меня сильно «любил» декан факультета, отказывавшийся давать стипендию. За пять лет обучения у меня была одна тройка (по его предмету, латыни). И ни одной пересдачи.
Муж пользовался всяческой возможностью подработать. Хватался за проекты, курсовые, диссертации. В смысле чертежей. Учился он на мехфаке. Я, отучившись, давала уроки английского и игры на скрипке. Ничего, выжили. И даже очень.
Да, и насчет моих привилегий.
Все мои ташкентские друзья и знакомые знают, где я жила. Угол Малясова – Кренкеля, двухэтажный дом. Бывшая горная инспекция. Отличались квартиры неимением прихожих и помещений для ванны и туалета. Удобства на пять очков – во дворе. Там же кран. Там же мусорный ящик. Там же летний душ. Мыться зимой – в баню, и для меня не было большего счастья узнать, что при бане открылся душ. Банный ад я ненавидела.
Дочь корректора и горного инженера, а потом и пенсионеров.
Газ и воду провели, когда мне было шестнадцать. Те, у кого были балконы, устраивали на них ванную и туалет… Еще в институте я ходила в юбке, перешитой из отцовских брюк. И блузке из американских подарков, перешитой из широченной трикотажной юбки-клеш.
И особенно от этого не страдала. Да и никто не страдал. В моем районе люди жили либо в частных домах, либо в коммунальных дворах: в большом дворе стояли крошечные домики. Везде без исключения удобства и вода во дворе. Никто от этого не помирал. Я ни разу не слышала жалоб. Об этом не говорили вообще – неинтересно.
И, кстати, я бывала в домах крупных партийных работников – многие жили по соседству. Смею заверить: любой нынешний бизнесмен, имеющий пару лотков на рынке, презрительно сплюнул бы при виде тогдашней роскоши, которой просто не было. Их дома отличались от моего устойчивым бытом. Очень многие жили в Ташкенте до войны – была обстановка, мебель, шторы и т. д. Чего не было у моих эвакуированных родителей. Очень долго мебель у нас была казенной.
Я бывала и в домах профессуры. Та же картина. Добротная мебель, может быть, картины (недорогие), абажуры, но и только. В доме моей подруги Милы Поляковой, дед которой был известным профессором, были два предмета роскоши: библиотека, источник моей лютой зависти (там я впервые увидела книгу Андрея Белого «Петербург»), и гигантский аквариум на всю стену большого зала. И, пожалуй, все.
Высокие потолки были тогда во всех домах. Это не роскошь. Радиоточки были у всех. Из динамиков целый день лились мелодии, передачи спектаклей, детских и взрослых. Да что там, просто книги читали…
Хочешь – ходи в театры, читай книги. Все было по карману. Все зависело от тебя.
Я не знаю, почему меня так тянуло, скажем, в музеи. Я могла часами просиживать в публичке. Я про театры не говорю. Туда бегали все мои одноклассники, друзья и не друзья. Им нравилось. Их туда не на поводках вели. Как выразился известный ташкентский поэт Раим Фархади, самой популярной фразой была «Нет ли лишнего билетика?»
Такая была эпоха. Такие были ценности.
Совсем другие ценности. Совсем.
Мы были счастливы. Мы не придавали значения наличию в квартире унитаза. И если ко мне приходили более обеспеченные друзья, их не смущала обстановка. Мой лучший друг Леня Миронов жил в полуподвале. Несуразная первая, вечно полутемная комнатуха и маленькая вторая. Отец, мать, трое детей. Да плевать было и мне, и ему на то, что у нас стояло дома. Это даже не обсуждалось. Я приходила к той же Вере, и плевать мне было на убогую обстановку. Вера-то была чудесным человеком! Да и у меня дома не чиппендейл стоял, а мебель с Алайского…
Никто и никогда не задавался вопросами, у кого какая мебель и кто как живет.
Иное время, иные ценности, иные приоритеты. Я все вспоминаю детей Рашидова. Первого секретаря ЦК КП Узбекистана. Четверо детей. Старшая дочь всю жизнь дружила с дочерью сапожника. Я приятельствовала с младшей – до сих пор храню книгу русских былин, подаренную Гулей. Все ходили в таких же формах, как у всех. Их дом отличался только наличием милиционера у входа. Очень добродушного, нужно сказать.
Так что всему наносному значения не придавалось.
Вот билет достать на приезжую знаменитость – это да!
И это действительно было так.
МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ.
P.S. Мне часто говорят, что в других местностях было иначе. Я не знаю. Я пишу только о том, что пережила сама. Мне повезло родиться в большом городе. Я не была во всех его районах. Просто не было возможности и необходимости. Мы жили именно так. Может, кто-то жил иначе, в том же Ташкенте. Это их дело. И невозможно писать за весь СССР. Еще раз: это мои воспоминания. Те, кто несогласен, – пишите свои.
КАК ПОВЯЖЕШЬ ГАЛСТУК
Кто-то сказал, что счастье только здесь и сейчас. Нет – по-моему, нет. Сознание того, что был когда-то безоглядно счастлив, приходит слишком поздно. Когда ясно понимаешь, как же тебе было хорошо давным-давно. Хотя тогда ты так не считал.
И многие люди (я не про свою маму) искренне верили в то, что у нас лучшая в мире страна. Про детей я не говорю. Помню, как гордилась тем, что живу в СССР, а не в Америке, где угнетают негров и рабочий класс, и думала: как же мне повезло здесь родиться… А муж как-то признался, что в детстве размышлял, готов ли отдать жизнь за Сталина. Уж как хотите, а смешного тут ничего нет. Я его прекрасно понимаю. И мои ровесники – тоже.
И в пионеры тогда вступали, можно сказать, с трепетом. Не дай бог не примут!
У нас одну девочку не приняли. В четвертом классе дело было, а училась она очень плохо. Вот и не приняли. Так от бедняги шарахались, как от зачумленной. Позор-то какой! Не приняли! Она мгновенно стала парией…
А принимали нас в пионеры в четвертом классе сорок третьей школы города Ташкента. До этого мы считались октябрятами, но это как-то прошло мимо. И звездочек тогда никаких не было, ни звеньев, ни значков. А вот пионеры! Это серьезно!
Мы зубрили Торжественное обещание, мамы запасались шелковыми пионерскими галстуками. Все, кроме, конечно, моей. И получилось так, что в магазинах галстуки разобрали, а прием в пионеры уже вот-вот. Ой, что со мной делалось! Я рыдала и говорила, что теперь меня не примут в пионеры! Что все будут с галстуками, а я – нет!
Но мама где-то умудрилась достать галстук, правда, не шелковый, а то ли из штапеля, то ли из кумача. И был он не ярко-красным, а алым. Ну уж какой есть. Даже в этом ухитрилась я остаться индивидуалисткой!
Принимали нас в пионеры осенью, на идущей от входа аллее. Выстроились мы в ряд и повторяли:
«Я, такая (такой) -то, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю: горячо любить свою Родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия, всегда выполнять Законы Пионеров Советского Союза».
Странно: столько лет прошло, а начало я до сих пор помню. Это Торжественное обещание одно время печаталось на задней обложке всех тетрадок. Потом стали печатать гимн Советского Союза. А тогда…
Мы произносили текст, старшеклассники повязывали нам галстуки, а мы отдавали салют… Как повяжешь галстук, береги его, он ведь с красным знаменем цвета одного…
А потом, зимой, мы в галстуках, в белых фартуках стояли по обе стороны избирательных урн и отдавали салюты всем, кто пришел голосовать, а приходили тогда все, если не считать больных. Им мы разносили урны на дом. И все было так торжественно, так празднично, хотя выборы были фикцией. Но тогда мы гордились званием пионера Советского Союза. Причем искренне. И превращенная в избирательный участок школа была такой торжественной! Эх, раньше были времена, а теперь – моменты…
ШКОЛЬНЫЕ НАГРАДЫ
Конечно, школа очень изменилась за много-много лет. Она изменилась, уже когда учился мой сын.
Я училась в те времена, когда советская школа еще во многом сохраняла традиции царской гимназии. Обучение сначала было совместным, потом стало раздельным. Правда, в 1954 году его отменили, и к нам, в женскую школу, пришли мальчики.
Но первые два года мы проучились без них. Впрочем, появление мальчиков мало что изменило. Методы обучения остались прежними. Если раньше мы чинно ходили по коридорам и позволяли себе побегать только в школьном дворе, то теперь озорные мальчишки не считались даже со строгим директором Валентиной Петровной.
Но главное не в этом. Главное в том, что при той системе обучения, хочешь не хочешь, приходилось думать. Думать, а не галочки ставить.
Я еще помню первый класс. Тогда, чтобы записаться в школу, не нужно было никаких собеседований. Приходили родители и записывали детей. Не знаю, почему мама подумала, что общий сбор – 31 августа. И привела меня в платьице-матроске, сшитом из остатков ткани маминого платья. Какая-то женщина (уже не помню, кто) объяснила, что общая линейка – завтра и нужно приходить в форме. Коричневое платье, белый парадный фартук. Черный – повседневный. Белый воротничок и манжеты. Почему-то почти никто не принес цветов.
Нас развели по классам. Мой – первый «Б». Учительница Аделаида Михайловна. Мне тогда она казалась очень старой. Преподавала она все предметы. В том числе чистописание и рисование. Пения тогда не было. Его ввели позже. А вот чистописание было. Как же мы красиво писали! Плоды труда особо отличившихся Аделаида Михайловна проносила по рядам, всем напоказ. Глядя сейчас на свой почерк, сама себе не верю, что могла так писать. Рисовали… кому что в голову придет. Собирали листья. Обводили контуры. Рисовали «мозаику», мелкие квадраты в большом раскрашивали в разные цвета.
Выбрали старосту класса. Выбрали звеньевых. Три ряда парт – три звена. Выбрали «санитарку». У последней была белая сумочка с красным крестом, которую она носила через плечо. «Санитарка» вставала в дверях и проверяла чистоту рук и ушей.
Да-да, и ушей тоже. И очень придирчиво. Каждый день дежурили по очереди. На дежурных лежала обязанность положить на бортик доски мокрую тряпку и принести мел. С пятого класса дежурили по двое, мыли полы, вытирали мокрой тряпкой парты, хотя при школе жили технички.
Писать учились, выводя элементы букв. Крючочки с загибом вниз. С загибом вверх. Овалы. Петельки. Сначала карандашом. Потом чернилами. Чернильницы-непроливайки носили в мешочках. Фаянсовые, с голубым ободком поверху, или пластмассовые, коричневые. Потом кто-то из пап сколотил нечто вроде подноса, и чернильницы стали оставлять в классе.
Писали перьями №86, и никакими иначе. Деревянные ручки с металлическими вставочками. Перочистки. Сшитые мамами, или купленные в магазине, или привезенные из Москвы, самые роскошные: несколько кружков ткани, сквозь которые продет шнурочек. Обязательные пеналы с ластиками (слово «ластик» я узнала гораздо позже, у нас это были просто резинки), карандашами, запасными ручками, точилками и перочистками.
Считали сначала по палочкам. Потом устно. Помню, как все любили игру в молчанку. Аделаида Михайловна рисовала на доске огромный круг, на котором писала числа от 1 до 100. Заранее уславливались, что будем делать: складывать или вычитать. Аделаида Михайловна молча касалась двух чисел, молча показывала на ученицу, та так же молча выходила к доске и писала ответ.
Насколько я помню, почти все учились хорошо, хотя отстающие были. Тогда в школе велись дополнительные занятия, а двоечников еще и прикрепляли к отличникам и хорошистам (по-моему, слово «хорошист» сейчас вышло из моды). Ко мне прикрепили Лору Кардаш, девочку странную, мне кажется из неблагополучной семьи, правда, мне в голову не приходило ее расспрашивать. Она с трудом выговаривала слова и, кажется, вообще ничего не учила. Потому отдуваться пришлось маме. Она и мучилась с Лорой, но довольно скоро ее забрали из школы.
Да, и в октябрята нас никто не принимал, я имею в виду – официально. И значков-звездочек тогда не было. Вообще никаких. Мы просто знали, что октябрята, «дети Ленина».
Самым знаменательным событием в конце второго класса был церемониал последнего звонка у тогдашних выпускников. На роль девочки со звонком взяли меня, потому что соседка, Галя Шаповалова, заканчивала школу на одни пятерки и назвала мое имя. Меня нес на плече какой-то парень, а я гордо трясла колокольчиком.
В третьем классе пришли мальчишки. Которых в воспитательных целях рассадили рядом с девочками. Я сидела с Валерой Саяпиным, и мы довольно мирно уживались и даже ни разу не подрались. У нас поменялась преподаватель. Аделаида Михайловна ушла, пришла Клавдия Илларионовна, женщина не слишком грамотная, из-за чего у меня с ней, вернее, у мамы с ней начались конфликты. Мама хваталась за сердце, видя, скажем, зачеркнутую букву «а» в слове «палисадник» и написанное сверху «о». Но как-то обходилось.
В четвертом классе нас приняли в пионеры, прямо на школьном дворе. А в конце года мы сдавали экзамены.
Раньше экзамены сдавать полагалось в четвертом, седьмом и десятом классах, но пока мы учились, экзамены в седьмом отменили. А в четвертом было два экзамена – диктант и арифметика, письменно.
Тогда все подоконники в коридорах были уставлены цветочными горшками, а старшеклассницам было поручено воткнуть в каждый горшок колышек с табличкой, на которой было написано название цветка на русском и латыни. До сих пор помню: «папирус циперус», зонтики такие из длинных узких листиков, а я еще ахала и воображала, что папирус прибыл прямо из Египта. В классах обязательно стояли этажерочки, на них и на подоконниках тоже расставляли цветочные горшки. Цветы частью покупали, частью приносили сами ученики. Каждый класс учился в своей комнате. Из кабинета в кабинет не переходили. Кабинетов, как теперь, не было, если не считать химического. То есть они были, но служили чем-то вроде складов для пособий, как у нашей биологички.
Тогда коридоры были широкими, натирались мастикой, ужасно противной и скользкой, а на втором этаже (когда я была в третьем классе, всего за одни школьные каникулы надстроили третий этаж, удивительно быстро для того времени, если учесть, что строили из кирпича) был большой актовый зал со сценой. Каждый год после окончания занятий преподаватели собирали младшие классы, объявляли имена отличников и награждали лучших. Чем? Грамотами. Ну и книгами, конечно. С благодарственными надписями. Кстати, книги дарили и в санаториях. Участникам самодеятельных концертов.



