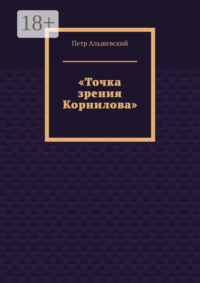Полная версия
«Не сезон»
– А кого ты ему думаешь? – спросил Махмуд.
– Племянницу Мублуды, – ответил Рашид. – Она на лицо не мил, но покорный и в плечах широкий, для фермы она в самый такой раз, и мне тебе…
– Умолкай, – промолвил фермер. – От племянницы Мублуды я отказываюсь. Супруга у меня уже есть… и она отыщется. Ее потянет, если и не ко мне, то к нему – у нее здесь сын. Материнские чувства в ней скажутся.
ЖЕНА фермера Каткова грустит в доме лесника Филиппа. Анна не глупа, очень худа, она сидит и ни на что определенно не смотрит; намеренно мелькающий у нее перед глазами лесник, устав от неудач по части привлечения ее внимания, отхожит в другой угол, где его отложившая вязание тетка обособленно проверяет спицу в качестве колющего оружия и не хочет ни с кем говорить.
Не нашедший понимания лесник возращается к Анне Катковой.
– О ком-то печалишься? – спросил он.
– Вздыхаю, – ответила Анна. – Все так резко переменилось. И ничего не изменилось… в смысле настроения. Нагрузка стала в сто крат меньше, а оно не улучшилось. Желания жить я не чувствую.
– Может, тебе работой взбодриться? – спросила Изольда Матвеевна. – Прибраться, у плиты постоять…
– Этим я занималась у мужа, – сказала Анна. – От него, если помните, я ушла.
– Из-за любви, – промолвил Филипп. – Ты же меня полюбила? Тетка утверждает, что у фермера ты выдохлась и к кому прибиться, все равно тебе было. Я считаю иначе. Рассчитываю на взаимность.
– А ты что, меня любишь? – поинтересовалась Анна.
– Ты сама рассуди, – сказал Филипп. – У меня с фермером не настолько поганые отношения, чтобы лишь из вредности жену у него уводить. Прознав, у кого ты живешь, он на меня озлобится, и бывшая между нами терпимость будет навек изничтожена. Меня волнует твой сын.
– И меня, – сказала Анна. – Я ему мать и я должна…
– Как мать, ты ему послужила, – перебил ее Филипп. – Он давно вырос, и в твоей опеке не нуждается – он почти взрослый, и это проблема… когда фермер придет тебя отбивать, он захватит двух работников и сына, которого я возьму в прицел в последнюю очередь, но дело дойдет и до парня.
– Работников положу я, – поглядев на побледневшую Анну, сказала Изольда Матвеевна. – Фермера тоже мне или ты завалишь? Рискни они перелезть через забор, я… ха… без промашки! Как во врагов и сволочей. Нарушителей границы.
– Ты, тетушка, мыслишь четко и ясно, – пробормотал Филипп. – Разумно! А у меня примешиваются помыслы сердца… мне неохота смотреть на женщину, над убитым сыном рыдающую. На нее! Я ее обожаю!
Анна Каткова, взрогнув, равнодушно кивает головой.
МАРИНА Саюшкина полулежит на кровати. Совершая в снятой для нее в салуне комнате мелкие телодвижения, она пытается придать себе наиболее соблазняющий вид и томно смотрит на Александра Евтеева, стоящего у приоткрытой двери и прислушивающемуся к тому, что происходит в коридоре.
Оттуда не доносится ни шороха.
Евтеев с шумом захлопывает дверь и, повернувшись к Марине, осенившей его мыслью с ней не делится.
– Ты меня не подвел, – промолвила Марина. – Выбил-таки комнату. Избавил от бездомных скитаний. Как ты хозяина уговорил? Я что-то не отследила. В салун зашел художник-композитор Юпов, и мы заболтались: не как самец с самкой, а чисто по-интеллигентному – о красках, нотах, совсем не о погоде… он с усмешкой мне говорил, а я морщила лоб, я впитывала. На тебя не глядела. Ты не злишься?
– Ничуть, – сказал Евтеев.
– А Захоловский… ну, хозяин – он же не планировал сдавать.
– Я ему заплатил, – пояснил Евтеев. – За пять дней он с меня… урвал словно бы за пять дней в столичной гостинице. Торговаться он умеет. Его бизнес не прогорит.
– Да бизнес-то у него в продаже выпивки, а комнаты он не сдает – те, кто их занимает, живут в них задаром. Они обычно его друзья, ну или важные персоны… а ты ему ему не друг. Если заплатил, то и человек ты… не первостепенный. Я – дура! Ты потратился, добыл для меня жилье, а я тебе унижаю… я искуплю. Меня так и подмывает заработать прощение.
Подойдя к Александру, Марина Саюшкина начинает судорожно снимать с него одежду.
Александр Евтеев это допускает.
МИХАИЛ «Косматый», рассевшийся на стуле и воззрившийся на мигающую лампу, иступленно горланит «По тундре, по железной дороге».
ЧЕРЕЗ стену от него Александр Евтеев, удовлетворяя в постеле млеющую Саюшкину, слышит сбивающий настрой голос и делает страшное лицо, подбирающуюся к оргазму девушку не пугающее.
ПЕСНЯ «Косматого» доносится и до присевшего у себя в номере за стол сектанта Доминина.
Добродушно улыбнувшись, Григорий Доминин стал подпевать.
ДМИТРИЙ Захоловский размышляет за стойкой, стриптизерша Волченкова, двигаясь, раздевается; представитель государства Чурин подкладывает в борщ сметану, нескладный почтальон Гольцов хлебает водку под картошку, водка переливается и в рюмке, артистично зажатой между пальцев художника-композитора Юпова, утомленно взирающего на собравшийся здесь контингент, в чьей совокупности ему по душе только Виктория, засмотревшаяся за Захоловского, сидя за ближним к нему столом.
– Ешь, пока горячее, пей, пока холодная, – пробормотал Юпов. – Зеленых мидий и обжаренных лангустов в меню не обозначено, а я бы испробовал… и запеченных крабов. Я же богема этой дыры. И где утонченные вина? Где помешанные на творчестве собеседники? Символисты, имажинисты… здесь лишь представители критического реализма. Жрущие водку почтальоны.
– И сколько же нас? – спросил почтальон Гольцов. – Коли ты напился, я у тебя расползаюсь и разбиваюсь на множество разнообразных, сидящих и ходящих, но не один из них не представитель. Государство у нас представляет он.
– Принимайте меня всерьез, – промолвил Чурин. – Не заводите ненужных связей.
– На конспиративной квартире шепчутся бунтари, – сказал Юпов.
– Чего-чего? – заинтересовался Чурин.
– К ним подлетают фламинго, и все вместе они трепетно приближаются к стене, на которой висит моя картина. Торжественность подчеркивается звучащей в комнате ораторией – величественные звуки идут от картины. Состав исполнителей выписан мною на холсте. Хор облачен в искрящиеся шинели, на солисте трещащий по швам сюртук и шляпа из черного фетра… лицо для него я взял у вас. Придал выражению совестливость, представителям государства свойственную.
– Ты, Юпов, мечтатель, – промолвил Чурин. – С уклоном на провокацию. Поддержка производителей культуры в наши задачи входит, но твои картины государство не приобретет.
– Не отвалит тебе и за музыку, – сказал почтальон Гольцов.
– А-ты то чего выступаешь? – окрысился на него Юпов. – Почтальон, да? Зарплата у тебя от государства, и ты, конечно, в системе – с теми у кого бодрые, осуждающие голоса… чей тон не терпит возражений… я говорю более мутно. К казне не протискиваюсь. Безбедное существование обеспечивается мне моей популярностью за границей, где галереи бьются за мою живопись, а знаменитые дирижеры рвутся исполнить…
– Вранье, – промолвил Захоловский. – Ты живешь на пенсию твоей матери.
– Да ты что, – возмутился Юпов, – что… что ты сказал… да я…
– Мы все в теме, – заявил Гольцов.
– Какой еще теме?! – воскликнул Юпов. – Вы обалдели?! Что за пенсия, о чем вы…. я с матерью вообще не знаюсь!
– Но деньги-то тебе от нее поступают, – сказал Чурин. – Она жаждет разделить с тобой достающиеся ей крохи, и ты маме не отказываешь. Ведешь себя, как примерный сынок.
– Не по-мужски, – сказала Виктория.
– Мужчины зарабатывают сами, – сказал Гольцов.
– Почтальоны? – процедил Юпов.
– А чем почтальоны хуже? – спросил Гольцов.
– Если мужик почтальон, – усмехнулся Юпов, – он… он по уши. И ему бы не вякать! Не заводить разговоров о мужчинах, поскольку мужчина-почтальон звучит позорно… выдает твое ничтожество.
– Ну ты, Юпов, сволота, – протянул Гольцов. – Набиваешь кишку на материнскую пенсию, а честных работяг чмыришь не про что… художник он. Бездельник с кисточкой! Шланг окаянный!
– А ты баран, – сказал Юпов.
– Сучонок, а… бездарность, а…
– А!А!А! Талант – я! Баран – ты!
– На меня ты… и при всех! Падла зарвавшаяся!
– Ха-ха-ха! – засмеялся Юпов. – Почтальон Маруся!
– Падла ты, падла, я тебе… падла!
– Баран! Почтальон!
ПЕРЕХОДЯ вразвалку от стены к стене, исследователь Брагин в предоставленной ему избе внимает завываниям мечущегося снаружи ветра.
Вкупе с потрескивающими в печке поленьями они гармонично накладываются на выдерживаемое Брагиным и его невестой безмолвие.
Брагину в этих стенах не тесно. Он непритязательно отдыхает после трудового дня.
Смурная Вероника Глазкова, убивая время, перелистывает зачитанные журналы.
– На озере сейчас ветер, – промолвил Брагин. – У нашего домика он слышен не так: там он глушит. Я как-нибудь уровень шума замерить думаю. Автодрому, где «Формула-1», он едва ли уступит.
– А с основным делом у тебя что? – спросила Глазкова.
– Думаешь, ничего? – огрызнулся Брагин.
– Будь результат, ты бы радостно вбежал и стал меня обнимать, трясти в сумасшедшем танце… а ты входишь понуро. Трясешься сам по себе от того, что промерз. А твои пальцы… скрюченные, не гнущиеся – варежки не спасают. У огня ты пока отогреваешься, но раньше минут за сорок, а теперь часа за полтора. Эта тенденция меня тревожит.
– А ты заметила, что я делаю, когда отогрею? – спросил Брагин.
– Садишься за стол, – сказала Глазкова.
– И делаю записи! Разношу по тетрадям подмеченные мною факты, ценность которых лишь время определит. К еде я приступаю потом… если ем сразу, это означает, что сведениями я не разжился, и у меня выпал целый рабочий день. Не дал требуемой отдачи. Чаще дни мне удаются. Исписанные тетради ты видела.
– Я их не листала.
– Ты в них и не разберешься, – сказал Брагин. – Там крутой замес из графиков, сокращений, заумной терминологии… или ты о чем говоришь? Подозреваешь, что по существу писать мне нечего, и я вписываю туда небылицы, тексты песенок… рассказанные мне почтальоном северные байки. Чтобы такое измыслить, мало быть с фантазией! Надо что-нибудь принимать. Ударное, Вероника… дурманящее.
ПРИСТРОИВШИСЬ за одним из многих деревьев, подозревающийся в распространении наркотиков Игорь Семенов всматривается в забор, окружающий дом лесника Филиппа.
Мимо этого дерева проходит лыжня.
К Семенову подъезжает на лыжах почтальон Гольцов, на чьем тощем рюкзаке криво вышита надпись «Почта России».
Будучи обнаруженным, Семенов умело скрывает свое недовольство.
Он приподнимает неизменную кепку. Остановившийся возле него почтальон мощно втыкает в снег обе палки.
– Наркотный деляга, – процедил Гольцов. – Ближе к тебе не подойду, с вашим братом следует поострожнее… в салун тебя не пускают, и ты уже впариваешь здесь. Леснику? Он у тебя берет? Может, сам тебе поставляет?
– Я тут по недоразумению, – сказал Семенов. – А это жилье лесника?
– Оно, – промолвил Гольцов. – Скажешь, что вышел к нему неосознанно?
– Я же не местный. Ты не поленись, проанализируй – без принижения значения.
– Твоего? – осведомился Гольцов.
– Данного обстоятельства. Ты мужчина здешний, знающий лес, как свои пять, и мне представляется, что ты подъехал сюда преднамеренно. С письмом?
– Леснику с его теткой не шлют, – промолвил Гольцов.
– И что же ты здесь позабыл? – спросил Семенов.
– Моя лыжня просто проходит мимо. Вплотную я проезжаю регулярно, а за оградой не был – по службе не приходилось. На стаканчик меня не зовут! Дружбу они водят не со мной, а, вероятно, с кем-то еще, но с кем конкретно, они тебе не скажут. Лесника Филиппа с его теткой Изольдой Матвеевной не уподобишь людям с душой нараспашку. У них в цене замкнутость.
– Они живут вдвоем? – поинтересовался Семенов.
– Ходят разговоры, что к ним кое-кто присоединился, но я тебе ничего не говорил. На меня, если что, не ссылайся.
Почтальон Гольцов спешно уезжает.
Игорь Семенов возобновляет вглядывание в забор, в котором открывается калитка: из нее выходит Анна Каткова, увидевшая Семенова, хотя тот и попытался полностью скрыться за не слишком толстым деревом.
– Здравствуйте, – сказала Анна. – Вы от моего мужа?
– Добрый день, – промолвил Семенов. – Я не от него.
– Когда вы беседовали с почтальоном, я стояла за забором и думала о моей жизни. Затем вышла посмотреть, кому принадлежит ваш голос. Взаперти меня не держат.
– Это было бы незаконно, – сказал Семенов.
– Скорее, не по-людски. На законы у нас внимания не обращают, а какие-то нормальные отношения местами пока поддерживают. Уклад-то здесь старинный. Первобытно-верный… в районе, где салун, из-за представителя государства нравы помягче, ну а в лесу, как в лесу. Если вы прибыли нас переучивать, у вас… что у вас выйдет…
– Цели у меня не те, – промолвил Семенов. – Хорошие, но другие.
– Я уяснила. Вы один?
– Одинокий ли я мужчина? – уточнил Семенов.
– Я с вами не заигрываю, – сказала Анна Каткова. – Спрашиваю о вашем статусе – от себя ли вы тут… не бежите, а находитесь. Или вы от организации?
– С чего вы про организацию, – замялся Семенов, – нет… из какой я организации. Не из какой… из той, что по правам женщин?
– А вы из нее? А такая есть?
– Угу, – кивнул Семенов.
– Тогда давайте подольше пообщаемся. Пойдемте присядем, но не в дом: на корягу. – Анна неопределенно усмехнулась. – Тесно сдвинувшись.
ПЕЧАЛЬНЫЙ водитель Дрынов сидит в стоящем у салуна автобусе, временами обозревая через зеркало заднего вида пустующий салон.
АЛЕКСАНДР Евтеев возится в салуне с омлетом. Он старается есть, не отвлекаясь, но ему мешают направленные на него взгляды пребывающего за стойкой Дмитрия Захоловского и расположившегося у Евтеева за спиной представителя государства Чурина, чьи глаза ядовитое сияние изливают.
– Твоя все отлеживается? – спросил Захоловский. – В кровати ты ее больше не придавливаешь, но встать у нее не выходит, а следующая ночь надвигается, и после нее она настолько выдохнется, что и рукой не пошевелит. Тебя это не остановит. Чем женщина беспомощней, тем она желанней.
– Вы меня надоумили, – промолвил Евтеев. – Когда Марина мне надоест, я, чтобы завестись, нечто в вашем духе испробую. Решусь связать и для надежности чем-нибудь опоить. Внешне неподвижная, она будет метаться внутри ее сознания, в застенках которого ее обступят волосатые нелюди с налитыми черной кровью и указывающими на обреченную девушку членами. Очнувшись, она увидит своего кумира.
– Ты о себе, – усмехнулся Захоловский. – Высоко ты о себе.
– Не о себе, а о кинозвезде, – сказал Евтеев.
– Ко мне в салун кинозвезды не ходят, – проворчал Захоловский. – Если она увидит кинозвезду, то она еще спит.
– Нет, – сказал Евтеев. – Она обустраивает комнату. Обклеивает стены вырезками из журналов. Отсюда и кинозвезды.
– А кто ей позволил мою недвижимость портить? – разозлился Захоловский. – Вы потом съедете, а мне потом сдирай и стены чем-то замазывай. Где она журналы взяла?
– Почтальон доставил, – промолвил Чурин. – В это ты поверишь?
– Судя по твоему тону, мне и ему верить не следовало? – спросил Захоловский.
– Наш новый друг тебя провел, – сказал Чурин. – На мой взгляд, он субъект с подоплекой. Приехал вроде бы к Брагину, но живет у тебя и к Брагину нос не кажет. И почему же?
– Из-за Марины, – ответил Евтеев. – Девушка во мне нуждается, да и она мне нравится – я сейчас разговариваю с вами, но влечет-то меня к ней. И влечение нарастает… оно мне понятно.
ЗАНЯВ места на коряге, Анна Каткова и Игорь Семенов проводят время в обступающем их лесу.
Сохраняющая серьезное выражение лица Каткова лукаво подталкивает Семенова в плечо – он расценивает этот толчок, как предложение подвинуться, но сдвигаться ему некуда, Игорь и без того сидит на самом краю.
Желания к барышне, вплотную к нему подрагивающей, Игорь Семенов в себе не улавливает.
– Не знай я, что вы из организации по правам женщин, я бы с вами от дома не отошла, – сказала Анна. – Полезь вы ко мне целоваться, я бы подняла такой ор… лесник с его теткой и мокрого места бы от вас не оставили. Я, и будучи здесь, докричусь, если понадобится. Вы не станете ко мне приставать?
– Какая-то вы больно кокетливая, – проворчал Семенов.
– Я сама поражаюсь. Все последние дни, как в воду опущенная, а нынче дурачусь. Дышу свободнее… желаю развлекаться. Поцелуйте меня в щеку.
– А что вам это даст? – осведомился Семенов.
– Неизвестно. Загодя же не скажешь – вы поцелуйте, и мы поглядим, куда нас понесет. Вынесет ли нас теплой волной из этого зимнего леса…
– Вы слишком многого хотите, – промолвил Семенов.
– От вас?
– От поцелуя в щеку, – сказал Семенов. – Это я могу, но идти дальше я не намерен.
– Как будто я намерена. Я – жена, и к тому же у меня любовник. Я не столь распутна, чтобы иметь отношения еще и вами. Но если бы вы меня поцеловали, я бы не забила вас пощечинами. Даже если не в щеку… хотите в губы?
– Целоваться я не мастер, – пробормотал Семенов. – И не говорите мне, что вы меня научите – я моложе, однако я… я заговорил о вашем возрасте. Извините.
– Простить вас несложно. Ваша нерешительность объясняется не моими годами. Кругом лес, и мы, похоже, неплохо уединились, но, застань нас кто-то целующимися, вам бы пришлось опасаться расправы с двух сторон, и что фермер, что лесник, искалечили бы вас за милую душу. Они – мои мужчины. С вами я так, из-за минутного порыва, а они во мне засели – не вырвешь. И ни одного из них я по-настоящему не люблю. К Богу, что ли, обратиться… попросить Его милости. Пожаловаться Ему на Его же собственную ошибку.
УСТРЕМЛЕННЫЙ мыслями в космос сектант Доминин стоит на плоской крыше салуна.
Взирая на него с нескрываемым восхищением, покрывшая голову платком стриптизерша Волченкова ощущает себя под открытым небом, словно в храме.
На Доминине драное пальто. Посмотрев вниз, он замечает автобус. Когда взгляд Доминина взмывает вверх, сектант тоже что-то видит, и все это красиво и взаимосвязано – включая и взорвавшую звезду в удаленной от Земли части Вселенной.
– Я прибрала вашу комнату, – сказала Волченкова. – Когда вы уходите, вы бы дверь все-таки закрывали и держали ключ у себя, ну или сдавали хозяину. По соседству с вами живет вор.
– «Косматый» меня не обворует, – промолвил Доминин.
– Вы в нем уверены?
– Он наверняка заходил и понял, что у меня нечего красть.
– А эта пара? – спросила Волченкова. – Девушка из наших, но мужик с ней не местный – войдет и подложит вам что-нибудь компрометирующее. Вы, как говорит мой хозяин, сектант, и вам нужно быть вне подозрений, иначе той вере, которую вы думаете здесь насаживать, наш народ…
– Ты посмотри, – перебил ее Доминин, указывая вдаль. – Мы на самой верхней точке. Выше у вас нет.
– Мы на крыше, и тут довольно высоко, но в лесу растут деревья метров в тридцать. С их верхушек земля еще более мелкая. Я не забиралась… я же человек. Вы обо мне так же думаете?
– Ты танцуешь стриптиз, – сказал Доминин. – Ты – грешница, и я тебе сопереживаю.
– Душевный вы… и не снисходительно говорите… не мелко.
– Людям свойственно заблуждаться, – промолвил Доминин.
– Мне? – осведомилась Волченкова.
– Людям, – ответил Доминин. – Глубоко заблуждаться… хмм. Заткни уши.
– Чтобы не слышать? Вас?
– Прикрой ладонями, – сказал Доминин. – Рванет очень звучно.
Варвара Волченкова послушно зажимает уши и ждет, что же произойдет.
Взрыв – искореживший автобус и предугаданный Григорием Домининым, который, послав стриптизерше ободряющую улыбку, незаинтересованно смотрит с крыши, как к останкам автобуса подходят вышедшие из салуна Евтеев, Захоловский и представитель государства Чурин.
Доминин видит их затылки.
Трое мужчин, вставших у груды железа, имеют возможность заглянуть друг другу в лица, но они лишь на изуродованное транспортное средство взирают во мрачности.
– С домов он перешел на автобусы, – промолвил Чурин. – Единственный раз – второго автобуса ему не найти, и это не продолжится, а дома еще повзлетают, без вмешательства извне он не притормозит. Не скажет себе, что, мол, достаточно. А с догадками, кто он таков, у меня напряженно – за этот автобус он безусловно заплатит дорого, но когда… и кому… он уже подобрался к салуну, где сижу я. Наиболее значимая мишень в этих краях.
– Чтобы взорвать салун, – сказал Захоловский, – в него нужно пронести взрывчатку, а это проблематично. Всех входящих я окидываю опытным глазом, и того, кто способен на массовые убийства, я бы не не пропустил. Не может же быть так, что человек убивает, убивает, а на лице у него благодать?
– Именна она и сомнительна, – сказал Евтеев. – Злобные и свирепые рожи в порядке вещей, а благостная отдает притворством, заметите кого-то с благодатью на лице – хватайте. Потом разберемся.
– Ты нам тут насоветуешь, – проворчал Чурин. – Ты-то поднимешься наверх с твоей девицей кувыркаться, ну а мы у барной стойки набрасываемся и хватаем… а он весь бомбами увешан! И хана.
– Тогда и мне хана, – сказал Евтеев. – Разве нет?
– Ну, наверно, – пробормотал Чурин.
– Поговорим о шофере Дрынове, – сказал Захоловский. – Ему-то точно хана – из автобуса он мог и отлучиться, но недалеко. На взрыв бы он прибежал, на что я, если честно, рассчитывал. Но он не появился. Пожалуй, и не появится. Дрынов был в автобусе.
В САЛУНЕ висит удрученное молчание, посвященное памяти шофера Дрынова.
К вернувшимся с улицы Евтееву, Захоловскому и Чурину добавились Михаил «Косматый» и Марина Саюшкина – все сидят за столами.
За барной стойкой никого нет, и смотрящему на нее Захоловскому это представляется чем-то ирреальным; к тому же на хозяина заведения воздействует произошедшее с Дрыновым, чей уход из жизни сочетается в Захоловском с его собственным отсутствием за стойкой.
Дмитрий Захоловский испуган.
– Кто скажет? – спросил Чурин.
– Я! – откликнулся Захоловский. – Не отвернусь – скажу… слово о Дрынове. Сошедшем со сцены, изъятом из мира плоти… раньше ли срока? С нашей колокольни нам видится, что да, однако это не наш вопрос, и нам бы не нужно перетруждаться в изыскании первоосновы того, почему кому-то отводится шестьдесят, кому-то двадцать, кто-то умирает в младенчестве, кого-то без помощи врачей оживляют, и он доживает до преклонных лет и запоминается людям праведником или подонком. Изобретателем целебной вакцины. Руководителем разоренного им предприятия. Эквилибристом, фетишистом, дельтапланеристом… Дрынов трудился водителем автобуса. Бог его от этого не уберег.
– Земные власти перед Дрыновым чисты, – сказал Чурин. – Жалованье он получал сполна. На оплату квартиры в каменном доме у него, конечно, не хватало, но хибарку он отсроил себе крепкую. И ветер ее не снесет, и от несильного дождя она ограждает – типичное строение для нашего среднего класса, которому нечем платить за коммунальные услуги в капитальных опустевших домах. Шофер Дрынов прожил честную жизнь. Водил автобус по строго определенному маршруту и народ к бунту не подстрекал.
– С покойным Дрыновым, – сказал «Косматый», – обычно ездил я, а подбить меня на политический кипеж – тема без мазы. Я бы на новую судимость и из-за любви бы не напрашивался. Не сверкал бы пером из-за девки-бесовки, будь она даже студенточкой со славными грудками и плакатиком о социальной справедливости…. тьфу. Не обижайся, Дрын! Не в тебя плевался. Тебя-то мне жаль вкрутую, ведь на автобусе мы накатали прорву верст… как кореша. Многословными базарами мы не тешились, но в молчании помнили друг о друге и помнили, кто где сидит: ты за баранкой, я у тебя за спиной, и ты вряд ли страшился, что я к тебе подкрадусь и кастетом по чану вдарю. Храбрый водила… «Косматый» тебя не забудет. Что у нас с могильщиком? Вскорости принесется?
– О, да, – промолвил Захоловский.
– На взрыв? – спросил Евтеев.
– У Ивана Ивановича чутье, – сказал Захоловский. – Приехать на взрыв или найти разложившийся труп по запаху способны и мы с вами, но Иван Иванович – уникум, смерть за десятки километров, как бы тихо она ни наступила, он чует. Будучи мужчиной неспешным, он в этом случае меняется. В неистовой торопливости хлещет коня и из саней едва не вываливается. До останков шофера Дрынова он доберется минут через пять. Соскребет и увезет.
– А вы ему их отдадите? – поитересовалась Саюшкина.
– Иван Иванович нас не спросит, – ответил Захоловский. – С нами тут представитель государства, но могильщику и он не указ. У Ивана Ивановича мандат. Выписанный ему начальством областного уровня.
– Если не федерального, – пробормотал Чурин.
– Ты, что, детально не изучал? – спросил Захоловский.
– Краешек видел. Он мне однажды показал… быстро. Я не требовал – он сам показать вызвался.
– И не кому-нибудь, а тебе, – промолвил Захоловский. – Осмысленно… психологически верно.