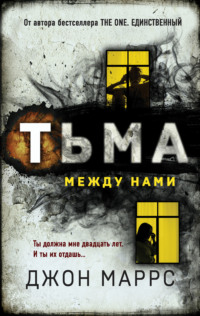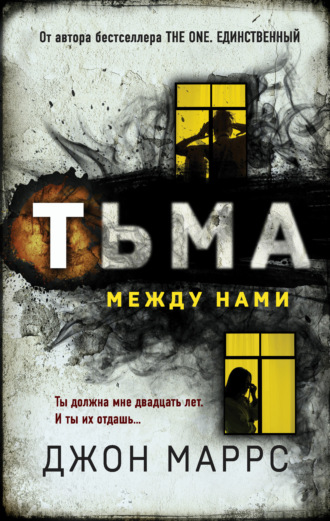
Полная версия
Тьма между нами
Снова возвращаюсь мыслями к шкатулке. Что там еще может быть, кроме теста на беременность двадцатипятилетней давности? Едва увидев его, я захлопнула крышку и засунула шкатулку обратно под кровать.
Неожиданно мое внимание привлекает тихое шуршание, доносящееся со стороны одной из тумбочек. Оборачиваюсь и с удивлением замечаю там очередной освежитель и пакетик с жевательным мармеладом, шелестящий в потоке воздуха от вентилятора. Должно быть, Нина принесла их вчера, когда я была в ванной. Никогда раньше она не давала мне сладостей, и я даже не думала, что так по ним соскучилась. С детским восторгом и нетерпением разрываю пакет, и его содержимое рассыпается по одеялу разноцветной радугой.
Я хватаю красную конфетку и уже открываю рот, чтобы насладиться давно забытым вкусом, однако в последний момент останавливаюсь. А не очередная ли это ловушка? Однажды Нина точно так же оставила мне стакан с клубнично-банановым смузи. На радостях я выпила все до последнего глотка, а к вечеру у меня началась жуткая диарея. Видимо, дочка подмешала к напитку сильнодействующее слабительное. Что ею двигало, я до сих пор не понимаю.
Тем не менее, соблазн слишком велик. Я кладу мягкую конфету в рот и осторожно ощупываю ее языком: вдруг внутри канцелярская кнопка или осколок стекла. Возможная опасность нисколько не портит моего удовольствия, и я невольно расплываюсь в улыбке. Не исключено, что это просто новая, более изощренная пытка, и Нина решила напомнить мне, чего я лишена, чтобы сломать мою волю. Ничего не выйдет! Я давно смирилась со своей участью и оставила всякие попытки разгадать мотивы, движущие дочерью. Как правило, в ее поступках нет ни смысла, ни логики.
В первые два месяца я была уверена, что Нина наблюдает за каждым моим шагом. Под потолком комнаты висела маленькая черная коробка с линзой и крошечной лампочкой, которая то и дело вспыхивала красным. Я решила, что это камера, и буквально сходила с ума от одной мысли о том, что она наблюдает за моими страданиями и наслаждается ими. Дотянуться до этой адовой коробки я не могла – не позволяла цепь, и однажды в порыве отчаяния я запустила в нее кружку. Естественно, промахнулась. В наказание мне потом пришлось пить из пластиковых крышек от дезодоранта и лака для волос. И когда я уже почти смирилась с ее присутствием, коробка сама вдруг однажды упала со стены. Просто шлепнулась об пол и развалилась на части. И оказалось, что внутри ничего нет, кроме пары проводов и батарейки, от которой работала лампочка. То был муляж.
Тогда я еще изводила себя вопросами: сколько продлится мое заключение и правда ли, что Нина намерена держать меня здесь двадцать один год, как обещала. Сейчас мне шестьдесят восемь, и шанс дожить до восьмидесяти девяти крайне ничтожен, особенно учитывая скудную диету, отсутствие физической активности и замкнутый образ жизни без доступа к свежему воздуху и солнечному свету. Большой удачей будет протянуть еще хотя бы лет десять, не говоря уж о чем-то большем.
Естественно, я думала о самоубийстве – как об одном из способов прервать пытку. Но всякий раз меня останавливало то, что, кроме меня, у Нины никого не осталось. Как бы она меня ни мучила, я не могла бросить ее одну. Конечно, представься шанс, я сбежала бы отсюда. Сбежала бы – и первым делом оказала ей необходимую помощь, чтобы мы могли быть вместе на приемлемых для нас обеих условиях. Что бы ни вытворяла Нина, она всегда останется моей маленькой девочкой.
К тому же в глубине души я понимаю, что заслужила это наказание, отняв у нее самое дорогое.
Глава 11
Мэгги
Двадцать пять лет назад
Сегодня понедельник. У Нины с раннего утра крутит живот. Я уже сообщила в школу, что она пропустит занятия, и отпросилась с работы, сказавшись больной.
Слоняюсь по дому и не нахожу себе места от тревоги, слыша, как она плачет за дверью ванной. Я не знаю, чем ей помочь. Тянет прижать ее к себе и пожалеть, утешить, успокоить. Не в силах больше ждать, я стучу, готовая услышать очередную порцию ставших привычными грубостей.
– Что с тобой, малышка?
– Мне больно, мама, – стонет она из-за двери.
Как бы я хотела забрать себе ее боль! Дергаю ручку, но она не подается.
– Открой, – прошу я.
За дверью раздаются слабые шаги. Когда Нина появляется на пороге, у меня замирает сердце. Хочется обнять ее и никогда больше не отпускать. Густая подводка, которой она теперь красит глаза, растеклась по всему лицу чернильным пятном. Трусы спущены, она держится за живот. Не помню, когда в последний раз я видела ее такой уязвимой.
– Моя малышка, – шепчу я, глотая слезы, и прижимаю ее к себе.
– Почему так больно? – стонет Нина. – Откуда столько крови?
Вдыхаю поглубже.
– Похоже на выкидыш.
Она смотрит на меня, потрясенная и напуганная тем, что я знаю о ее беременности. Зря я раскрылась. Тест, оставленный в мусорном ведре и попавшийся мне на глаза, был не криком о помощи, как я поначалу решила, а случайной оплошностью.
Я спешу уверить Нину, что не собираюсь читать нотации. Сейчас хочу лишь помочь. Беру ее за руку и веду обратно в туалет. Проходя мимо унитаза, заглядываю в него – и застываю от ужаса. Есть вещи, которые лучше не видеть, потому что забыть их потом невозможно. Я быстро нажимаю на слив – надеюсь, она туда не смотрела – и усаживаю Нину на сиденье.
Ее снова настигают судороги, лицо искажается от боли. Я осторожно кладу руку ей на лоб, как в детстве, когда проверяла температуру. Жар есть, но это нормально – один из побочных эффектов. Смачиваю полотенце холодной водой и промокаю ее лицо, будто ей снова пять лет, и она подхватила корь в школе, а год спустя – ветрянку. Помню, мы с Алистером по очереди сидели с ней, протирали ей кожу ромашковым лосьоном и следили, чтобы она не расчесывала гнойнички. Теперь ей четырнадцать, но для меня Нина все та же беззащитная маленькая девочка.
Гнетущая тишина между нами нарушается лишь ее рыданиями и стонами. Пока она корчится на унитазе, я глажу ее и целую в затылок, а природа берет свое. Помощь мне не нужна. Если позвоню в приемную, врач приедет на дом. Но это сейчас ни к чему. Я подвела мою девочку и теперь должна доказать самой себе, что могу быть хорошей матерью. Мы справимся. В последнее время Нина считала, что я ей ни к чему, однако сейчас все изменилось, и это единственное, что имеет значение. Больше я ее не подведу. «Теперь все будет по-другому», – твержу я себе.
Через час перебираемся в спальню. Оказавшись в кровати, Нина складывается, словно нежный лист для оригами. Накрываю ее одеялом и протягиваю две таблетки обезболивающего со стаканом энергетика.
– Спасибо, – бормочет Нина.
Я уже и не помню, когда в последний раз слышала от нее слова благодарности, поэтому радуюсь даже такой мелочи. Впервые с тех пор, как исчез ее отец, я чувствую связь между нами. Не было, нет и не будет ничего в моей жизни, что я любила бы больше нее. И никакие ее поступки никогда это не изменят.
Впрочем, надо довести начатое до конца, пока у нее свежа память о том, что произошло с ее телом. Чтобы весь этот ужас никогда больше не повторился.
– Выслушай меня, пожалуйста, – начинаю я. – Это очень важно. Надо было давно тебе сказать, да я все никак не могла подобрать подходящего момента.
– О чем ты? Это про папу?
– И да и нет.
Нина впивается в меня воспаленным взглядом. Ее интересуют любые крохи информации о нем. Своим исчезновением и последующим молчанием он толкнул ее на путь саморазрушения – хотя я не отрицаю и своей вины.
– Ты знаешь, почему за все это время он прислал мне лишь одну открытку?
– Нет, извини, – привычно вру я. – Мне надо рассказать тебе совсем о другом – о том, что он носил внутри себя и передал тебе.
Я на секунду замолкаю, подбирая слова.
– Твой отец был носителем редкой генной мутации, вызывающей прозэнцефалию. Если дочь такого человека забеременеет, она, скорее всего, не сможет выносить ребенка. А если даже каким-то чудом родит, то очень пожалеет об этом.
Нина смотрит на меня с недоумением. Беру ее за руку и крепко сжимаю.
– У ребенка с этим синдромом будет много проблем. Слишком много.
– Каких?
– Обезображенное лицо, неразвитый мозг. Как правило, такие дети погибают еще до рождения. Думаю, именно это и случилось сегодня. Так что, возможно, все к лучшему. Твое тело поняло, что что-то идет не так, и отторгло плод. Было бы хуже проходить девять месяцев и родить нежизнеспособного младенца.
– Как… Откуда ты знаешь?
– Когда ты была маленькая, у твоего отца начались ужасные боли в области живота. После всевозможных анализов и обследований в больнице специалисты нашли у него хромосомную недостаточность. Которая может передаваться по наследству. Там нам и рассказали, что бывает с детьми, рожденными от таких матерей.
– Почему же я родилась здоровой?
– Это сложно… Все зависит от количества дефектных хромосом. Мы сдали твою кровь на анализ, и оказалось, что у тебя их много.
– Значит, я никогда не смогу родить нормального ребенка?
Я делаю паузу, а затем спокойно отвечаю:
– Боюсь, что нет.
Она подтягивает колени к груди и сжимается в комок. Моя малышка.
– Я хочу спать…
– Мне остаться?
– Нет, спасибо.
Я целую ее в лоб и, помедлив, выхожу из комнаты.
Спускаюсь вниз, на кухню. Надо отвлечься хотя бы на несколько минут. В раковине со вчерашнего дня лежит немытая посуда. Непорядок. Но, прежде чем перейти к привычным домашним делам, следует кое-что закончить. Достаю из сумочки пачку с лекарством. На коробке значится «Клозтерпан»[12], а внутри, в блистере не хватает трех таблеток. Кладу его в карман и спускаюсь в подвал.
Шаря под лестницей в сложенных друг на друга чемоданах, благодарю судьбу за то, что моя работа связана с медициной. Пока доктор Феллоуз был на вызове, я пробралась в его кабинет, стянула официальный бланк, написала нужный рецепт, поставила печать и подделала подпись – работая в приемной, я отлично ее изучила. В аптеке мне без проблем продали лекарство. Вчера вечером я растолкла таблетки ложкой и подмешала их в подливку для воскресного жаркого. Нина ничего не заметила.
Наблюдая за тем, как она ест, я мучилась сомнениями. В 1981 году я неожиданно забеременела и не смогла закончить курс и стать акушеркой. Судя по некоторым признакам, я понимала, что срок у нее гораздо больше, чем она думает.
Гортань жжет от едкой желчи, поднимающейся из желудка, я сглатываю.
«Ты все сделала правильно», – повторяю я самой себе.
Забрав у нее этого нерожденного ребенка, я дала ей гораздо больше.
Глава 12
Нина
По дороге домой в автобусе я слушаю Celebration, сборник хитов Мадонны. Когда мне было шесть лет, я брала кружевные салфетки, висящие на спинке дивана, цепляла их на голову, повязывала шнурки от ботинок на запястья и представляла себя королевой поп-музыки. Папе не нравилось, когда его маленькая девочка распевала про то, что «чувствует себя девственницей»[13]. Но стоило ему начать сердиться, мы с мамой запевали Papa Don’t Preach[14], и он отступал. Эти воспоминания отзываются в моем сердце, и мне неудержимо хочется вернуться в те невинные времена хотя бы на мгновение.
Папа исчез из моей жизни больше четверти века назад, но я до сих пор сильно по нему тоскую. С годами многое померкло, и мне грустно от того, что я не могу вспомнить его голос. Мама выбросила все наши с ним фотографии, кроме одной, которую я спрятала у себя в сумочке.
С ней у меня связаны самые счастливые воспоминания. Ему тогда нужно было сделать фото для паспорта, и папа взял меня с собой в город. Я ждала его снаружи фотобудки, и когда дело дошло до четвертого, последнего кадра, он вдруг высунулся, схватил меня и втянул к себе. Я даже взвизгнула от неожиданности. Мы хохотали с ним как сумасшедшие и маме ничего не сказали. Это был наш секрет. Я очень дорожу этим кадром, потому что без него давно бы забыла папино лицо.
Из прошлого меня возвращает сигнал телефона. Уведомление от «Гугл». Внутри все холодеет: в нем может идти речь только об одном человеке, потому что только его имя я указала в настройках. Страх сковывает мое тело. Рывком стаскиваю наушники. Ноги выстукивают дробь по металлическому полу автобуса. Рука с телефоном прижимается к груди. Меня прошибает холодный пот, а к горлу подступает тошнота. Становится трудно дышать.
Проталкиваюсь через переполненный салон и выхожу через задние двери, не доехав до места три остановки. Нужно время, чтобы прийти в себя, прежде чем возвращаться домой и садиться за ужин с Мэгги. Не в силах больше длить муку, я открываю сообщение и принимаюсь читать прямо там, на обочине. «Певец-убийца умер», – говорится в заголовке. И ниже: «Осужденный за убийство Джон Хантер умер от лейкемии после 18 месяцев тяжелой борьбы».
Мимо едут машины и идут люди… я их не вижу. Тело мое в настоящем, но мысли – в прошлом. Я не смогла бы сдвинуться с места, даже если б захотела.
Помню эту фотографию Джона. Впервые она попалась мне на глаза, когда над ним шел суд, и ее опубликовали все газеты. Однако сделана она была намного раньше и совершенно не передавала его красоты. Он там какой-то хмурый, и любому, кто не был с ним хорошо знаком, кажется пустым и бездушным. К сожалению, многое стерлось из моей памяти, но я точно уверена, что он таким не был.
Неожиданно обрушиваются образы из прошлого. Они проплывают перед глазами словно кадры, висящие на веревке в фотоателье. Вот я сижу где-то дома, за спиной у меня Мэгги. Она подходит ближе и что-то тихо говорит – не могу разобрать слов. Едва появившись, картинка исчезает.
Пальцы сами тянутся к нижней губе и ощупывают татуировку, спрятанную во рту.
Глава 13
Нина
Двадцать пять лет назад
Джон идет по сцене всего в нескольких метрах от меня. Боже, какой он красивый – аж дыхание перехватывает! А когда резко поворачивает голову и пот с его длинных темных волос летит на мое лицо, я чуть не падаю в обморок. Его вкус у меня на губах. И я так счастлива, что готова умереть, потому что лучше уже быть не может.
Когда Джон достает микрофон из стойки и обнимает его двумя руками, я замечаю, что у него черный маникюр. Завтра сделаю себе такой же. Его губы почти касаются микрофона, и я представляю, как они тянутся ко мне, чтобы поцеловать. Он чуть ниже, чем другие участники группы, и худощав, но кажется, будто заполняет собой все пространство сцены. Кроме него, я никого не вижу.
Жар от раскаленной толпы в главном зале клуба «Роудмендер» оседает на потолке тяжелым конденсатом, который падает вниз, словно теплый дождь. В середине песни Джон вставляет микрофон обратно в стойку и позволяет соло-гитаристу выйти в центр. Однако взгляды по-прежнему прикованы к нему: он стягивает футболку через голову, бросает ее в толпу и остается голым по пояс. Он великолепен. Ни один из моих парней не годится ему в подметки. С этого момента для меня существует только он, и я хочу быть с ним, чего бы мне это ни стоило.
Я люблю тебя, Джон Хантер.
Сэффрон скачет рядом со мной – визжит так, что можно оглохнуть, и сжимает мою руку, царапая ее ногтями. Я не жалуюсь и не виню ее. Как и все девушки в зале, она воображает, будто каждое слово, слетающее с прекрасных губ Джона Хантера, обращено именно к ней. И, как и все, ошибается. Потому что он будет моим. Взгляд его пронзительных серых глаз устремлен на меня. Это про меня он поет «Сумасшедшая девчонка». Он знает меня лучше, чем все остальные, а ведь мы с ним даже пока незнакомы. И если моя лучшая подруга или одна из этих истеричных сучек думают, что у них есть шанс, им стоит полечить голову.
Мы с Сэффрон следим за группой Джона, названной по его фамилии «Зе Хантерс», уже несколько месяцев, с тех пор, как ей на глаза попалась их фотография в местной газете. Музыкальный обозреватель поставил их альбому пять звезд из пяти и написал, что они – главное событие в жизни города со времен рок-группы «Баухауз», зажигавшей в восьмидесятые (я о таких и не слышала). Все уверены, что Джон со своими ребятами взорвут брит-поп. Думаю, их слава затмит даже «Оазис» и «Блёр». Потому что Джон – бог. И очень скоро он влюбится в меня не меньше, чем я в него.
Сэффрон приехала в клуб заранее, чтобы занять место в очереди и прорваться к сцене. С тех пор как папа от нас ушел, мама стала пить столько снотворного, что и слона вырубит. Однако пока она не уснет, мне приходится ждать, прежде чем выскользнуть через заднюю дверь из дома на свободу.
Мама постоянно думает об отце, хотя никогда его не упоминает и делает вид, будто ей все равно. Но порой, когда она подолгу молча смотрит в сад, что-то мне подсказывает: ее мысли занимает именно он. Мужчины не уходят из семьи, где есть дети, без причины. Значит, она настолько его довела, что у него просто не осталось выбора. Это она виновата, что он не зовет меня к себе и не отвечает на мои письма. С момента его ухода прошло семь месяцев, и за все это время я получила от него лишь одну поздравительную открытку, подписанную «С любовью, папа». И ни письма, ни телефонного звонка – ничего. Я ненавижу ее за то, что она сделала. Это нечестно.
Она уверена, что между нами после выкидыша ничего не изменилось, и я не спешу ее разубеждать. Теперь, когда она больше мне доверяет, я могу делать, что хочу, не опасаясь ее гнева.
Отыграв на бис последнюю песню, Джон уходит со сцены. Я провожаю его взглядом, а внутри меня все дрожит – ведь, как только он исчезнет, мне останутся одни лишь бесплотные фантазии. И тут происходит чудо: дойдя до кулис, он вдруг оборачивается, ловит мой взгляд и посылает улыбку. Я улыбаюсь в ответ. Он кивает мне, словно приглашая следовать за собой.
– Нина, ты куда? – кричит мне вслед Сэффрон, когда я перемахиваю через барьер и запрыгиваю на сцену.
В зале зрители уже расходятся, а моя ночь в самом начале. Я чувствую это. Сердце выскакивает из груди. Сэффрон кричит что-то мне в спину. Я не отвечаю и не оборачиваюсь.
За сценой начинается коридор с белыми стенами, сплошь изрисованными граффити, текстами песен, именами и просто каракулями. Там полно народу, так что мне приходится то и дело уворачиваться от музыкантов, звукооператоров и служителей. Наконец я замечаю Джона. Он вытирается полотенцем и входит в гримерку. Ноги подкашиваются, но я следую за ним. Он оборачивается, осматривает меня с головы до ног, потом молча садится на ящик, вынимает две сигареты из красной пачки «Мальборо», прикуривает и протягивает одну мне.
– Как тебя зовут?
Кольцо дыма зависает у него над головой, как нимб. Мой святой.
– Нина.
Из-за волнения ответ звучит слишком тихо, приходится повторить громче:
– Нина.
– Приятно познакомиться, Нина-Нина. Я Джон.
– Знаю, – отвечаю я, делаю долгую затяжку и еле сдерживаюсь, чтобы не закашляться: это не первая моя сигарета, но сегодня я столько орала, что дым обжигает горло.
– Некисло, да? – говорит он.
Я киваю, опасаясь открыть рот. Не хватало еще выставить себя малолетней идиоткой.
– Туда набито кое-что особенное, – продолжает Джон с ухмылкой и со значением поднимает брови. Я не понимаю, о чем он, но все равно смеюсь. – Как тебе шоу?
– Потрясно, как всегда. Для меня это не первый раз.
– Надеюсь. – Он подмигивает, и теперь я понимаю намек. Только бы не покраснеть.
– Я хотела сказать, что уже слышала, как вы играете.
– Значит, фанатка? – Он ухмыляется. – Ты горяча…
От такого комплимента щеки мои мгновенно вспыхивают, и я ничего не могу с этим поделать.
– Спасибо. Ты тоже.
– Я это к тому, что у тебя вся футболка потная, – продолжает Джон (ну я и дура!). – Снимай!
Не задумываясь, я стаскиваю майку с влажной кожи и остаюсь перед ним в лифчике и джинсах. Обычно для уверенности мне надо выпить пару коктейлей, однако сейчас все иначе. Джон Хантер бросает мне свое полотенце, и я принимаюсь вытирать волосы. Когда он отворачивается, я тайком вдыхаю его запах, впитавшийся в ткань. Джон достает из рюкзака запасную футболку и протягивает мне. Я беру ее, но вместо того, чтобы надеть, просто стою и пожираю его взглядом. Он улыбается и наконец делает то, о чем я так долго мечтала.
Глава 14
Мэгги
Судя по моим старым часам в виде кареты (теперь обосновавшимся на буфете в столовой), я уже десять минут сижу в одиночестве. Нина почти никогда не уходит так надолго, потому что не доверяет мне, и, откровенно говоря, у нее есть на это причины. Но с чего вдруг сегодня такие перемены?
Наклоняюсь и оттягиваю одной рукой металлический обруч, застегнутый на лодыжке, чтобы смазать натертые места антисептической мазью. В прошлом году дело дошло до абсцесса. Поначалу Нина игнорировала мои жалобы, а когда стало совсем худо, я предупредила ее, что, если начнется воспаление или заражение, придется либо вызывать врача, либо иметь дело с неизбежными и очень неприятными для нас обеих последствиями. К счастью, это возымело действие: она купила мазь и стала перестегивать обруч раз в неделю.
Время идет, Нина не появляется. Встаю и начинаю расхаживать по комнате. Ни разу за все время заточения она не оставляла меня здесь одну так надолго. Я даже немного беспокоюсь и хочу окликнуть ее, чтобы проверить, всё ли в порядке, но тут же одергиваю себя: когда еще выдастся такой шанс. Верх окна слегка приоткрыт, и я слышу пение птиц, доносящееся из сада. Похоже на трели черного дрозда. Я подхожу ближе в надежде рассмотреть певца и проверить свою догадку, но никого не вижу.
И вдруг меня осеняет: она оставила меня одну в комнате с открытым окном! Стекло разбить не получится – оно ударопрочное, это я знаю наверняка, потому что как-то в пылу спора запустила в него обеденную тарелку. Но запор-то открыт!
Первая моя мысль – встать на стул и во всю глотку звать на помощь через щель. Не годится: не успею я прокричать и пару слов, как Нина взлетит сюда и силой утащит меня наверх. А вдруг это очередная проверка? Я научилась не доверять ее неожиданным «подаркам», будь то пачка мармелада или открытое окно. Взвесив все «за» и «против», я решаю не рисковать – ведь шанс, что меня услышат, слишком ничтожен. Если я хочу получить реальный результат, надо действовать умнее. Надеюсь только, что потом не придется пожалеть об упущенной возможности…
Я стою и смотрю в окно на темные облака, медленно затягивающие серое небо. Вечером жди грозы. Из сада снова доносится трель черного дрозда, напоминающая мне, как же давно я не слышала обыденного уличного шума. Лай собак, крики играющих детей, голос ди-джея по радио, ворчание автомобильного двигателя, шелест пластикового пакета, застрявшего в ветках, – все, что раньше я не замечала и считала самим собой разумеющимся.
В больнице меня вечно окружал назойливый шум: больные кашляли, младенцы орали, телефон трезвонил, коллеги хлопали дверцами шкафчиков, доставая карточки посетителей. Тишина была редкостью. Но мне нравилась эта работа, поэтому я и отдала ей тридцать два года. У меня всегда были теплые отношения с коллегами и с пациентами.
Надеюсь, они хоть иногда вспоминают обо мне добрым словом. Упрятав меня в заточение, Нина с нескрываемым удовольствием рассказывала, как сообщила всем в больнице, что у меня «сосудистая деменция» (или попросту слабоумие), развившаяся на фоне нескольких «внезапных микроинсультов». Она придумала легенду, что из-за необратимого повреждения мозга ей пришлось отправить меня в Девон на попечение к моей сестре Дженнифер, медсестре на пенсии. Любопытно, интересовался ли кто-нибудь после этого моей судьбой. Спрашивать у Нины бесполезно – все равно правду не скажет, а слышать издевательское «нет» из ее уст мне не хочется.
Наконец внизу на лестнице раздаются шаги. Я не двигаюсь с места и не оборачиваюсь, когда она открывает дверь. В отражении на стекле вижу, как, заметив меня у открытого окна, она судорожно окидывает взглядом комнату, видимо, пытаясь понять, не воспользовалась ли я ее оплошностью.
– Я ничего не сделала, – говорю я, поворачиваясь к ней, и вижу, что она колеблется, не зная, верить мне или нет.
Когда я сажусь на свое место, дочь передает мне тарелку и пластиковые приборы. Обычные, металлические, она перестала мне класть после того, как в начале заключения я проткнула вилкой ее руку. Однако и по сей день я считаю, что моей вины в том не было: из-за сильнодействующего успокоительного, которым она меня пичкала, чтобы держать под контролем, у меня начались галлюцинации, и я приняла ее за дикую собаку, пытающуюся перегрызть мне глотку. Пыталась объяснить, но вряд ли она мне поверила.
На ужин сегодня лазанья с двумя чесночными гренками. Хотя пахнет аппетитно, у меня непереносимость глютена, и Нина об этом знает. Если я съем все это, потом мне будет очень плохо. Увы, делать нечего – я слишком голодна, чтобы отказываться.
– Спасибо, – говорю я. – Давно такого не было.
Нина молча кивает, не утруждая себя даже обычными дежурными фразами. И музыку не включает. Ее явно что-то гнетет.