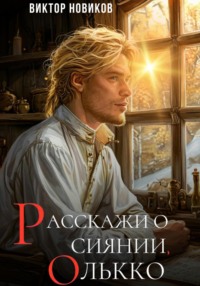Полная версия
Гуннхильд
Краски густели, становились резче. Плоские тени восставали, будто вырезанные, и солнце немилосердно било между ними. Цвета блекли, как бывает при тепловом ударе. Запахи и живого, и сухого мха – со всех времен года – залетали в ноздри и перемешивались, чтобы Торвальд расчихался…
Ясень на поляне, серокорый, редколистный от старости, закрывал почти что полнеба. В его корнях сидел паренёк в рубахе из сурового льна, перешитой несколько раз и болтавшейся мешком на плечах – любящие матери сыновьям так не шьют. Ярко-белые волосы затеняли лицо до подбородка, но руки, плечи, то, как он сидел – Торвальд понял, что знает мальчишку.
«Эй, Трюггви! – хочет окликнуть его Торвальд. – Ты как тут…»
Но Трюггви давно вырос. Он сейчас высокий славный воин, уже не мальчик-пастух.
Но, Пресветлые Асы и духи родного леса, это он! Это он, обнимая колени, жмётся к стволу по-мальчишески худенькой спиной, и стук из его груди наполняет пролесок.
Это маленькому Трюггви мир видится безмолвным бело-чёрным ненастьем.
Воспоминания переставшего шелестеть пролеска оживали, распускались и умирали, словно лепестки цветка. Вот Трюггви выбегает на поляну. Вот он сидит под ясенем, растирая кулаком по лицу слёзы и сопли. Вот он зайцем бежит от ясеня к Торвальду. Хлюпает ртом и носом, а волосы колышутся сзади белым отсветом…
Да, таким он мог быть восемь зим тому назад. Правда, Торвальд впервые увидел его мальчиком повзрослее. Перешедшим-Море.
Трюггви не добежал до Торвальда полшага и пропал, а мир потемнел, подчинившись подростковой обиде… В пролеске рассветёт, когда по тропинке пойдут трое – Трюггви в медвежьей куртке, худой и невысокий мужчина, а за ними Торвальд.
И он еле поспевал. Призрачный лес мешал, не давая догнать и хлопнуть этих двоих по плечам – как порою бывает и во снах. То вставала стена новорождённого комарья, то в лицо летели стаи мух и слепней. Или дул ветер с дождём, сменявшийся колючими хлопьями.
– А у Гуннхильд, – вдруг услышал Торвальд высокий мужской голос, – попроси прощения и подари чего-нибудь… У неё и без тебя мало радости… Это ведь она летом носила тебе поесть…
Сугробы оттаивали и тут же замерзали в серый ледяной панцирь. Его осколки крошились под подошвами, смачивая прошлогоднюю траву и превращая её в почву.
В плаще то было нестерпимо жарко, то он не спасал от пронизывающего мороза. Торвальду хотелось то надсадно кашлять, то вытирать, не переставая, рукавом липкое лицо… Тем же двоим всё было нипочём.
Оказывается, с Трюггви идёт Горм, слуга из Волчьего Гнезда. Это его медвежья куртка на Трюггви.
Горм что-то негромко говорит, покачивая пальцами перед собой. Трюггви дуется, судя по плечам и затылку, но в бело-чёрный мир прозрачными водяными пятнами возвращаются краски. Вместе с равновесием в его юной душе…
Торвальд сморгнул скопившуюся влагу и поднял левую руку к левому глазу. Увидеть ладонь он смог, лишь когда сдвинул её к самому кончику носа… Наваждение кончилось. Да, всё же нечасто. Отвыкает он видеть мир с левой стороной.
Трюггви и Горма впереди не было, как и следов от них. Дорога была другой, изгибалась по-иному, а из кустов по её бокам выросли настоящие деревья.
* * *
Вокруг чернеют ёлки. За их нижними голыми лапами просматривается ярко-жёлтый березняк, а в нём – кровавые глазки бузины. Ельник глухой, невысокий, в полтора-два человеческих роста. Не пройти, не расцарапавшись.
Но с каждой зимой ему приходится отходить от усадьбы Волчье Гнездо.
На новые вырубки тянутся огородные плетни из ивовых прутьев, обмазанные смесью глины, песка и щебня с морского берега. Прямо у елей вырастают склады для шкур, дровяники, ближе к жилью – для еды. Новые овчарни, козульники, хлева для коров – лошадей держат в прибрежном посёлке – птичники для кур, уток, гусей, хижины для слуг. Всё больше и больше работающих тут решают перебраться из посёлка к хозяевам и старым слугам семьи.
Дом конунга в середине предгорной пустоши виднеется отовсюду. Восемь зим назад, вступив в права хозяина, Харальд Рыжий Волк следующим днём велел перестроить старый.
«Хлев Бешеного», – сказал он тогда, выругавшись.
После дом растянулся ввысь и вширь, на старые огороды, на часть сада и прежнюю мусорную яму. Тёсаные, плотно пригнанные брёвна золотятся до сих пор, не потускнев за суровые сезоны и не потрескавшись – Харальд отбирал их с друзьями-корабельщиками, которые знали древесину да толк в строительской стезе. Наверное, поэтому дом походил на корабль, зависший на вздыбленной волне. Из-за его красоты мало кто вспоминал хлев Бешеного, что полвека был неотделим от здешней пустоши.
Крышу дома покрывают переплетённые слои соломы – в середине каждого лета поверх прошлогоднего слоя кладётся свежевысушенный. Главный вход, как положено предками, смотрит на благостный солнечный юг.
Из дымохода вьётся струйка, а вокруг мшистых валунов на пустоши журчит ручей. Около огородов он замедляется. Камни со дна выковыряны, кое-где перекинуты мостки. Вдоль берега тянется плетень, за которым по рядам кочанов ползает слуга с корзинкой. Как только ручей выбегает за пределы усадьбы, камни на дне обнажаются, и среди них бурлят омуты, ледяные даже летом. Там, стоя в воде по щиколотку, женщины полощут одежду.
Они распрямляются, когда видят на тропинке незнакомца в войлочной шапке и кожаном плаще.
Торвальд улыбается всем их приветливым и неприветливым взглядам. Сбрасывает с плеча мешок и поднимает руку с веткой бузины.
Только сейчас он вспомнил, что отломал её на развилке.
– Меня зовут Торвальд Одноглазый, – говорит он в возникшем пытливом молчании. – Конунг Харальд пригласил меня на пир.
– Провидец! – вскрикивают прачки и кидаются к пришельцу.
Шлёпаются на камни скрученные тряпки, вертятся в водовороте чьи-то штаны… Стирать остаётся только одна. Прачки засыпают Торвальда вопросами, трогают его прославленный плащ, а она взглянула лишь раз, наморщив лоб.
Торвальд отвечает невпопад и украдкой следит за ней поверх затылков в белых платках.
Платье у неё шерстяное, старое, уже до неуловимого окраса полинявшее от солнца, пота и частых стирок. Поверх платья надета безрукавка до колен из жёлтой овчины, без завязок и нараспашку. Она трёт кулаками брошенную кем-то рубаху, и её коса шевелится меж лопаток. Выбившиеся вихры налипли на лоб, на щёки, и кудрявятся, как волокна вокруг старого каната…
Лицо маленькое, черты не проглядываются из-за обильных веснушек, сливающихся в рябое пятно.
Она отжимает постиранное и собирает своё в корзину. Вскидывает напоследок круглые блёклые глаза.
Если б меньше солнце жарило её лицо, если бы чаще она носила новые платья, мыла, распускала и расчёсывала косу. Если б… Она давно, похоже, не была тем радостным источником лучащегося сияния.
Она поднялась и горделиво пошла к дому. Будто лохматая коса была короной из золота и драгоценных камней, а она сама – королевой крови, не иначе.
За огородом, посчитав, что её никто не видит, побежала по тропинке, мелко-мелко, как мышка.
Глава II, в которой на пиру собираются и живые, и мёртвые
В церкви рухнули все четыре столба, на которых по обычаям вырезали книжников. Ингвара ударило по шлему и перебило спину, а пыль, забившую рот во время крика, вместо слюны стала смачивать кровь. Ему повезло – он оказался под самой верхушкой кучи, в которую сложилась церковь. Когда пали стены, он стоял возле оконного проёма, поэтому смог выползти наружу…
– Вот как думаешь, Кнуд, проклинал ли он себя? – спрашивал Торвальд Провидец, Торвальд Одноглазый. – Себя, распоследнего в мире глупца, и всё ходящее на двух ногах?.. Нет, он смеялся. Он готовил ловушку эйринцам, а попал в неё сам, со своими людьми.
* * *
Рассказ льётся… Сельди плывут по стенным доскам, как живые. Плещутся, переворачиваются, трутся брюшками с икрой о края приколоченных щитов. Икра на самом деле буро-коричневый след кисти между их нижними плавниками. Сквозь другие мазки, белые, синие, чёрные, проглядываются прожилки древесины. Если потереть пальцем, на подушечке останутся чешуйки краски.
Ушам Гуннхильд рассказ напоминает дождь, рассыпающийся по натянутой коровьей коже. На крышах из шкур дождь звучит особенно громко. Слова, как капли, падают часто, быстро, от каждого под ключицу прыгает сердце… Журчание с козырьков обычно заглушает крики из двора, которые не хочется слышать. Прямо как этот рассказ.
Гуннхильд очень любит рассказ, храброго Ингвара в нём и голос рассказывающего. А она его видела? Это он шёл по тропинке с моря, когда Гуннхильд стирала?
Выглядывать не надо… Её увидят. Не надо.
С улицы её в тёмном углу не видно. После наружного солнца там ещё темнее, а выходящих яркий свет заставляет щуриться…
Что это за гром? Небо за дверью синее, на нём ни облачка! Но это не гром, а внезапно раскатившийся хохот.
Когда гремит гром, в одном месте крыши тонко-претонко, как бескрылая оса, гудит расщепленная дранка. Сейчас она тоже гудела.
В грохочущем хохоте глумливо хрипит пьяный голос:
«Сам-то прыгал?»
Гуннхильд узнала старого толстого Кнуда. Подтянула на шею безрукавку из ярочки, которую выхаживала позапрошлой осенью, и на полглаза выглянула из-за углового бруса.
За столами трясутся гости. Смутно знакомые. Громадные, огромные. Их пять или шесть… Смеются, качаясь во все стороны.
Одноглазый тоже улыбается, уголком рта с полосками знаменитого шрама. Его пальцы, как гадюки, танцуют у подбородка.
«В моих родных местах сети иногда уносит в море, – начинает он в ответ новый рассказ. – Плести и рубить сети – дело священное, поэтому сами они не менее священны, и их берегут… Поэтому за ними приходится нырять. Если сеть достать удаётся, то море милостиво. Если она порвана или запуталась в камнях, море грозит пальцем. Если сети нет, – Пальцы Торвальда расцепились, а ладони разошлись в стороны, – море обиделось на своих детей. Летом ныряют мальчишки, осенью парни. И я пару раз нырял».
Гуннхильд тоже нырнула.
Перед этим сжала губы, чтобы не выпустить ни пузырька воздуха. Надула щёки, закрыла глаза.
Рядом плывёт Торвальд, разводя руками перед лицом. На лице, на шее играет волшебный зеленовато-жёлтый свет, разглаживающий все складки на коже, даже глазной шрам… Однако на самом деле он за столом, а не под водой с Гуннхильд. Лоб его спокоен, губы не подняты к носу, а пальцы стукаются друг о друга вместо того, чтобы постепенно превращаться в плавники.
«Ну? Признавайся, Кнуд, – улыбается Торвальд, – ты же нырял и, похоже, поглубже, чем я, раз спрашиваешь такое?»
Он заглянул под стол и мыском одного сапога стукнул по щиколотке другого.
«Я, пьяный, нырял вот посюда. Гляди. А ты? По колено-то было?»
В ответ на это дранка снова гудит от хохота.
Гуннхильд растянула губы в улыбке и засунула в рот кулак. Так глубоко, что даже выступили слёзы.
Толстый Кнуд любит посомневаться в чужих заслугах. У него же кроме пьяной славы отнимать нечего. Шутил ли он сам, или над ним шутили – всякий раз все смеялись охотно, и Кнуд тоже смеялся. Посмеяться он любил. Щёки его багровели, как вино, которое он нещадно поглощал, покатые плечи и пузыреподобный живот тряслись под рубахой.
«Бух-бух, бух-бух», – бухают поблизости чьи-то шаги.
Кто-то остановился возле угла Гуннхильд. Это Старая Уна.
В её правой руке, коричневой, костлявой, с набухшими венами, ведро с ломтями солёной свинины, новое, деревянное. В левой расплёскивает очистки и ошкурки треснутое старое…
Ведро со свининой ставится на пол. Его тут же уносит подскочившая служанка.
«Что стоишь? Стену подпираешь, – Уна шипит в сторону Гуннхильд и плюётся через сломанный зуб. – Без тебя не упадёт! Я тебе что сказала? Вот хоть мясо помоги таскать! Сейчас хозяйка придёт, а я и так уже за тебя, молодую, бегаю! Пожалела дуру! Давай иди! Делай, что говорят, или уходи! – Уна, сузив губы до ниточек, замахивается свободной рукой на Гуннхильд, как на собаку. – Уходи!»
Напрягшаяся Гуннхильд не шевелится. Она представляет себя одним целым с брусом-подпоркой, к которому жмётся грудью. Она не слушает Уну. Ведь подпорки не имеют ушей. Старуха умолкает, и становится слышно её злое свистящее дыхание.
Уна берёт ведро с очистками в отдохнувшую руку и выходит за порог, оставив, наконец-то, Гуннхильд наедине с сельдями и Ингваром Бойцом.
К счастью Гуннхильд рассказ продолжается, разворачиваясь дальше, подобно мотку восточного шёлка с чудесными цветами и узорами…
На самом верху бруса чернеет точка, которую по кругу обходит красно-жёлтый ободок. Это глаз. Нарисованная сельдь улыбается – край щачла подтягивается к глазу, и он, как живой огонёк, сверху подмигивает Гуннхильд.
«Я видела», – говорит сельдь.
Говорит как Старая Уна, если её станет передразнивать Гуннхильд.
«Плыла под лодкой, под рулём. Под стариком… И видела, как прыгнул Ингвар. Хочешь, расскажу?»
Спросив это со смешком, рыба замолкает. Повесть Торвальда льётся дальше… Пока он рассказывает, Гуннхильд ничего делать не будет.
* * *
Старая Уна вышла на задворки, затянутые крапивой – стоявшей зелёной даже в первые морозы – опрокинула в яму помои из ведра и громко сказала то, что так или иначе думали все:
– Несчастный ребёнок.
При том, что Гуннхильд давно не следовало считать ребёнком.
В часы недовольства на свою жизнь Уна ворчала на всё и вся, но всякий раз вспоминала Гуннхильд, успокаивалась и жила, как живётся, дальше.
Надо бы разогнать бездельников в зале и послушать, что рассказывают… Разбегутся. Из почтения к старости.
Она вздохнула так, как могут вздыхать старухи, и поковыляла к дому. Горма вызовут на двор за мясом, Уна растолкает слуг и встанет на его место слушать Провидца.
* * *
Перед локтем Торвальда лежат глиняная тарелка и оклёпанный серебряной проволокой рог.
От его лица не отрываются почти дюжина глаз, его рассказ ловят почти дюжина ушей. А то и больше, если посчитать всех слуг. Как долго будут смотреть на него, как долго будут слушать – столько же будут пополняться рог и тарелка…
И наконец-то после долгой дороги Торвальд за столом конунга Харальда, без прилепившихся к телу за три дня шапки с плащом. Они висят за его спиной, на стенном крюке вместе с мечом.
По правую руку от Торвальда сидит его приятель Рагнар, справа от Рагнара во главе стола – сам Харальд. За другим столом сидят старинные Харальдовы друзья Свейн и Кнуд. Пришёл ещё Трюггви, сын Харальда, и сел на белый стул по правую руку от конунга.
– Шли белые ночи, – продолжает Торвальд, – в стране Эйре они незаметны, но небо до самого рассвета удивительно светлое. Море днём греется, и за ночь холмы побережья затопляет туман – в котором не видно ничего.
* * *
Ингвар в белой плотной пелене лежал на обломках и смеялся. Рёбра болели нестерпимо, будто в них остывал жидкий свинец.
Одинокий смех, который пугал даже его самого, бился оглушённой летучей мышью среди развалин города, несчастной жертвы Ингварового нападения. Туман поглотил всё – развалины, тлевшие угли, мёртвые тела эйринцев и его людей.
Ингвар подумал, что как жалки, наверное, теперь носовые драконы его подожжённых драккаров. И захохотал громче.
Он умолк, когда по улице разнеслось шарканье. Наплевав на взвившуюся боль в лёгких, повернулся на локтях. Кто-то ещё выжил?.. Он отпихнул ногой доски, придавившие колени, и пополз с кучи.
«Даже кровному врагу не пожелаю ползти по останкам здания, которое строилось на века и рухнуло из-за тебя, – скажет Ингвар однажды своему другу Торвальду. Помолчит и добавит: – Иной раз упрёшься во что-то холодное и увидишь, что это чей-то окровавленный лоб, влажный от тумана. Или рука, которая, как тебе кажется, вот-вот сожмёт твою – отчего ты сразу сделаешь штаны тяжелее. Но этой ночью она окоченела насовсем».
Ингвар поднялся на ноги, вскарабкавшись по врытому в зелёный дёрн каменному кресту. В Эйре их часто помещают напротив входа в церковь. Вскарабкался, надо сказать, с трудом.
Туман рассеивался, шарканье слышалось ближе. Ингвар сунул руку за пазуху, где прятал нож. Эйринцы тоже вполне себе шаркают… Сломанные меч и щит пропали в развалинах, поэтому вся надежда была на ножик. И на шлем, выдержавший удар стен, треснув одной только кожей на боку.
Вдоль церкви к морю ковылял кто-то высокий и крупный. К шарканью прибавлялся шелест – рваным хвостом за идущим по битым кирпичной кладке тянулся плащ. В жилистой руке, тонкой, но с широченным запястьем, блестел посох, похожий больше на копьё.
Человек хромал бодро, переваливаясь с ноги на ногу. Видимо, приноровился с годами к застарелому ранению.
«Эй!» – крикнул Ингвар и, мигом одумавшись, прикрыл рот ладонью.
Но из повернувшегося лохматого капюшона выпала борода. Длинная, белая, лишь ото рта тянулись жёлтые подпалины. Старик соизволил обратить внимание на Ингвара. Хотя явно видел все его шевеления с самого начала.
«Подожди! – крикнул Ингвар. – Эй! – И повторил на наречии Эйре: – Подожди!»
С каждым шагом в ноги и спину Ингвара возвращалась былая крепость, никаких ран не чувствовалось, и он размеренно бежал по кирпичам и взрытой земле. Старик маячил далеко впереди, бубнил что-то неразличимое, махал рукавом в туман и бил камни посохом.
Только у самого моря Ингвар потерял его в проклятой дымке. Лёгкие горели так, что изо рта почти вылетал огонь. Ингвар подумал, что отстал.
Подумать о том, зачем нужно было догонять старика, он не успел. Из тумана выплывала двувёсельная лодка…
Старик умостился на её носу. Плащ цвета сгустившейся тучи разгладился, став частью лодки. Из просторного рукава высунулся палец с птичьим когтем и показал на доску у вёсел.
«Что стоишь? – спросил старик плавным и тягучим говором, каким разговаривали дед Ингвара и его ровесники. – Садись!»
«Кра!» – раздалось над Ингваром, и в клубах тумана мелькнула воронья тень.
Ингвару показалось, что она раздвоилась. И что вторая тень была шире по размаху крыльев.
В воду между ним и лодкой что-то плюхнулось. Чернея кровавым ногтем, на поверхность всплыла содранная с чьего-то пальца кожа. Ингвар хмыкнул – вороньё добралось до еды. Вдобавок, на дальних холмах уже гудели волчьи трели.
Повернув голову, Ингвар крикнул:
«Иду, дед!» – И попрыгал к лодке по камням над водой.
…Лицо старика не различалось даже вблизи. Из провала капюшона высовывался лишь нос, острый, серый, крючковатый. Часть правого крыла отсутствовала, и ноздря, казалось, задиралась вверх, к переносице.
Ингвар примерился к вёслам. Они двигались легко, слушались так, будто в них, как древесные корни, вросли его руки.
«Куда?» – спросил Ингвар у старика.
Тот не ответил… Поэтому пришлось отпустить вёсла. Ингвар проследил за взглядом из чёрной дыры в капюшоне.
Из тумана одна за другой вырастали знакомые шеи носовых драконов. Драккары отнесло от берега, и они дрейфовали, полузатонувшие, накренившиеся. Ингвару было горько видеть на их отборной древесине жирные угольные пятна, на которых ещё плясали язычки пламени. И от которых в сырость тумана примешивался сладковатый смрад.
Ингвар поклялся про себя, что в жизни не приблизится к побережью Эйре.
* * *
– Помнишь же, Свейн, когда ходили с Ингваром, сколько раз он отказывался даже поворачивать в сторону Эйре…
– Дай дослушать! – прервал мигом Кнуда Харальд. Тишину он мог наводить быстро. – У тебя в кружке что ли пересохло? Долейте ему, чтоб рот не раскрывал.
– На это я согласен. Наливай, Горм…
Горм, очень худой, невысокий, с коротко подстриженными чёрными волосами и бородой принялся размешивать вино на дне ближайшей к очагу бочки.
Он главный слуга в Волчьем Гнезде. Без него Гнездо вовсе не Гнездо.
– Правильно, Кнуд, – кивнул Торвальд. – Всё правильно ты сказал. И я подмечал избирательность в его приказах.
* * *
Когда Ингвар, призывая в безмолвной клятве богов в свидетели, дошёл до имени Одина-Всеотца, старик расхохотался на весь туман, чуть было не выронив посох в воду.
Как в чём-то неделимом, в его смехе сливались треск высохшего дерева, карканье вороны и волчий лай.
«Зря зарекаешься, – сказал, отсмеявшись, старик. – Сам себе заграждаешь загончик. Здесь ходить. Там не ходить», – И раскаркался снова.
Ингвар удивился. Неужели его мысли прямо на лбу стадом паслись?
«Это не твоё дело, – ответил он. – Если тебе что-то не нравится, я выкину тебя из лодки и вдобавок веслом дам по…»
Старик, прекратив смеяться, хлестнул посохом волну за бортом – а Ингвар, охнув, скорчился. Позвоночник завыл в том самом месте, куда ударил церковный столб. В рёбрах проснулся свинец, и на голову наделся раскалённый глиняный горшок. О сжавшиеся кулаки ударились рукояти вёсел.
«Греби!» – приказал старик и шевельнул длинным костистым пальцем в сторону моря.
Ингвар смотрел в чёрный провал с бешенством, но пыхтел и двигал вёслами. Те скрипели, поторапливая.
Плыли они долго. Но куда? Сколько ещё? Ответы на эти вопросы Ингвар ждал с нетерпением.
На светлеющем небе высыпали звёзды, но в известные созвездия они не складывались. Стоило вглядеться, как в запрокинутую шею натекал приступ боли. Звёзды скрывал туман, который то рассеивался на тончайшие слои, то сгущался дерущимися клоками. Иногда вдали прорывался световой столб, и на глади моря играло солнечное белое золото. Раз или два на волнах недолго плавало снежное крошево. Плыла ли лодка вдоль мелководья или по открытому морю, было непонятно – глубина под днищем не просматривалась.
Ингвар чувствовал усталость ещё на первом гребке, но как человек моря, в море он забыл про неё. Ингвар то проваливался в тяжёлую дрёму, то просыпался, от того что судорожно вздрагивали руки, которые, оказывается, гребли сами по себе…
Наконец, Ингвару надоело. Хорошо, если старик везёт его – его же руками – к богу-великану Эгиру на пир. Но скорее Мировому-Змею в глотку.
Он громыхнул вёслами о борт:
«Куда мы плывём?»
Старик не шевелился.
Неужели от него осталась лишь одни тряпки?.. Но из капюшона высунулся щербатый нос.
«Греби!» – И старик снова опустил в воду посох.
Боль в костях вспыхнула сильнее, но руки прекратили ныть, слившись крепче с рукоятями. С детства не плакавший от обиды Ингвар вытер слёзы о плечо и поглядел злобно на старика.
Подождав, он спросил старика во второй раз:
«Куда мы плывём? – И прорычал: – Я устал».
«Греби», – Старик будто только это слово умел говорить, не корёжа на старый лад…
И Ингвар тут уверился, что везёт Одина. Вроде бы в старике ничего явно не выдавало Первого-Вождя, Прародителя и Первого-Бога, но то был бог Один.
Тот наверняка знал об Ингваровых догадках, хотя Ингвар в мыслях продолжал называть его стариком. С черт лица, прорисовывавшихся в провале капюшона, уходила нечеловеческая переменчивость. На месте мёртвого глаза показалась пустая дырка.
Ингвар спросил в третий раз – уже с близким к смиренному почтению уважением:
«Куда мы плывём?»
Старик положил четыре пальца на его вздувшийся от напряжения кулак, немного подержал, и Ингвар с облегчением отпустил вёсла. После пальцев старика на коже осталось странное сухое тепло.
«В Место-С-Множеством-Имён», – ответил Один.
Длинное слово из праязыка, появившись в голове, рассыпалось на несколько простых и понятных. Ингвар всё же переспросил:
«Куда?»
Старик распрямил просторный рукав, указав за спину Ингвара.
Туман перестраивался в проход с призрачными колоннами и стенами, в конце которых влажной чернотой наливался массив суши – и становились различимы побережные камни, исполинские корневища между ними и лес поверху.
Ингвар вскочил, хрустнув коленями. Он уже не мог не представлять, как ищет пресный родник, ведь слюны во рту даже на плевок не осталось. В скалах наверняка найдутся птичьи яйца, хотя гама гагар или чаек не слышалось – остров восставал в безмолвии. Камни были чистыми, без белых подтёков. Что ж, тогда он поищет грибы с ягодами. Клюкву, бруснику, а если попадётся дикая яблоня или рябина…
«Рябина там есть, – Старик назвал имя, слово на праязыке: – Листья-Золотые-Ягоды-Алые».
Ингвар не отрывал взгляда от ритмично шевелившихся на острове деревьев. Чем дольше он всматривался, тем отчётливее на них рдели скопления пятнышек, похожие на гроздья рябины.