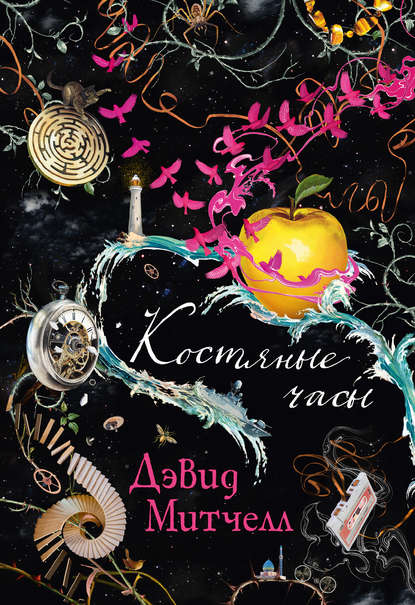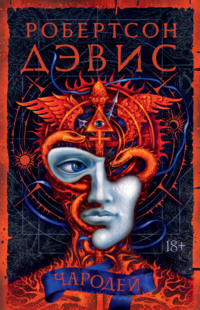Полная версия
Убивство и неупокоенные духи
Простоват. Чересчур доволен собой. Только теперь до меня дошло.
И вот я изгнан из жизни – несомненно, прежде срока. Нюхач украл у меня, по всей вероятности, лет тридцать или сорок. Я никогда не был восторженным созданием, восклицающим: «Как страстно я люблю жизнь!», но, без сомнения, глубоко, хоть и несколько банально, ею наслаждался и не хотел потерять ни единого дня из отпущенных мне. Глупец! Мою жизнь и мой брак разрушил Гоинг циничным и пошлым вторжением, и надо сказать, что Эсме здесь тоже не безвинна.
Глупец! И теперь, когда я вижу, что вел себя глупо, моя ненависть к Гоингу от этого нисколько не убывает. Честно сказать, только растет.
(11)
Мы с Хью часто говорили о браке, и я поддразнивал его за холостячество. Он отвечал:
– Если человек претендует на звание философа, как со всем смирением претендую я, он знает, что философы не женятся; а если философ женат, то его жена – тиранка или рабыня. Я не хочу порабощать женщину, ибо это недостойно просвещенного мыслителя, а жить с тиранкой определенно не желаю. Считается, что в наше время на брак смотрят цинично. Популярные пророки предвещают этому общественному институту скорую гибель. Но я слишком сильно уважаю брак, чтобы относиться к нему легкомысленно. Кроме того, я страшусь, что моя собственная Женщина меня предаст.
– Какая еще женщина? Ты что, прячешь от нас какую-нибудь шотландскую красотку? Ну-ка, рассказывай. Что это за дама сердца?
– Нет-нет, ты не понял. Слушай. В каждой супружеской паре не два, а четыре человека. Двое стоят у алтаря, или перед клерком муниципалитета, или кто там скрепляет их брак; но с ними незримо присутствуют еще двое, столь же или, возможно, даже более важные. Это Женщина, скрытая в Мужчине, и Мужчина, скрытый в Женщине. Таков брачный квартет, и тот, кто его не понимает, глуповат или напрашивается на неприятности.
– Это что, опять какая-нибудь восточная философия?
– Нет, ничего общего. Это не фантазия, а физиология. Даже ты не можешь не знать, что у любого мужчины есть запас женских генов, а у любой женщины – та или иная доля мужских, возможно – весьма существенная. Разве не обоснованно – предположить, что эти гены, численно уступающие, но не обязательно менее важные, рано или поздно заявят о себе?
– Да ладно, Хью! Ты хватил через край.
– Ничего подобного. Ты проницательный человек. Разве не бывает у тебя моментов, когда ты, как никогда, хорошо понимаешь Эсме или необыкновенно терпелив с нею? А может, во время ссоры ведешь себя капельку истерично и сварливо, то есть проявляешь полную противоположность мудрости и милосердию? А теперь посмотрим на Эсме и на ее внушительную карьеру. Ты в самом деле думаешь, что она никогда не прибегает к силам, поддерживающим ее в трудный час и помогающим переносить то, что без них она бы не вынесла? Или – я не хочу допытываться о подробностях вашего брака, но разве она не бывает временами необычно груба? И не пытается ли она порой взять над тобой верх? Подумай, подумай хорошенько. Если за все время своего брака ты так и не догадался о существовании этих двоих, живущих вместе с вами – с вами и в вас… нет, я не готов поверить, что ваш брак был настолько примитивен.
– А что ты имел виду, говоря, что боишься собственной Женщины?
– У меня в душе таится мягкость, и это может превратить меня в раба, если обстоятельства сложатся определенным образом. Или в огрызающегося, безобразного дьявола, чей дом – Ад. Так ведет себя женское чувство в мужчине, когда оно испорчено. Я еще не встречал женщины, согласной за меня выйти, которую я мог бы допустить в один дом и в одну кровать со своей собственной Женщиной.
– Тебя послушать, так брак еще более трудная штука, чем пугают семейные консультанты.
– Конечно трудная, дятел ты этакий! Слишком многие доверяются любви, а она – худший из наставников. Брак – игра не для простаков. Любовь – лишь джокер в ее колоде.
(12)
Стоит ли вспоминать сейчас эти разговоры с Хью? Да, стоит, как ни мучительно мне думать о своем тогдашнем легкомысленном к ним отношении. Я видел в них лишь средство развлечься, передохнуть от бесчисленных текстов, принадлежащих перу критиков и комментаторов, большинство из которых, как мне казалось, пишут не то и не о том.
Я очень многое помню из этих разговоров. Сейчас – даже яснее, чем при жизни. Теперь мне вспоминается кое-что, выкопанное Хью в поглощаемых им бесконечных объемах литературы о духовных материях и жизни после смерти. Он сказал, что в Бхагавадгите определенно утверждается: после смерти человек принимает состояние, о котором размышлял в момент кончины, и потому умирающим следует тщательно контролировать свои мысли. Как обычно, Хью рассуждал пространно и не слишком внятно. Он заговорил о последних словах великих людей:
– Как звали того англичанина, государственного мужа, который на смертном одре воскликнул: «Моя страна! Как же я оставлю свою страну!»? Кто это был – Питт? Или Бэрк? Но кто-то еще утверждает, что он произнес: «Я бы сейчас съел пирог с телятиной от Беллами». Какова же его загробная судьба? Восхитительные размышления об истории Англии или вечное пожирание пирогов с телятиной? Если Бхагавадгита не врет, следует быть очень осторожным в предсмертных словах и даже мыслях.
Моими последними словами было удивленное и насмешливое восклицание, обращенное к жене: «Боже, Эсме, с кем угодно, только не с Нюхачом!» Не слишком содержательно. Но за миг до того я обдумывал проблему, связанную с газетной работой: в Торонто скоро начнется масштабный и престижный кинофестиваль, а наш лучший кинокритик уволился месяц назад, перейдя в какой-то университет читать лекции будущим киношникам. (Помогай бог этим несчастным студентам: наш бывший сотрудник знал очень мало о чем бы то ни было, а его рецензии на фильмы содержали в основном выплеск эмоций.) Кто же будет писать о самых важных фильмах из тех, что покажут на фестивале? Этим решил заняться Нюхач, о чем и уведомил меня весьма оскорбительным тоном, будто напоминая забывчивому ребенку о некой само собой разумеющейся обязанности. Делая последний шаг через порог спальни, я как раз решил дать добро Нюхачу: не потому, что доверял его вкусам в кинематографии, но потому, что не видел лучшего выхода из создавшегося положения. Но я твердо решил посмотреть эти фильмы и сам.
Обычная редакторская проблема. Меня поставили во главе отдела культуры «Голоса», потому что я был хорошим критиком. Точнее, хорошим с точки зрения читателей, ибо им нравилось то, что я писал. Это традиционная ошибка управленцев: если человек делает свою работу хорошо, надо снять его с этой работы и назначить руководителем, к чему у него нет ни желания, ни способностей. Я всегда любил все относящееся к театру – отдыхал душой на представлениях и писал о них с огромным удовольствием. Да, драматический театр; несомненно, опера; даже телевидению нашлось место в моем сердце. Но кино я просто обожал, хоть и не по тем мотивам, которые движут большинством кинокритиков: меня не слишком интересовали технические подробности съемок, хотя я много о них знал; я никогда не считал киноактеров настоящими актерами, поскольку работа в кино не задействует актерский талант в полной мере – киноактера создают режиссеры и кинооператоры. Я очень бережно относился к сценаристам, зная, как мало ценят этих несчастных в мире кино. Но подлинно восхищался редкими, по-настоящему великими режиссерами: они – художники, работающие с особо неподатливыми изобразительными средствами. И когда у них случалась творческая удача, она дарила мне потрясающие сны. Они отражали не грубую реальность, худосочную комедию или трагедию, измышленную глупцом, но нечто лежащее за пределами наблюдаемого обыденного мира, мира ежедневных газет и клубных сплетен. Эти сны повествовали о важном – не рубленым слогом официальных документов, но языком загадок, двусмысленностей и недомолвок.
Входя в кинотеатр, чтобы увидеть творение одного из великих, я чувствовал, что полутьма и гулкий зрительный зал говорят о мире фантасмагорий, о пещере снов; я знал, что все это – часть моей жизни, но такая, что коснуться ее можно только во сне или в грезах наяву. А кино могло открыть мне дверь туда; поэтому оно играло в моей жизни важную роль, которую я никогда не пытался определить точно – опасаясь, что слишком четкое определение повредит тонкую материю снов[2].
Поэтому я, конечно же, хотел бы сам посещать фестиваль и писать рецензии о замечательных фильмах, извлеченных из богатейших архивов, – их показ составляет немаловажную часть программы. Увы! Как редактор я обязан был играть по правилам. Нельзя все лучшие задания забирать себе; но в данном случае отсутствие штатного кинокритика сильно искушало меня так и поступить. Придется дать волю Нюхачу, чтоб он провалился!
Но я все равно побываю на фестивале. Обязательно побываю. В памяти всплывает любимая цитата моего отца:
Душа, на сцену вдумчиво гляди,Дождись финала… тум-тум-тум-тум-тум…Здесь каждый новый день… тум-тум-тум-тум…Тум-тум-тум-тум… и что-то там еще[3].Я не помню ее дословно, но обещаю терпеливо дождаться финала.
Предположим, что Макуэри был прав. Точнее, предположим, что Бхагавадгита говорит правду. Неужели мне суждено провести вечность на бесконечном киносеансе, рядом с Нюхачом, вынюхивающим «влияния»?
Вот это в самом деле будет ад – или, по крайней мере, чистилище страшней любого из тех, о которых рассуждал Макуэри. Вечность за просмотром обожаемых фильмов – вместе с человеком, который, насколько я знаю, воспринимает их мелко, эгоистично и глупо? Более того, вместе с человеком, который меня убил. Возможно ли? Заслужил ли я это?
Меня грубо перевели (в прямом смысле этого слова) в иную плоскость существования, в обход нормальной смерти. Смогу ли я вынести то, что меня ждет? Но у меня нет выбора. Перевод, сделанный с нарушением прав, всегда подозрителен по качеству.
II
Восставший Каин
(1)
Кинофестиваль предназначался для киноманов всех мастей и должен был занимать их целую неделю. Намечался просмотр фильмов со всего света, а также вручение призов, наград и оглашение имен победителей, чтобы привлечь лучших и вдохновить самых честолюбивых. Не совсем обычным моментом программы был показ старых фильмов – кинематографических шедевров, которые мало кто видел, а также фильмов, когда-либо запрещенных по той или иной причине. Организаторы фестиваля обыскали великие киноархивы и уговорили их владельцев выдать драгоценные бобины из банковских сейфов. Московская школа кино, парижская Cinématique Française, берлинский Reichsfilmarchiv вынудили у организаторов всевозможные гарантии, что с редчайшими хрупкими целлюлозными пленками будут обращаться бережно, как они того заслуживают. Руководство фестиваля заверило публику, что ей покажут коллекцию забытых и репрессированных фильмов, не имеющую себе равных. Каждый из этих фильмов – шедевр, и те, кто считает кино великой формой искусства XX века, обязаны смотреть их затаив дыхание и вглядываясь в каждую деталь. Программа фестиваля и без того была обширной и дорогой, но эта коллекция вновь обретенных сокровищ играла центральную роль; для нее приберегалось место на газетных полосах и особо выразительные эпитеты.
Именно эта часть фестиваля больше всего влекла Нюхача, поскольку в ней, конечно, можно будет накопать кучу «влияний», а также давних несправедливостей, когда изобретение того или иного кинематографического приема приписывают другому человеку; Нюхач обожает указывать на подобные ошибки.
Торжественная церемония открытия, на которую я попал как тень Гоинга, была примерно такой, как я и ожидал. Она проходила в огромном закрытом помещении в одном из лучших отелей Торонто; это помещение нельзя было назвать комнатой, поскольку в ней не было центра, фокуса, который притягивал бы к себе внимание; не было оно также и залом, поскольку его архитектура не направляла все взгляды в определенную сторону. Это был просто огромный отсек с ковролином на полу, без окон, ничего общего не имеющий ни с природой, ни с искусством и отчасти похожий на сумрачную пещеру, несмотря на мириады электрических ламп. В помещение вел длинный коридор вроде туннеля, увешанный современными гобеленами, с которых свисали массивные клочья пряжи, словно их поднял на рога и вспорол бешеный бык. Еще в это огромное пространство можно было войти через почти невидимые двери, сквозь которые сновали официанты и официантки с подносами угощений, напоминающих россыпи драгоценных камней – работа искусников, посвятивших свои дни созданию этой недолговечной красоты. Хотя помещение вентилировалось машинами, которые закачивали и выкачивали воздух, оно хранило память обо всех предыдущих мероприятиях – смесь запахов еды и женских духов.
Фестиваль проходил под покровительством лейтенанта-губернатора провинции Онтарио; поскольку под эгидой лейтенанта-губернатора было множество масштабных и достойных начинаний, не следовало ожидать от него знания предмета; он лишь должен был почтить мероприятие своим присутствием, выступив в роли распорядителя на торжественном вечере, устроенном правительством Онтарио в честь фестиваля. Лейтенант-губернатор исполнил свой долг, выразительно транслируя вице-королевскую благосклонность к подданным; он приветствовал людей, которых знал слабо или совсем не знал, с теплотой, приличествующей его сану. Он держался подчеркнуто демократично, но снующие вокруг адъютанты в форме и его торжественный вход не оставляли сомнений: он действительно важная персона, хоть и занял свое место по волеизъявлению народа (то есть, в данном случае, нынешнего правительства). Его высокое положение необычно, ибо он, хоть и утверждается на посту народом, в первую очередь выступает как представитель королевы. Премьер-министр провинции не присутствовал на вечере, поскольку вынужден был сейчас находиться в трехстах километрах отсюда, покоряя сердца избирателей в преддверии важных дополнительных выборов. Зато приехала его супруга; она держалась в высшей степени милостиво и благосклонно, но тоже вела себя подчеркнуто демократично. Местные вина и особенно шампанское производства Онтарио текли рекой и поглощались в объемах, приличествующих случаю. Эти вина тоже были демократичны, без единого намека на элитизм. Собравшиеся блистали в вечерних туалетах; кавалеры Ордена Канады носили свои эмалевые знаки отличия с гордостью, которая, однако, смягчалась демократичным bonhomie[4]. Они словно говорили: «Я ношу орден, раз уж меня им удостоили, но прекрасно знаю, сколь многие заслуживают этой высокой награды больше, чем моя ничтожная личность».
В общем, это было типично канадское празднество, на котором остатки монархической системы борются со стремлением доказать, что в конечном итоге ни один человек не лучше и не хуже любого другого. Подобные трения неизбежны для страны, которая, по сути, представляет собой социалистическую монархию и твердо намерена добиться толку от этого строя; и надо заметить, что цель достигается на удивление успешно, ибо умы одобряют демократическое равенство, а монархия между тем укоренена в сердцах.
Но презреть вообще всякие чины и звания – не в человеческой природе. Лейтенант-губернатор с супругой взвалили на себя тяжелую задачу – смешать разнородную аудиторию в единую массу любителей кино, пылающих энтузиазмом; однако они, как ни старались, не смогли объединить светских львов, богачей и интеллигенцию в гомогенный бульон. Там и сям попадались парочки, в которых одна половина была знаменита, а другая – богата. Эти излучали особую уверенность. Но попадались также большие шишки и богатеи, которые неуверенно озирались: они знали, что на светском мероприятии положено общаться, но не очень понимали как. Что же касается интеллигенции, представленной в основном кинокритиками, она в большинстве своем окопалась у баров, иногда с явным презрением оглядывая прочих собравшихся. Интеллектуальная элита не признает демократии.
Гоинг не тушевался. В конце концов, он занимал высокое положение в обществе как потомок одной из знатных семей; его окружала нимбом слава сэра Элюреда, покойного колониального правителя. Богатым Гоинг не был, но водил знакомство с богачами, причем со «старыми деньгами», а не какими-нибудь нуворишами. Несомненно (и весьма демонстративно), он принадлежал к интеллигенции, ибо разве важнейшая газета Канады не поручила ему просветить читателей на предмет того, что заслуживает и что не заслуживает их внимания? Хоть орденом он похвалиться и не мог, зато у него была трость, сама по себе знак отличия, и почти все присутствующие знали, что это – его скипетр критика, который, конечно, ни в коем случае не может быть оставлен в гардеробе. Все это отражалось и в костюме Гоинга – отлично сидящем, элегантном, от первоклассного портного.
Гоинг единственный из всех критиков явился в смокинге. Остальная газетная братия презирала подобное тщеславие и была одета как попало: от неопрятных водолазок и вельветовых штанов до твидовых пиджаков с фланелевыми брюками. Одна женщина из большой популистской газеты пришла в засаленном пуловере с яркими поперечными полосами, которые отнюдь ее не стройнили (в любом случае безнадежная задача), но это было не важно, так как ее мнение считалось весомым; она созерцала практически все вокруг со злобным отвращением.
Так я попал на гала-церемонию открытия фестиваля; впрочем, я был невидим и мое присутствие не стоило правительству ни гроша, поскольку есть и пить я все равно уже не мог. Зато мог наблюдать Гоинга во всем блеске. Точнее, был вынужден наблюдать. Как говорил когда-то Макуэри и как я теперь с огорчением вспомнил, я не настолько свободен, насколько ожидал, а напротив, привязан к Гоингу; я не знал, сколько времени это будет продолжаться.
И впрямь, мое восприятие времени стремительно менялось. Как нас часто уверяют и как мы часто забываем, время – понятие относительное. Но если я прикован к Гоингу – до какой степени он прикован ко мне?
(2)
Может, это и есть ужас смерти – одиночество, что затапливает меня, пока я жду… жду… жду, все меньше чувствуя ход времени, каким его знают живые, и все сильнее ощущая объемлющую меня плерому? Я обитаю в мире людей, но пока ни разу не встретил подобных себе, с которыми мог бы поговорить, от которых мог бы ждать совета или сочувствия. Может быть, это такое испытание? Возможно ли, что ничего другого у меня не будет… даже боюсь предполагать, как долго? Каков бы ни был ответ, я вынужден делать то, что вынужден; а сейчас я должен идти в кино со своим убийцей.
(3)
Сейчас утренний сеанс; на часах Гоинга без пяти одиннадцать. Я вхожу вместе с ним в кинотеатр, где будут показывать особо драгоценные, редкие фильмы. Фестиваль проходит в нескольких кинотеатрах, и этот – самый маленький из них, так как ожидается, что фильмы, представляющие только исторический интерес, соберут меньше всего зрителей. Как уныл кинозал в это время дня! Он освещен ровно настолько, чтобы зрители могли найти кресла; полумрак приводит зрителей в подавленное настроение и отбивает у них охоту болтать. Кинозал заполнен примерно на треть. Он отдает чем-то почти священным, как зал для прощания с телом покойного. В нем воняет детьми, грязными носками и застарелым попкорном. Стены выкрашены в цвет, который когда-то называли «цветом увядшей розы». Есть ли у него в наши дни название иное, чем «грязно-розовый»? В передней части зала, куда можно спуститься по слегка наклонной плоскости, – нечто напоминающее сцену, но очень отдаленно, хоть и украшенное жиденьким бархатным занавесом; он обрамляет то, что можно было бы назвать просцениумом, если бы за ним лежала какая-нибудь сцена. Кинотеатры любят маскироваться под театры, но эта имитация жалка и неубедительна; так изготовители автомобилей никак не могут отделаться от призраков изящных экипажей XIX века. Когда Гоинг вошел в это унылое место, несколько других кинокритиков взглянули на него, не кивнув и не улыбнувшись. Не из-за вражды, но по обычаю их ремесла; хирурги тоже не пожимают друг другу рук в операционной.
Должны были показывать фильм «Дух 76-го», снятый в 1917 году в США неким Робертом Голдстейном, который за свои труды получил только десять лет тюрьмы по закону о шпионаже. Но почему? Фильм был отчаянно антибританским, и режиссеру не посчастливилось выпустить его как раз тогда, когда Соединенные Штаты вступили в Первую мировую войну как союзник Британии. Фильм был запрещен, и то, что организаторам фестиваля удалось его откопать, – большое достижение. Будет ли он сочтен политически неблагонадежным сегодня? Очень маловероятно.
Поскольку фильм был немой, за пианино перед экраном села женщина, сняла с пальцев кольца и осторожно разложила сбоку от клавиатуры, скомкала носовой платок, положила сверху на кольца и, как только по экрану заскользили тени, заиграла; она играла без перерыва до самого конца фильма. Она оказалась умелой тапершей и передавала все настроения фильма – от мрачности до веселья, от живости до суровости – не прерываясь на переключение передач. Она хорошо чувствовала историю: все, что она играла, было написано не позднее 1917 года. Она также обладала чувством соразмерности: например, «Сердца и цветы» она исполнила так, как исполнял бы человек, живущий в 1917 году, – без насмешки, без снисходительного отношения к людям прошлого. У нее был пышный стиль исполнения, можно сказать – нецеломудренный; она рассыпала арпеджио, как конфетти. В своем амплуа она была выдающейся артисткой. Вероятно, среди женщин, работавших таперами в эпоху немого кино, встречалось много таких талантов.
Я подробно рассказываю про ее выступление, хотя воспринимал его лишь урывками. Ведь почти сразу, как только начался фильм и на экране возникли зернистые очертания актеров, одетых по моде приблизительно конца восемнадцатого столетия, жестикулирующих и беззвучно двигающих губами, разыгрывающих некую бурную драму, я понял, что смотрю нечто совершенно иное. Смотрю и слушаю, поскольку мой фильм – мой личный фильм – сопровождался оркестровой музыкой, весьма утонченной и современной по характеру; изображение было четким и убедительным; мои актеры – если это были актеры – говорили вслух. Я понимал их не сразу, и для этого мне приходилось делать усилие: они говорили на английском языке, но на американском английском времен Войны за независимость, его мелодика и акцент были мне незнакомы. Фильм потрясал; посмотри я его при жизни, я был бы в восторге. Но сейчас я испугался.
А что же видит Гоинг? Он царапал в блокноте на коленке какие-то заметки; судя по тому, что мне удалось разглядеть, они не имели отношения к моему фильму. Совсем никакого. То, что смотрел я, было жизнью – странной, но, несомненно, жизнью; я с трудом понимал происходящее, но смутно чувствовал, что эти события для меня чрезвычайно важны.
(4)
Видел я Нью-Йорк – такой, каким он был в 1775 году. Или в 1774-м? Я точно не знал. Но это несомненно был Нью-Йорк; Джон-стрит, застроенная респектабельными, но не роскошными домами. Насколько я понял, здесь обитал средний класс: лавочники, юристы, врачи и им подобные. В том доме, на который сейчас было обращено мое внимание, жил военный. Вот он, уверенный и подтянутый, в форме офицера британской армии, спускается по надраенным песком ступеням своего дома на освещенную солнцем улицу. Он идет, и штатские соседи здороваются с ним: «Доброе утро, майор Гейдж! Прекрасная погода сегодня, майор!» Он шагал осанисто, не маршируя, но сохраняя военную выправку, – человек, гордый делом своей жизни. Из окон его собственного дома ему помахала девочка, и он четко отсалютовал ей; явно привычная маленькая шутка между отцом и дочерью. Приветствующим его прохожим он отвечал не то чтобы салютом – просто поднимал руку в перчатке к переднему углу треуголки, размещенному точно над левым глазом. Приятный человек. Хороший сосед. Делает честь району, в котором живет.
Экран почернел на миг, и на нем появилось другое изображение: намек, что прошло какое-то время; кажется, киношники называют этот прием «вытеснение шторкой». Музыка заговорила о том, что изменились обстоятельства, пришло ненастье, наступила осень. Я опять увидел майора, который спускался по ступенькам своего крыльца. Лицо его посуровело, и понятно почему: к нему бежала кучка уличных мальчишек с криками: «Красная жопа! Красножопый тори!» Когда шайка пробегала мимо, один мальчишка обернулся и швырнул в майора ком грязи, оставив пятно на спине красного мундира. Девочка в окне скрылась, явно испуганная. Майор, не дрогнув, двинулся дальше, и на этот раз в его поступи было что-то от военного марша.
Сцена опять сменилась, и я оказался в доме майора, за семейным ужином. Ужин хороший, и подают его две чернокожие служанки, но они не рабыни, а что-то вроде временно крепостных. Девочка, средняя из трех детей, с некоторой робостью спрашивает отца, что означает ругательство, слышанное утром. «Совершенно ничего, милая. Оно не имеет смысла. Мальчишки, оборванцы из трущоб, наслушались глупостей от смутьянов. Дочь солдата должна понимать, что всякие жулики не любят ее отца: они боятся закона и армии. Солдат не должен обращать внимания на всякий сброд. Попадись они мне еще раз, пускай берегутся моей уставной трости».