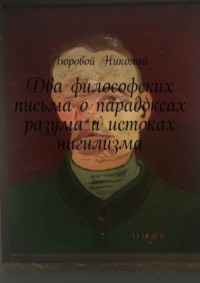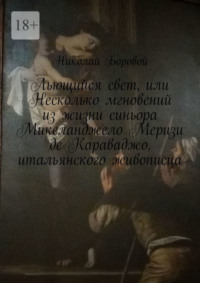Полная версия
ВНАЧАЛЕ БЫЛА ЛЮБОВЬ. Философско-исторический роман по канве событий Холокоста. Том II. Часть III и IV (Главы I-XI)
…Он грубее и гораздо проще душой, как сам себя знает, нравственно цельнее… ему чем всё это, правда – лучше продолжать прозябать главой провинциального «гестапо», талантливо и честно исполняя долг, быть может не зная продвижения и достижения заветной мечты, но зато оставаясь так самим собой. Да – от природы грубоватым душой, еще более очерствевшим в деле и исполнении долга (иначе он вообще не смог бы служить!), но зато настоящим, нравственно цельным, верным нации и долгу, воле Фюрера немцем, достоинство и значение которого нерушимо… Да иногда кажется, чем всё это и настолько глупо, зря рисковать, предавать долг и ходить по лезвию бритвы, подвергать опасности имя, путь и судьбу, быть к этому попросту вынужденным – так даже мерзнуть и прозябать в осенней слякоти по деревням, мотаясь с айнзацкомандой, черт знает что есть и непонятно где и на чем спать, ругаться промозглым утром на берегу Сана, перегоняя евреев к русским и то лучше. Он не зря так думает. Для него служить и беспрекословно подчиняться долгу – вся жизнь, сама суть его жизни и пути. Он иногда очень ясно чувствует, что никак иначе жить бы не смог. А подобное… грязь, неотделимая от системы и дела, да… И предательство, которое по большому счету нужно безжалостно искоренять, ибо оно очень опасно и однажды, лишь дай волю, способно всеобщую сплоченность, преданность делу и долгу погубить. И конечно – бывает неумолимая необходимость судьбы и хорошо знакомые в собственной душе искушения, перед которыми он пока умеет умно и сурово устоять. А тут это всё затевается, вовсю бурлит и пестуется – вместе со служением долгу, но одновременно будучи предательством и часто заставляя самыми прямыми целями долга пренебрегать. Словно только для этих целей, для возможности «бонз» и провинциальных выслуг и карьеристов нажиться на черный день, немецкая воля победоносно пришла в Польшу и раздробила, искромсала и растоптала ее. И он оказывается в мучительном положении – закрывать глаза долго не выйдет, примириться он не сумеет, а прямо против «сверху» благословляемых порядков и нравов не полезешь. И всё это часто – вместе с масками «утонченности» и «наслаждения высоким», которые заставляют или по крайней мере: настойчиво побуждают надевать и его… Мол, и «прирастет», перестанет ощущать тягость и скуку, и высшему начальству придется «своим», а для его должности и чина в генерал-губернаторстве это важно… А он к такому душой не лежит и вынужден подыгрывать, но при этом же тушеваться, испытывать стеснение и в конце концов себя, образцового человека долга и служаку, настоящего именно в самой сути немца, собственное достоинство и значение унижать…
…Оберштурмбаннфюреру уже даже хочется услышать музыку, ради которой его сюда притащили. Чтобы наконец-то закончились шутки, умные и не очень, лицемерные любезности и прочее, все расселись и появилась пианистка, которую так рвался послушать Зейс-Инкварт… Он со смехом подмечает в себе подобное желание и нетерпение. Однако, его старшие коллеги, как он убеждается этим вечером, любят именно всё вместе – расслабленное общение в избранном кругу, пересуды и смакование новостей или чьих-нибудь острот, неторопливое наслаждение атмосферой и в конце, как изюминка и повод для взрыва эмоций, любимая ими музыка. Он и сам ощущает сегодня нечто подобное, от этого в первую очередь и получает удовольствие. Вся беда, что нужно вправду любить – музыку, утонченное и «накоротке» общение с вышестоящими, которое в обычных обстоятельствах жизни и службы возможно редко… Он сегодня чем-то таким проникается, особенно – благодаря искреннему расположению коллег, которые доброжелательно вводят его в свой «избранный», приверженный высоким вкусам и радостям круг, раскрывают ему объятия, так сказать… В очередной раз тщательно приглядываясь к нему из под расплывшихся улыбок… Черт его знает, может и вправду станет на таких «сабантуях» завсегдатаем, войдет во вкус… Даже научится расслабляться среди тех, настоящего доверия к кому пока нет и возможно так и не возникнет. Но он практик, черт раздери, человек дела с закатанными рукавами. И любит дело именно со всеми ямами дерьма и крови, которые от того неотделимы. О, среди тех, кто диктует и провозглашает долг всех и каждого, редкие знают, что же на самом деле значит беззаветно и преданно исполнять долг, чего это может очень конкретно, практически потребовать! И какую величественную, по настоящему возвышенную жертву приносят люди, которые соприкасаются с практикой дела и долга лицом к лицу, конкретными вещами! Служат долгу «на передовой», так сказать, а не с трибун и в кабинетах! А он именно этим и живет – любя службу, гордясь успехами и собой. Особенно же уважает себя и гордится, ощущает его нерушимое нравственное значение, когда понимает, на что во имя нее способен. Он и подобные ему – основа всего, общего дела и успеха, на них всё стоит, лишь благодаря их жертвенной преданности великие цели и замыслы Фюрера вообще становятся возможными! Да-да, только благодаря их возвышенной и жертвенной готовности во имя дела и долга на то, что большинству обычных немцев, пусть даже преданных нации и Фюреру, не по силам! Он множество раз говорил это себе. Он таков и должен не стесняться, а именно нравственно ценить и уважать себя, бесконечно. И так это конечно и есть, особенно – когда нравственное величие в безраздельной преданности делу и долгу, удается сочетать с настоящим вдохновением, нахождением блистательных путей к цели, совершением чего-то легендарного! О, это мгновения истинного счастья и чувства, что живешь, убиваешь и мучишь, рьяно служишь делу и быть может вскорости сам ради него умрешь не напрасно! Но когда он вспоминает, что с преданностью и без колебаний делает изо дня в день ради долга и службы, то вместе с уважением к себе ощущает словно бы неуместность, странность его присутствия здесь. О сути долга и дела, что же они вправду значат, он знает собственными руками, нравственно целен и уважает себя в этом. И оттого не понимает, как можно надевать на себя все эти мины упоения «высоким» и «прекрасным» или же, что кажется еще хуже, вправду искренне восторгаться. Часто от такого просто тошнит. Да и холоден он ко всему этому, равнодушен. Он во имя дела и долга погружает руки в кровь, по локоть и давно уже безо всяких колебаний, но именно этим по настоящему высок, достоен и годен! В его настоящем, а не кабинетном служении долгу, он поглощен и увлечен обычно совершенно другим. И в мечтах о теплой и искренней компании, о душевном общении, ему бы именно о деле поговорить, о работе! О том, что по ходу службы постигаешь, учишь. Об открываемом в ее опыте – о, там такие вещи подчас вылазят! Обо всем, что в работе удалось и принесло пользу! Вот разговором бы об этом душу погреть, о насущном и вправду важном! А такого нет. Однако, иногда всё же наоборот – его способность «выстоять» и оказаться к месту на совсем ином уровне общения, внимание и искреннее уважение к нему людей, которые с практикой дела лицом к лицу не знакомы, но зато вправду ощущают и понимают ему недоступное, важно и льстит ему, греет ему душу. Вот как нынешним вечером. Отлично уже одно то, что он сегодня чувствует себя здесь «своим», принятым и уважаемым, «в своей тарелке». Оказывается достоен и даже в избытке находит в себе для этого нужное. «Только вот навряд ли переменится его отношение к музыке!» – при мыслях об этом оберштурмбаннфюрер ухмыляется. Он каков есть. Он настоящий и цельный душой немец, потому что служа долгу и делая ради этого чуть ли не последнее, не зная на подобном пути преград, ничего не изображает и принимает себя, каков он есть, вот именно такого себя ценит, уважает и любит, ощущает значимым. По крайней мере – в его преданности долгу и способности, если нужно, на жестокость мер, призванных долг выполнить, по уши окунаться ради этого в грязь, ни чуть вместе с тем не дрогнув, не заколебавшись и не постеснявшись, он гораздо более настоящий немец, нежели подобные Инкварту: марающиеся во имя дела в крови еще страшнее, хоть и не собственными руками, но зато поглядите, сыплющие разговорами об «утонченных» и «высоких» предметах и млеющие от звуков, в которых он, говоря честно, иногда не слышит ничего, кроме назойливого и утомляющего шума. Точно – ничего, способного его затронуть, заинтриговать, привлечь внимание если не до увлеченности и восторга, то хотя бы до обычного интереса. Он бывает стушевывается перед старшими коллегами, чувствуя недоступность ему их вкусов, а иногда считает именно так. Оберштурмбаннфюрер заканчивает небольшой, отличного хрусталя бокал со шнапсом. Что значит немецкий шнапс – наслаждение и душевная легкость, а ум кристально ясен и работает четко! Да и пора уже, нужно возвращаться в компанию, а то всё сегодня достигнутое рухнет прахом и за ним и вправду, со всей безнадежностью укрепится репутация истинного немца, талантливого человека долга и дела, но при этом грубого и почти нелюдимого медведя, которому в обществе «сливок» и высших чинов места нет, как не тяни за уши и не открывай объятия. А он именно человек дела. Он любит дело и службу, делать дело умеет отлично и подчас вдохновеннее всех этих артистов, служителей муз и «высокого», а по сути – таких же клопов и червей, как очкатые университетские профессора, встречавшиеся ему по работе во множестве: шикни не слишком громко, и вполне хватит, а обвести вокруг пальца, использовать так и эдак для цели, приведя в конце в яму, вообще никаких проблем нет. Он ради долга и дела погружается в грязь, совершает страшные вещи именно с тем чувством, что никак иначе нельзя и такова главная обязанность. Часто – с нравственным удовлетворением, ибо именно так доказывает себе и другим преданность долгу до конца. И значит – его высшую годность и значимость. А потому – ни связанной с этим грязи и крови, ни его природной и лишь укрепившейся в судьбе душевной грубости не стесняется. По крайней мере, старается. Он без остатка верен долгу, служение которому – вся его жизнь. Он умеет делать для этого что угодно и надлежащим образом груб, ибо иначе не выйдет, вообще грубоват, да… Однако, немец может быть настоящим сыном нации и солдатом Фюрера только так или же – в первую очередь так. А остальное…
…Он в отношении к себе трезв и честен, но от этого уважает себя, ценит себя и ощущает собственное значение ни чуть не меньше! Он служака и человек долга, грубый душой, подчас безжалостный и жестокий, ибо никак иначе нельзя, но в деле и исполнении долга он талантлив, на любом доверенном ему месте полезен и стоит дорого. На таких как он стоит всё, благодаря им и их беззаветной преданности делу возможны успехи, которые ныне так окрыляют и вскорости обещают поразить, содрогнуть и повергнуть во прах врагов. И то, что он, в отличие от его многочисленных шефов и «бонз», безразличен к музыке и остальным «утонченным» вкусам и забавам, хоть и заставляет его временами тушеваться и чувствовать себя неуютно, но чаще возмущает, раздражает, ибо его значения и достоинства как человека долга и истинного сына нации умалять не должно. Он таков – и что? Именно такой, он – настоящий немец и человек долга, в отличие от многих, вышестоящих и более «тонких душой», долгу верен и в службе, в исполнении оного, словно артист подчас талантлив и блестящ. Любое задание и приказ умеет воплотить кому угодно на зависть, заставив как часы повиноваться сотни людей и нанося врагу безжалостный, сокрушительный удар, так из года в год зарабатывая имя и становясь легендой, но главное – стараясь походить в этом на Фюрера и следовать заветам, который тот обращает с трибун к каждому. И если у немца есть путь быть истинным сыном нации, то в первую очередь и именно так – будучи верным и преданным долгу, нации и ее делу, воле Фюрера безгранично, служа им множеством конкретных и часто тяжелых вещей, целиком отдавая себя. Беккер, которого он еще месяц назад называл в мыслях «хитрым пронырой» и «собакой», однажды давший ему для этого повод, совсем не зря хотел его для акции с профессорами и вообще – удержать при себе. Он был лишь главой провинциально «гестапо», но его служебный талант – талант воли, решительности и преданности долгу, его умение быть в деле безжалостным, хитрым и несломимым, переступающим подчас через что угодно и готовым вцепиться и идти до конца, до полного сокрушения врага и торжества долга, доказал себя даже там. Вплоть до того, что герр группенфюрер Беккер, однажды укравший у него блестящие результаты в акции с подпольем – настоящие, а не придуманные и на бумаге, решил не упустить случая и вновь использовать его, вцепился в него как коршун, не трепыхнешься. Ибо его возможности и таланты в деле знает и конечно же, поверх всех игр в рапортах и отчетах ценит. Злит и радует одновременно. О, он помнит… Он был тогда словно шахматный чемпион умен, хитер, блестящ и вдохновенен, раскрыл настоящую масштабную сеть из коммунистов, бывших университетских профессоров, писак и прочей нечисти, а еще больше врагов сумел грамотно, подводя под Закон приписать к делу! И был доволен и горд собой, по праву ждал награды… Беккер стал тогда группенфюрером, а он, словно ничего особенного и не сделавший, лишь через год был переведен в Вильгельмсхаффен, якобы «на повышение». Однако – и в Вильгельмсхаффене он служил преданно, талантливо и с душой, с удовлетворением от работы и чувства выполняемого «на отлично» долга. И чем наблюдать здешние нравы, служить чьей-то карьере и клацать зубами от злости – из-за этого и отсутствия настоящей работы, тонуть в тоске и скуке, всеобщем лицемерном недоверии, так лучше бы он продолжал делать дело там, искусно и талантливо, его репутацию лишь укрепляя, по прежнему был бы хозяином ситуации и одним из главных лиц округа. Система не безупречна… Очень много дерьма всплывает, только дай волю… Но он хочет служить там, где больше сути и верности долгу, возможности проявить себя и талант, а вынужденности видеть предательство и делишки, но быть лояльным или замешанным, закрывать глаза – менее…
…И вот, он еще потому не любит Краков, что будучи таким – талантливым в службе, как немец и человек долга цельным, на любом месте исключительно полезным для дела, он именно грубоват, музыку и искусство чувствует и понимает мало, вечно пасует из-за этого в общении с высшими по рангу коллегами и вынужден пытаться что-то изображать, надевать маски и в конце концов ощущать себя часто черти чем и чуть ли не унижать собственное достоинство… да-да! Ведь именно таков, каков он есть, он любит и уважает себя, ощущает собственное значение и подстраиваться под кого-то и чьи-нибудь «избранные», непременно должные быть вкусы, пытаться изображать разное и показывать сопричастность вещам, которые ему на самом деле безразличны и чужды, чувствует именно оскорбительным для себя, унизительным! Делает это, и временами быть может даже успешно, ибо развит и вовсе не глуп, но чувствует именно унизительным. Для того, чтобы иметь имя и быть настоящим немцем, вполне достаточно быть просто человеком долга, преданным делу и в нем талантливым, в движении к цели и исполнении долга рьяным, вдохновенным и умным, подчас похожим чуть ли не на художника, находящим всякий раз простые или сложные, но одинаково блестящие, сокрушающие врага решения. Он искренне считает так. И именно в деле, которое любит и делать умеет, что доказал не раз, в отличном исполнении долга ощущает себя художником и виртуозом, настоящим мастером, асом и блестящим игроком, вправду значительным человеком, достойным всего возможного уважения на свете. Да что там – нередко вообще словно бы самой Судьбой, ее орудием и лицом, ее вершителем! Вот тем настоящим немцем и сыном нации, о котором так часто говорят с трибуны Фюрер, доктор Геббельс и многие другие. Именно в этих обстоятельствах и так, а не в концертном зале и млея от музыки, якобы тонко чувствуя то, к чему на самом деле безразличен. И имеет на это право, а если уж совсем честно – искренне считает, что только так и должно быть, ибо верность долгу, талант в деле и служении долгу, талант воли, преданности и действия, есть главный и высший, нравственный талант! И если есть у немца шанс и путь быть настоящим сыном великой нации – то именно так. А на сборищах «сливок» и «бонз» он с давних пор чувствует другое… ощущает себя обязанным испытывать и демонстрировать то, что ему чуждо, возможно – вообще недоступно. Просто недоступно, вот и всё. И потому, хоть вроде бы он ладит с Беккером и многими другими, не раз уже пил якобы дружелюбно с «бонзами», секретарями генерал-губернатора и прочее, он всё равно пока остается здесь словно бы «в стороне», одинок и компании, по настоящему душевного общения не находит, ощущает себя в отношении к старшим коллегам не по рангу, а именно в сути на совершенно ином, гораздо более низком и кажется иногда непреодолимом уровне…
…Однако – сегодня всё совсем иначе. Этим вечером, по множеству причин и из-за необычной уютности, привлекательности места, он чувствует себя хорошо и даже в ударе, не один раз отлично пошутил, обласкан вниманием и расположением коллег, а потому – настроение у него прекрасное. И он полон самых разнообразных, благостных предвкушений. И касающихся дальнейшей службы, подстегнутых уважением Инкварта и остальных. И очень простых – он неожиданно обнаруживает, что при всем давнем скепсисе к музыке и самому себе в качестве слушателя в зале, настроен сегодня всё же попробовать «что-то почувствовать», понять, от чего же собственно остальные так млеют и впадают в экстаз, часто чуть ли не сходу. Он позволил уговорить себя прийти и настроен по крайней мере попытаться разобраться, понять и слушать, хоть заранее знает результат и мысленно посмеивается. Сегодня именно один из тех дней, когда ему кажется, что он «прирастет» в Кракове, найдет способ не тосковать и достойно исполнять здесь долг, по крайней мере – пока не отыщется место получше, более откликающееся заветным мечтам и целям. И вообще – ему просто неожиданно тепло и хорошо здесь. И внезапно хочется расслабиться, отключиться от обычных тревог и мыслей, отставить их в сторону, послать к черту, просто насладиться обстановкой, мгновениями и тем, что они обещают. Отличный вечер, послушаем же и посмотрим. Удовольствие он в любом случае уже получил. И оберштурмбаннфюрер вдруг решает, что слишком уж и совсем не сообразно ситуации позволил себе отдаться пускай и важным, но тяжелым воспоминаниями и мыслям. И вместо них обращается к воспоминаниям прекрасной молодости, затевает удачный обмен шутками с Беккером и Инквартом, а только что бывшие мысли как-то сами собой, словно дымка исчезают, оставляют его…
…Офицеры, числом человек тридцать пять, сами раздвигают столы, выстраивают кружевных контуров стулья рядами, садятся и ждут концерта, смеются и переговариваются о делах. Входит пианистка, но оберштурмбаннфюрер по началу ее не видит, потому что обменивается как ему кажется утонченной шуткой с сидящим справа через Беккера Инквартом – немецкие офицеры здесь хозяева и им решать, как и когда соблюдать приличия, а пианистка или какой-то другой артист пусть делают свое дело. Поэтому разговоры обычно затихают еще долго. Вот и оберштурмбаннфюрер еще уморительно смеется с Инквартом и Беккером над вспомненным из времен университетской молодости венским анекдотом, собирается коротко рассказать еще один, на музыкальную тему, что-то на счет Малера и Шенберга, чтобы словно само собой разумеясь показать, что он мол «тоже» и «совсем не чужд», и просто мельком, случайно обращает голову в сторону рояля и усаживающейся возле того пианистки… Он замирает, застывает внезапно, так и не закрыв до конца только что рассказывавший анекдот и смеявшийся рот… Его привыкшие быть мелкими щелочками глаза округляются кажется до невозможного, становятся такими, какими их редко кто видел, впиваются в пианистку… Вместе с резкой, неожиданно взятой им и такой внятной для всех паузой, быстро стихают и приготавливаются слушать и остальные, пианистка понимает, что можно приступать, и начинает лить в зал игривые, нежные и неприхотливые звуки моцартовской сонаты. Это сразу приходится по душе собравшейся публике, офицеры бросают приглушенные радостные возгласы, расплываются в улыбке удовольствия, а Инкварт, сидящий от оберштурмбаннфюрера через Беккера справа, закатывает голову назад и закрывает глаза, заливается улыбкой высшего наслаждения так, будто ему только что дали посмаковать несколько капель полувекового французского коньяка. Всего этого оберштурмбаннфюрер не видит и не воспринимает, как практически не слышит, не разбирает слухом зазвучавшей музыки. Он видит только сидящую почти напротив него пианистку, вперился в нее взглядом и не может прийти в себя и перестать на нее смотреть – потому что никогда ничего подобного не видел и на его лице, в его наверное еще никогда так широко не раскрывавшихся глазах, застыло выражение глубочайшего изумления, почти шока, он словно произносит мысленно «это что такое?!» Ему внезапно кажется, что он перенесся в свой, бывший два года назад визит в Дрезден, на совещание к главе дрезденского «гестапо» Едамцику. Тот, как и положено, после дел повел собравшихся офицеров показывать «свои владения» и завел их на несколько минут в Цвингер. Так вот, оберштурмбаннфюреру сейчас вдруг показалось, что он снова в Цвингере и смотрит не на играющую Моцарта пианистку, а на белокурую Мадонну какого-то там итальянского художника, что-то на букву «Б», «челли», «релли» или «мелли», не упомнить, тогда поразившую его своим образом и обликом, совершенной чистотой и красотой линий лица. Вот что-то подобное глядело на него сейчас в облике существа, перебирающего клавиши и извлекающего из них почти что не слышимые оберштурмбаннфюрером звуки. Какая-то не вероятная, немыслимая, сверкающая красота лица, красота и вожделенность всего облика, она похожа на Мадонну или королеву со старинных полотен. Изящна и стройна, но не хрупка, напротив – тело и его движения налиты упругостью и силой, той неожиданной силой, с которой она заставляет звучать рояль. Грудь упруга и прекрасной формы, достаточно обнажена в декольте, кожа бархатистая и изумительного, насыщенно телесного, дышащего жизнью цвета, бедра невероятно выпуклы и женственны, как он может рассмотреть со своего места, что же до укрытых длинным платьем ног, то следуя логике, в их красоте и стройности сомневаться тоже не должно было быть причин. Пианистка уже довольно долго играет, а он всё не может выйти из состояния шока, наконец, решается отвести словно прикованный к ней взгляд и посмотреть вокруг – окружающие его кажется и вправду увлечены музыкой, получают удовольствие и словно не видят и не чувствуют до конца того, что он. Ах ты ж, черт – он никогда не встречал такой красоты, какой-то и не реальной, и до пугающе реального вожделенной, вызывающей немыслимое желание обладать! Он видел много красивых и вызывающих желание женщин – полно прекрасных немок и швейцарок, красивее же француженок-эльзасок ему казалось вообще ничего быть не может, но в это мгновение он вынужден признать: женщины настолько необычно и царственно, нереально красивой, ему встречать еще не доводилось. Пианистка заканчивает первую часть сонаты, но офицеры в зале в таком восторге, что нарушают приличия и разражаются грохотом аплодисментов и криками «браво!» Пианистка исполняет еще две части сонаты, которые пролетают для оберштурмбаннфюрера незаметно, как одно мгновение, потому что он продолжает смотреть на эту женщину и не верит, что всё это ему не снится. Значительно более долгий грохот аплодисментов, шквал экзальтированных, с гортанной глубиной криков «браво!», Инкварт на самом деле кажется искренне забыл о приличиях и с огнем и воодушевлением в глазах орет «браво!», как наверное привык в своей венской опере или филармонии, или что у них там, и оберштурмбаннфюреру кажется уже, что он находится посреди огромного концертного зала, а не в маленьком ресторанчике «Nur fur Deutschen» в подворотнях улицы Флорианской. Она вновь усаживается и настраивается что-то исполнять, но пока она стояла и с царственным, будто совершенно безразличным достоинством принимала восторги и кланялась, он успел разглядеть ее фигуру и облик в целости и еще раз был потрясен необычной чистотой линий и конечно же – сильными, упругими, совершенными по контурам, не слишком тонкими и не дай бог не толстыми даже хоть чуть ногами, читавшимися под длинным голубым платьем. Она снова начала играть. Ну да, конечно же, он знает эту сонату, раздери черт, ее написал Бетховен и она очень известная, он часто слышал ее начало по радио и просто не помнит ее названия! У нее какое-то особенное, итальянское, кажется, название… Вот, затаенно и с сокрытой силой, но не громко, начинаются неторопливые звуки, проходит их ряд, а потом они снова возвращаются через очень мощные, вызывающие мурашки по коже аккорды, и оберштурмбаннфюрер поражается, с какой телесной и душевной мощью, не ожидаемой ни от ее облика в целом, ни от ее изящных ручек с совершенной формы пальчиками, она обрушивается на огромный рояль и вынимает из него эти аккорды, словно превращая рояль в живой, страдающий и стонущий, кричащий, рыдающий, гневливо возмущающийся, поющий тонко или проникновенно, что-то шепчущий по ее прихоти организм… Нет, всё же конечно что-то есть в этой музыке, недаром ее называют немецкой и не зря немцев всегда представляют восхищающимися и восторгающимися ею! Кажется – недаром Фюрер и доктор Геббельс придают важнейшее значение музыке вообще и все собрания с их участием происходят под марши, способные силой рождающихся чувств и эмоций вздыбить человека, разорвать тому грудь, сделать его способным на что-то значительное или даже великое! Оберштурмбаннфюрер подмечает для себя, что аккорды и запертая между ними мелодия вдруг выливаются в какой-то фривольненький, светло и мечтательно звучащий маршик, что-то похожее на «марсельезу» из времен французской революции и видимо призванное на революцию указать, и честно – вдруг разочаровывается. Зачем это вдруг тут, дерьмо? Ну да, этот Бетховен же кажется был сторонником Наполеона, наверное был увлечен революцией и бунтами, но зачем это всё здесь? Вот ей-богу – только он заинтересовался и удивился самому себе, почувствовал гордость за переживания, которые испытывает, и сразу неприятно. Он снова вперяется глазами в белокурую королеву за роялем и впитывает ее облик. Он хочет эту женщину, он хочет, чтобы она была его. Всё желание, которое накопилось в нем за те три месяца с начала кампании, что он не прикасался к женщине, вдруг взметнулось в нем, поднялось в грудь, заставило задыхаться и с трудом справляться с грохочущим и заколотившим сердцем. Внезапно он еще раз слышит французский марш, который отвлекает его от ощущений и этой женщины и начинает уже вызывать в нем ярость – на кой черт тот здесь нужен, зачем он, дерьмо, вообще должен это слушать? Однако, оберштурмбаннфюрер вдруг сосредотачивается – марш звучит уже иначе, окрашен в совершенно другой цвет, что ли, в нем слышатся тревога перед предстоящим, борьба… Он вдруг обращает оберштурмбаннфюрера к сознанию происходящего каждый день, войны и неизвестности того, что будет завтра, той борьбы за право для нации быть, которую под руководством Фюрера ведут тысячи таких же немцев, людей долга и дела, патриотов. Марш вдруг снова исчезает и опять повторяется всё то же – могучие аккорды, извлекаемые пианисткой из рояля так, будто музыка разрывает ее, какая-то короткая мелодия между ними и еще кажется бетховенские «четыре звука», поначалу не замеченные оберштурмбанфюрером и зачем-то вставленные в эту вещь. И оберштурмбаннфюрер внезапно понимает, что согласно уже наметившейся логике, марш непременно должен еще раз вернуться и вернуться каким-то другим, говорящим что-то иное, и начинает ждать этого, не понимая, от чего больше волнуется – от вида этой женщины, застилающего ее вид и сознание паморока желания, или от ожидания марша и того, что тот скажет, как он зазвучит… Вот, он понял и почувствовал, сейчас это настанет – пальцы пианистки отчаянно, словно в предсмертной конвульсии тела, с безумной быстротой бегут, скачут, ударяют по клавишам, мучат и рвут их, словно передавая им часть муки, которой раздираемы сами, то ли рождают и извлекают из них звуки, то ли цепляются за льющиеся звуки, как тонущий в бурном потоке и обреченный погибнуть, судорожно и напрасно цепляется, хватается за пенящиеся гребешки волн… Оберштурмбаннфюрер Бруно Мюллер не может оторвать глаз от бегущих рук и пальцев, ему кажется, что те сейчас не выдержат боли и напряжения и застынут намертво, и почти так и происходит – пальцы и словно в мучении изогнутое над клавишами тело пианистки внезапно замирают, а потом раздаются эти знаменитые бетховенские «четыре звука», словно предвещающие судьбу, похожие на колокол судьбы или на ее содрогающее, повергающее в ужас и холод появление в распахнутых дверях… Только сейчас они звучат не как то, что пришло торжествовать и взять положенное – как он тогда в зале, пришел объявить ныне гниющим в Заксенхаузене очкатым червям уготованную судьбу, а словно предчувствие и пророчество колдуньи, попытка заглянуть в темноту будущего… И вдруг оберштурмбаннфюреру кажется, что треснул и рушится потолок – этими четырьмя звуками, превращенными в аккорды, маленькие ручки даже не ударяют, а изо всей возможной силы шандарахают по клавишам, заставляя рояль и всё окружающее пространство загрохотать, и вот тот самый марш, полным ярости, накала борьбы и смертельной схватки шквалом прорывается и начинает нестись за ними, нарастает и заверчивается с надрывом как вихрь, словно солдат, пошедший в рукопашную, отчаянно и из последних сил пытается задушить врага, грохочет финальными аккордами, похожими на рушащиеся скалы. И оберштурмбаннфюреру Мюллеру вдруг представляется то, что может произойти в реалиях войны в любую минуту – что он поднял роту своих солдат в бой и сам ринулся в бой вместе с солдатами и впереди них, и каждую секунду ждет, что почувствует удар вошедшей ему в лоб, в грудь или в живот пули и с этим всё кончится, или же сшибётся в рукопашную с врагом, будет стараться кромсать вражеского солдата прикладом и ножом и неизвестно победит ли, и всё тоже может быть кончится, и он готов и просто рвется на встречу смерти и судьбе со свирепой, остервенелой яростью. Звуки и грохот музыки затихают, им на смену приходит какой-то невообразимый треск и грохот аплодисментов и криков, а он уже ничего не понимает и не в силах сосредоточиться, обнаруживает себя сидящим с выпученными глазами и рычащим, хрипящим что-то дыханием и грудью. Он, внезапно и удивляя Беккера и Инкварта хрипит, с трудом выдавливает из горла «браво», на какое-то мгновение обессилев, погружается в спинку стула, пианистка в это время начинает играть дальше, следующие части сонаты, но ему нет до этого никакого дела, он уже почти не слышит музыки. Всё последующее – окончание сонаты, аплодисменты совсем зашедшихся в экстазе офицеров и исполнение двух вальсов Шумана проходит мимо его глаз, слуха и сознания как в тумане, словно кажимость или что-то происходящее не с ним, будто он находится в состоянии какого-то дурмана. Он ничего этого не слышит, не видит и не воспринимает. Он видит только эту женщину. Он прикован к ней взглядом округленных до нельзя глаз, выражающим только одно – жажду обладать и глубокое потрясение. Всё дальнейшее происходит так же в состоянии какой-то внутренней отстраненности – он встает со всеми в конце выступления, долго аплодирует, не спуская с пианистки глаз, но ничего не крича, что-то в «восхищенных тонах» произносит в недолгом разговоре с Инквартом, Беккером и адъютантами генерал-губернатора (Инкварт исходит восторгом от пианистки, о которой много слышал перед этим), вскоре прощается, выходит на улицу и на морозном декабрьском воздухе вдруг абсолютно успокаивается и ощущает, что и его побуждения, и его мысли и планы обретают совершенную и ясную определенность. Он хочет эту женщину. Он хочет обладать ей. Он хочет, чтобы она была его, принадлежала ему. Он хочет жадно и грубо целовать ей губы, зажать ее рот в свой, рискуя причинить ей боль. Он хочет врываться в нее… хочет, чтобы она кричала под ним, охватывала его упругими ногами, билась под ним своим совершенным, изящным, но таким сильным телом, с искренней страстью целовала его в ответ. Он вспоминает вдруг то, к чему привык как к нечто само собой разумеющемуся, о чем уже забыл – если разобраться, за всю жизнь, со времен университета и до начала кампании, еще не было ни одной женщины, которая бы отказала ему, почему-то его бы не захотела. А он имел немало женщин, красивых женщин. Она будет его. Она будет лежать под ним, множество раз. Он заставит ее делать то, что хочет его воля. Он найдет, как это сделать. Он уверен в этом – так же, как практически месяц назад был уверен возле своего затаившегося в переулке «опеля» в успехе проводимого дела, что дело уже почти состоялось и просто должно быть закончено, и сгрести очкатых червей, запихать их в арестантские фургоны и отправить в тюрьму и концлагерь, до забавного не составит никакого труда. Всё это он думает и ощущает очень спокойно, без тени того надрыва в переживаниях, который владел им последний час. Пока он всё это думает и чувствует, его глаза снова превращаются в узенькие, маленькие щелочки, движения становятся твердыми, четкими и точными, но не теряют спокойствия. Он вдруг решает, что хочет поработать. Девять часов вечера, почему бы и нет. Служебный «опель», довозит его до здания на Поморской, он поднимается к себе в кабинет, нажимает кнопку вызова дежурного офицера-секретаря. Через полминуты тот появляется в дверях, щелкает каблуками и вскидывает руку, кажется – совершенно не удивлен его позднему появлению.