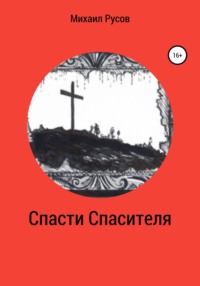Полная версия
Это было
Люди замолчали. Он сел в кабину, грузовик проехал между расступившихся людей и, подпрыгивая на ухабах, скрылся.
– Так и не узнали мы: довезли Потапыча живым или нет. Никто из той машины так и домой не вернулся… никто, – закончила свой рассказ старушка.
Историю моей страны словно вывернули передо мной наизнанку. И под бархатным верхом, расшитым блестками и стразами громких лозунгов, открылось исподнее – драная мешковина с пятнами засохшей крови!!!
Ангелоподобный мальчик в центе красной звездочки, которой я в детстве так гордился, отправлял на смерть тысяч людей. Его последователь казнил уже миллионы.
Груз правды был особенно тяжел для меня потому, что я не мог понять, почему родителей никогда не говорили со мной об этом и позволяли жить во лжи? Ведь это было предательство.
Я решил отправиться на родину в Норильск и расспросить тех, кто хорошо знали их. Самыми близкими друзьями семьи были дядя Миша и тетя Вера Немцовы.
Ребенком я, случалось, ночевал у них. Тетя Вера, укладывая меня спать, пела смешную колыбельную песенку об усталых слонах. Была она такой уютной, доброй, и казалась мне счастливым человеком. Говорливая, светловолосая, улыбчивая, она, несмотря на почтенный возраст, совсем не казалась старухой. У них не было своих детей, и они были очень привязаны ко мне.
Мы встретились. Дядю Мишу, изможденного, седого, молчаливого старика, доедала неизлечимая болезнь. Тетя Вера поседела, постарела, но осталась прежней – улыбчивой и гостеприимной.
Дядя Миша выслушал меня и заговорил так, словно давно был готов к этому разговору.
Он и рассказал мне историю жизни моего отца – они вместе отбывали срок в Норлаге.
Рассказ и о себе. Он был третьим ребенком в большой – шесть человек – семье. Его старший брат, ученый-биолог, опубликовал статью с критикой взглядов всемогущего академика Лысенко. Брата арестовали. Через неделю забрали отца, мать, старших сестер. Всем приговор – пятнадцать лет без права переписки. (Только после их реабилитации в 1956 г. дядя Миша узнал, что этот приговор означал расстрел).
Младших детей отправили в детдома. А шестнадцатилетний дядя Миша получил 10 лет лагерей, как член семьи врага народа. И единственный выжил.
А милая тетя Вера работала завхозом в детском доме. Поздней осенью к ним привезли детей из семей врагов народа. Малыши жались друг к другу и плакали от страха, холода и голода. Ребята постарше смотрели затравленно.
У них не было теплой одежды. А в детдоме было холодно: дрова подвозили плохо. Верочке было их очень жалко. Она нашла на складе одеяльное сукно и сшила им зимние курточки. Они получились неказистые, но теплые.
Через месяц Верочку вызвала директор детдома. Когда она вошла в кабинет, то увидела за столом человека в форме НКВД, а на полу землистой кучей лежат те самые суконные курточки. Директор заорала на нее: «Как ты посмела потратить казенное сукно на детей врагов народа!» Верочка растерянно пролепетала: «Они плакали от холода…». Ее арестовали и отвезли в тюрьму, не дав даже накинуть пальто. В беленьком нарядном платьице. На допросах она отказалась признавать вину: моль портила сукно, а дети замерзли бы. Ей дали десять лет лагерей.
Она и в лагерь попала в этом белом платьице. И на нее обратил свое похотливое внимание начальник охраны, придрался к чему-то и отправил ее в карцер, где попытался изнасиловать. Она отчаянно сопротивлялась, тогда в наказание он «поставил ее на круг» – отдал на растерзание другим охранникам. Ее месяц насиловали и почти не кормили. Освободили из карцера, когда она уже не могла вставать. Она чудом выжила, но детей иметь не смогла.
Моя бедная, светлая тетя Вера… В чем она нашла силы не озлобиться, не заполнить душу ненавистью? Неужели такое можно забыть? Я не решился спросить ее об этом.
Дядя Миша рассказал о судьбе дяди Толи, еще одного друга отца. Я хорошо знал этого тихого, сухонького, всегда грустного человека. Он часто бывал у нас в гостях, и не помню, чтобы он хоть раз улыбнулся. У него всегда сильно болела спина, и он лежал на диване и молча, безучастный, отстраненный.
В июне 1941 года он, восемнадцатилетним парнишкой, как и десятки тысяч таких же почти детей, поспешно мобилизованных, оказался на фронте. И через неделю в хаосе массового отступления попал в плен. Немцы отправили его в Германию, как других советских военнопленных. Там он попал на ферму, где и проработал до мая 1945 года, благо его хозяева оказались людьми нежестокими.
В 1945 году он вернулся домой и сразу же был арестован по обвинению в предательстве.
На суде прокурор возмущался: как же он, советский солдат, посмел попасть в плен к врагу?
– Вы обязаны были застрелиться!
– Мне было восемнадцать лет, и я хотел жить, – ответил дядя Толя. Эта фраза стоила ему пятнадцать лет в Норлаге.
Там, долбя вечную мерзлоту, он стал почти инвалидом.
Горькой оказалась и судьба и моей любимой нянюшки.
В родном городке Марьи Ивановны советская власть решила отдать костел под овощной склад. Прихожане поклялись защитить его. Но к храму пришла только она.
Отважная женщина встала в дверях, вцепилась руками в косяк и громко молилась, призывая Господа помочь ей. Но Бог не услышал свою защитницу. Ее схватили и отправили в тюрьму.
Марья Ивановна усердно молилась и там. Звала она Бога и на суде. Он не услышал ее: ей дали десять лет лагерей. После Норлага она не захотела возвращаться домой: не смогла простить землякам предательства.
И своим одиночеством протестовала против несправедливости земной и небесной.
Рассказал мне дядя Миша о трагической судьбе маминой подруги – тети Нины. Я помнил ее – молчаливая, замкнутая женщина. В детстве мне казалось, что у нее на голову сидит облачко – так забавно пушились ее редкие седые волосы. Она говорила сдавленным, хриплым голосом и порой жадно ласкала меня, целую в лоб сухими горячими губами. Я смущался и старался избегать ее ласк.
До войны она работала делопроизводителем в администрации областного города. Когда подошли фашисты, сотрудникам приказано было эвакуироваться. Но на руках у тети Нины была тяжелобольная, лежачая мать, она не могла оставить ее одну. И не подчинилась приказу. Пережила ужасы оккупации: страх ареста, голод, потом смерть матери, единственно близкого человека.
В 1943 году городок освободила Красная армия. Тетя Нина вернулась на работу. И ее начальник, отсидевшийся в тылу хам, ухаживания которого она когда-то отвергла, публично обвинил ее в предательстве. Он назвал ее «фашистской подстилкой», заявил, что она обслуживала немецких офицеров. Девушка в слезах опровергала его гнусные обвинения: «Вы не имеете право говорить обо мне такое, я невинна». Она настаивала на визите к врачу. Начальник заявил, чтобы к врачу ее как подозреваемую отвезет сотрудник НКВД.
Конвоир вывел ее в коридор, впихнул в пустой кабинет, запер дверь и изнасиловал. Нина отчаянно сопротивлялась, кричала, звала на помощь, но никто не отозвался на ее крики. А насильник объяснил:
«Мне твой начальник заплатил».
Потом повез ее в больницу. Нина рассказала врачу, немолодой женщине, что с ней случилось. Но та молчала с каменным лицом. На основании выданной ей медицинской справки тетя Нина была обвинена в сотрудничество с фашистами и получила пятнадцать лет лагерей. От нервного потрясения она на всю жизнь потеряла голос.
Такие горькие страшные судьбы были у людей, которых я знал, среди которых рос. А сколько таких людей по всей стране? Десятки, сотни тысяч, миллионы? А тех, кто не расскажет свои истории – расстрелянных, замученных насмерть?? Страшные, невосполнимые жертвы. Разве можно забыть об этом и снова восхвалять главного палача?
Теперь прошлое выглядывает из-за угла, как рецидивист, готовый взяться за старое. Многовековая привычка к тому, что «вот приедет барин, барин наш рассудит» взрастила в покорность и страх перед свободой. И молчание тех, кто знал и видел ту правду, молчание моих родителей, могло обречь их детей на роль новых жертв?
А я не хочу превращаться в частичку гумуса, на котором будет произрастать уродливое растений, усыпанное шипами и покрытое кичливо-яркими цветами, – государство безропотных жертв и добросовестных палачей.
Бог не заметил…
«Я сразу различил лицо
старой, грузной женщины с побелевшими от мороза щеками и блестящими
неподвижными глазами. Она была закутана в тряпье: голова обернута в обрывки
шали или пледа, туловище неимоверно утолщал заплатанный просторный бушлат,
надетый поверх пальто, ноги-тумбы были обуты в огромные разношенные
армейские ботинки. Ей в плечо врезалась лямка от веревочных постромок,
привязанных к деревянным санкам – довольно длинным, но не настолько, чтобы
уместились ноги лежавшего на них навзничь мужчины. Они деревянно
вытянулись, оставаясь на весу, носки расшнурованных ботинок, неподвижные и
жуткие своей оцепенелостью, торчали кверху».
Олег Волков «Погружение во тьму».
Зареченск… Городков с таким незатейливым названием в российской империи было немало. И похожи эти городки были не только названием.
В каждом из них – центральная улица, длинная и благоустроенная. В середине ее располагалась церковь, а на приличествующем расстоянии заведение, соперничающее с ней (и весьма успешно!) в борьбе за кошельки людей – кабак. Между ними тянутся лавочки и магазинчики, главной достопримечательностью которых, особенно в изнуряюще жаркий летний день являлся сам хозяин, украшенный окладистой бородой и внушительных размеров брюхом.
На других улицах нет никаких достопримечательностей. Они разбегаются и расползаются от центра городишки, подчиняясь прихотям местного ландшафта. Домики то приближаются, то отдаляются, отстраняясь друг от друга пустырями, захваченными репейником. И каждый – визитная карточка своего хозяина. Вот тщательно выкрашенный крепыш, отгороженный от улицы железными воротами. Он не хуже генеалогического дерева рассказывает о нескольких поколениях хозяйственных, прижимистых, знающих себе цену мужиков.
А вот в конце улицы хлопает на ветру покосившейся ставней домик-бедолага, скрипит, жалуясь на своего хозяина давно уже некрашеная, висящая на одной петле калитка
Неглавные улицы обычно пустынны. Наполняются они людьми редко: по большим праздникам или на свадьбы да на похороны. А в обычный день проковыляет по улице сгорбленная, но все еще проворная старушка или промчится пацаненок. Да поздно вечером, натыкаясь на деревья и заборы, бредет домой хозяин дома-недосмотрыша, оглашая окрестности самым неистребимым наследием татаро-монгольского нашествия и возмущая местных блюстителей порядка – дворняг.
Вот на такой улице одного из Зареченсков произошло обычное, но всегда великое событие – на свет появился Человек. В небогатой еврейской семье родился шестой ребенок – девочка.
Ее отцу, местному счетоводу, было уже шестьдесят лет, и он стеснялся своего позднего отцовства, но все просил подержать на руках малышку, качал ее и тихо шептал-напевал еврейские песни. И когда ее забирали, лицо его было мокро от слез.
Когда Сонюшке исполнилось семь месяцев, отец навсегда покинул родной дом. Его неказистый гроб вынесли из дома, и двор огласился дружным плачем: таким неожиданно маленьким, каким-то детским показался последний приют человека, давшего миру шестерых детей.
Покойник лежал в нем со спокойным, примиренным со случившимся лицом. И лишь на кладбище могло показаться, что он досадливо поморщился, когда жена и дочери снова истошно запричитали. Лишь Сонюшка молчала и таращила глазенки.
После смерти кормильца семья обеднела. А главным человеком в доме стала малышка. Несмотря на скудость еды, она росла толстушкой – ей доставались лучшие кусочки. Она никогда не плакала, не боялась посторонних, всем улыбалась, а как только встала на свои толстые ножки, тут же начала неутомимо бегать. Розовощекая, черноглазая, с густым облачком черных, вьющихся волос она радовала взгляд. Ее детское очарование спасло ее от страшной участи других детей.
Когда черносотенцы устраивали очередной погром, и из еврейских домов раздавались жуткие крики и предсмертные хрипы, кто-нибудь из соседок забегала в дом, хватала Сонюшку в охапку и, прикрыв ей лицо передником, уносила к себе.
Когда девочке исполнилось десять лет, из большой семьи в живых остались только она, мать, да старшая сестра, потерявшая рассудок, – у нее на глазах зарубили младших братьев.
В доме навсегда поселилось горе. Разбитое окно угрожающе-печально сверкало трещинами-ранами, стол чернел обгорелым углом. Табуретки, сбитые кое-как, для прочности были перевязаны старыми поясами от утерянных нарядных платьев. На веранде без устали свистел ветер.
Изменились и его обитатели. Мать постарела, поседела, страшно опустилась. Длинные седые пряди ниспадали на лицо, цеплялись за поношенную кофту. Она не меняла старую юбку с отпоровшимся подолом. И каждый день мела им дорогу к кладбищу. Соседские дети боялись ее, называли Бабой-Ягой. Взрослые смотрели ей вслед, кто-то с сочувствием, кто-то с осуждением.
На кладбище она подолгу, неподвижно стояла у пяти неухоженных могил, трогательно заросших кустиками лесной земляникой. Празднично белели они в начале лета, трагически краснели капельками ягод-кровинок – летом. А осенью покрывали холмики листьями цвета засохшей крови.
Обычно мать брала Сонюшку с собой. Ее розовое личико тускнело по мере приближения к кладбищу. Она испуганно оглядывалась и прижималась к неподвижной матери. И только, когда она, устав и проголодавшись, начинала хныкать, мать приходила в себя и, все такая же безучастная, возвращалась домой.
Чем дальше они отходили от кладбища, тем веселее становилась Сонюшка. Дома она не унывала никогда. Ее смех и лепет преображали и заросший бурьяном двор, и изуродованный горем дом. Счастливая девчушка обладала удивительной способностью находить удовольствие в самом процессе своего существования. Ей не нужны были игрушки, она развлекала себя сама, беседуя с залетевшей во двор птичкой или пойманным жучком, или выводила незатейливые рисунки на песке. А когда зимой она сидела дома, то жалела разбитое зеркало, ссорилась с табуреткой, о которую ударялась, рисовала пальчиком на запотевшем оконном стекле. Или напевала детские песенки сестре, которая, сидя на кровати, непрерывно покачивалась, заглушая неутихающую душевную боль.
Мать целыми днями лежала, поднимаясь лишь для того, чтобы накормить дочерей.
В шесть лет Сонюшка пошла в школу. Учеба давалась ей тяжело, но и в школе она стала всеобщей любимицей. Сначала однокашницы, беспощадные вдвойне, как дети и как женщины, издевались над ней, высмеивали ее полноту, неповоротливость, тугодумие. Но она не умела обижаться. Даже когда ее толкали, она падала, но, встав и отряхнув платьице, тут же была готова играть с обидчиками. И ее перестали обижать. К ней не прилипло ни одно насмешливое прозвище.
Даже учителя называли ее как родные – Сонюшка. Самый строгий из них снисходительно выслушивал ее беспомощные лепетания и, заметив капельки пота, покрывшие от напряжения пухленький лобик, махал рукой и, скрыв улыбку, ставил удовлетворительную оценку.
И в пятнадцать, и в шестнадцать лет она продолжала оставаться ребенком. Ровесницы с готовностью доверяли ей свои сердечные тайны, не видя в ней соперницу. А собственное простодушие и наивность избавляли ее от любовных страданий. Приятельницы искренне готовы были помочь ей, стараясь придать ее детской мордашке привлекательность: делали модные прически из ее тяжелых волос, дарили ей какие-нибудь пелеринку или бантик, вышедшие из моды.
И эти вещи из другой жизни, где были праздники и люди радовались, преображали Сонюшку. Она казалась красавицей рядом с матерью в облезшей кофте и сестрой, безобразно располневшей, никогда не снимавшей выцветшего платья. Она не соглашалась сменить его, бессознательно чувствуя, что другая одежда подчеркнет печать постоянного страдания на ее лице.
Она не могла отвести взгляда от того ужаса, который лишило ее рассудка, и больше ничего не видела: ни первых победоносно-праздничных лучей весеннего солнца, которые заливали ее убогую комнатку, ни полных света дней лета.
Не заставляли ее очнуться даже золотисто-красные цвета осени, которыми природа с торжественной роскошью украшает себя перед закланием холоду и мраку. Безумная бедняжка жила вне времени, вне желаний и надежд. И только голосок Сонюшки мог ненадолго вырвать ее из жуткого небытия.
Но ужас возвращался, когда с улицы доносились голоса. Она вскакивала, металась, пытаясь спрятаться, и долго не могла успокоиться… Люди перестали заходить в этот дом.
И мать уже не жила, а ждала, ждала, когда можно будет пристроить Сонюшку, понимая, что наивная и беззащитная девушка-ребенок совсем беспомощна без нее.
Она поспешила сосватать Сонюшку как можно раньше. Жениха подобрали подходящего, даже внешне похожего на нее. Толстый, покладистый Борис был единственным сыном в многодетной семье. Он тоже оставался ребенком для матери и семи сестер. Сходство между молодыми показалось будущим родственникам гарантией счастливого брака.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.