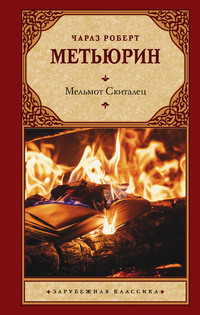Полная версия
Мельмот Скиталец
– Зачем? Только чтобы он ждал потом, когда на похоронах ему дадут шарф да траурную повязку на шляпу? Сама изволь молитвы читать, шлюха старая, так мы хоть что-нибудь сбережем.
Управительница попробовала было читать, но вскоре отказалась под тем предлогом, что, с тех пор как господин ее занемог, ее слепят слезы.
– Это все от виски, – сказал больной со злобной усмешкой, которую предсмертные корчи превратили в отвратительную гримасу. – Неужто же среди вас всех не найдется никого, кто бы мог почитать молитвы и отогнать нечистую силу? Или все вы способны только выть да зубами скрежетать?
После этих слов одна из женщин предложила свои услуги. О ней поистине можно было сказать, как о недалеком стражнике Догберри, что «читать и писать ее научила сама природа»22. В школу она никогда не ходила, и до этого дня ей никогда не случалось не только открывать, но даже видеть протестантский молитвенник. Тем не менее она не сробела и взялась читать, и при этом весьма выразительно, однако без должного понимания. Она прочла почти все очистительные молитвы после родов, которые в наших молитвенниках идут следом за похоронной службой; может быть, она вообразила, что именно это больше всего под стать положению старика.
Читала она очень торжественно, – к сожалению, два раза чтение это пришлось прервать: первый раз по вине старого Мельмота, который вскоре после начала молитв повернулся к управительнице и неподобающе громко сказал: «Поди закрой поплотнее заслонки на кухне да дверь запри, да чтобы я слышал, что ты ее заперла. До тех пор я ни о чем и думать не могу». Второй раз чтение прервалось оттого, что прокравшийся в комнату Джон Мельмот, едва только он услыхал, что эта бестолковая женщина читает вовсе не то, что надо, стал возле нее на колени, спокойно взял из ее рук молитвенник и приглушенным голосом принялся читать ту часть торжественной службы, которая по правилам Англиканской церкви предназначена для утешения умирающего.
– Это голос Джона, – сказал старик. Ему припомнилось, как он всегда бывал холоден с несчастным юношей, и его черствое сердце смягчилось. Он увидел, что и его самого окружают теперь бессердечные и жадные слуги, и, как ни слабы были узы, связывавшие его с племянником, с которым он всегда обращался как с чужим, в эту минуту он вдруг почувствовал, что это как-никак его кровь, и ухватился за него, как утопающий за соломинку.
– Джон, славный мой мальчик, хоть ты здесь. Всю жизнь я тебя держал далеко от себя, а теперь вот умираю и вижу, что нет у меня человека ближе, чем ты. Читай, Джон, читай.
Джон, до глубины души удрученный тяжелым положением, в котором он нашел старика среди всех богатств, которые его окружали, и тронутый его торжественной просьбой облегчить ему последние минуты жизни, продолжал читать. Но вскоре голос его сделался невнятным от ужаса, в который его повергла начавшаяся у больного непрерывная икота. Умирающий, однако, продолжал бороться с нею, а в наступавшую порой минуту покоя умудрялся еще раз спросить управительницу, закрыты ли все заслонки. Обладавший чувствительным сердцем Джон встал с колен: он был глубоко взволнован.
– Как, и ты тоже покидаешь меня, как и все остальные? – сказал старый Мельмот, пытаясь приподняться на кровати.
– Нет, сэр, – ответил Джон и, заметив перемену во взгляде умирающего, добавил: – Мне думается, что вам надо бы чем-нибудь подкрепиться, не так ли, сэр?
– Да, надо, надо, только кому же я могу доверить принести мне еду? Им, – тут он угрюмым взглядом обвел всех присутствующих, – да ведь они же меня отравят.
– Доверьтесь мне, сэр, – сказал Джон. – Я схожу к аптекарю или куда вы прикажете.
Старик схватил его за руку, притянул к постели, бросил грозный, но в то же время испуганный взгляд на всех собравшихся и сдавленным голосом прошептал:
– Я хочу выпить стакан вина, это прибавит мне несколько часов жизни, только я никому не могу доверить сходить за ним – они стащат бутылку и окончательно меня разорят.
Слова эти совершенно потрясли Джона.
– Ради самого Создателя, сэр, позвольте мне принести вам стакан вина.
– А ты что, знаешь, где оно спрятано? – спросил старик, и лицо его приняло какое-то особое выражение, которого Джон не мог понять.
– Нет, сэр, вы знаете, я ведь здесь ни во что не вмешивался.
– Возьми вот этот ключ, – сказал старый Мельмот после нового жестокого приступа икоты, – возьми этот ключ, там в кабинете у меня есть вино. Мадера. Я им всегда говорил, что там ничего нет, только они мне не верили, иначе бы они так не обнаглели и меня не ограбили. Раз как-то я им, правда, сказал, что там виски, и это было хуже всего – они стали пить вдвое больше.
Джон взял ключ из рук дяди; в это мгновение старик пожал его руку, и Джон, видя в этом проявление любви, ответил ему таким же пожатием. Но последовавший за этим шепот сразу охладил его порыв:
– Джон, мальчик мой, только смотри не пей этого вина, пока ты будешь там.
– Боже ты мой! – вскричал Джон и в негодовании швырнул ключ на кровать; потом, однако, вспомнив, что на этого несчастного не следует обижаться, он дал старику обещание, на котором тот настаивал, и вошел в кабинет, порога которого, кроме самого владельца дома, по меньшей мере лет шестьдесят никто не переступал. Он не сразу отыскал там вино, и ему пришлось пробыть в комнате достаточно долго, чем он возбудил новые подозрения дяди. Но он был сам не свой, руки его дрожали. Он не мог не заметить необычного взгляда дяди, когда тот позволил ему пойти в эту комнату: к страху смерти примешивался еще ужас перед чем-то другим. Не укрылось от него также и выражение испуга на лицах женщин, когда он туда пошел. И к тому же, когда он очутился там, коварная память повела его по едва заметному следу и в глубинах ее ожила связанная с этой комнатой быль, полная несказанного ужаса. Он вдруг со всей ясностью осознал, что, кроме его дяди, ни один человек ни разу не заходил туда в течение долгих лет.
Прежде чем покинуть кабинет, он поднял тускло горевшую свечу и оглядел все вокруг со страхом и любопытством. Там было много всякой ломаной мебели и разных ненужных вещей, какие, как легко себе представить, нередко бывают свалены и гниют в комнатах старых скряг. Но глаза Джона словно по какому-то волшебству остановились в эту минуту на висевшем на стене портрете, и даже его неискушенному взгляду показалось, что он намного превосходит по мастерству все фамильные портреты, что истлевают на стенах родовых замков. Портрет этот изображал мужчину средних лет. Ни в костюме, ни в наружности его не было ничего особенно примечательного, но в глазах его Джон ощутил желание ничего не видеть и невозможность ничего забыть. Знай он стихи Саути, он бы потом не раз повторял эти вот строки:
Глаза лишь жили в нем,Светившиеся дьявольским огнем.Талаба23Повинуясь какому-то порыву чувства, мучительного и неодолимого, он приблизился к портрету, поднес к нему свечу и смог прочесть подпись внизу: «Дж. Мельмот, anno[4] 1646». Джон был по натуре человеком неробким, уравновешенным и отнюдь не склонным к суевериям, но он не в силах был оторвать глаз от этого странного портрета, охваченный оцепенением и ужасом, пока, наконец, кашель умирающего не вывел его из этого состояния и не заставил поспешно вернуться. Старик залпом выпил вино. Он как будто немного оживился: давно уже он не пробовал ничего горячительного, и на какое-то мгновение его потянуло к откровенности.
– Джон, ну что ты там видел в комнате?
– Ничего, сэр.
– Врешь! Каждый старается обмануть или обобрать меня.
– Я не собираюсь делать ни того ни другого, сэр.
– Ну так что же ты все-таки там видел, на что обратил внимание?
– Только на портрет, сэр.
– Портрет, сэр! Оригинал до сих пор еще жив.
Несмотря на то что Джон был весь еще под действием только что испытанных чувств, он отказывался этому верить и не мог скрыть своего сомнения.
– Джон, – прошептал дядя, – говорят, что я умираю то ли от того, то ли от другого; кто уверяет, что я ничего не ем, кто – что не принимаю лекарств, но знай, Джон, – и тут черты лица старика чудовищно перекосились, – я умираю от страха. Этот человек, – он протянул свою исхудавшую руку в сторону кабинета, как будто показывая на живое существо, – я знаю, что говорю, этот человек до сих пор жив.
– Быть не может! – вырвалось у Джона. – Портрет помечен тысяча шестьсот сорок шестым годом.
– Ты это видел, заметил, – сказал дядя, – ну так вот, – он весь затрясся, на мгновение облокотился на валик, а потом, схватив племянника за руку и очень странно на него посмотрев, воскликнул: – Ты еще увидишь его, он жив.
И, опустившись снова на валик, он не то уснул, не то впал в забытье. Открытые глаза продолжали недвижно глядеть на Джона.
В доме воцарилась полная тишина, и у Джона были теперь и время и возможность обо всем поразмыслить. Он не в силах был справиться с множеством нахлынувших на него мыслей, но отделаться от них никак не удавалось. Он стал думать о привычках и характере дяди, снова и снова возвращался к тому же и сказал себе: «Я не знаю человека, менее склонного к суеверию. Если он о чем-нибудь и думал, то разве что о ценах на акции, и о разменном курсе, и об издержках на мое образование, его это особенно тяготило. Можно ли представить себе, что такой, как он, умирает от страха, от нелепого страха, что человек, живший полтора столетия назад, до сих пор еще жив, – и тем не менее он умирает».
Поток его мыслей прервался: факты всегда таковы, что могут опровергнуть самую упрямую логику. «Как ни трезвы ум его и чувства, он все-таки умирает от страха. Я слышал это на кухне, слышал от него самого, тут уж не может быть никакого обмана. Если бы мне когда-нибудь довелось проведать, что у него не в порядке нервы, расстроено воображение или что он склонен к суевериям, но в характере его нет ни одной из этих черт. Чтобы человек, который, как говорит наш бедный Батлер в своем „Антикварии“24, готов был продать Христа еще раз за сребреники, как это сделал в свое время Иуда, – чтобы такой человек умирал от страха! И однако, он умирает», – подумал Джон, в ужасе глядя на втянутые ноздри, остекленевшие глаза, отвисшую челюсть и на все страшные признаки facies Hippocratica[5], 25, отчетливо выраженные, но уже близкие к тому, чтобы перестать что-либо выражать.
В эту минуту старый Мельмот был, казалось, погружен в глубокое оцепенение, во взгляде его больше не было ужаса, и руки его, которые перед этим судорожно перебирали одеяло короткими, прерывистыми движениями, застыли теперь и недвижно лежали на нем, точно лапы умершей от голода хищной птицы, – такие высохшие, пожелтевшие, так далеко раскинувшиеся вширь. Джон, которому ни разу не приходилось видеть смерть, решил, что старик просто засыпает, и, движимый неким безотчетным порывом, схватил огарок свечи и еще раз отважился проникнуть в запретную комнату, которая среди обитателей дома известна была под именем голубой. Шорох его шагов разбудил умирающего; тот приподнялся на постели. Джон не мог этого видеть, ибо уже находился в это время в кабинете, но он услышал стон, скорее даже какой-то сдавленный, клокочущий хрип, который возвещал, что наступила ужасающая борьба охваченного судорогами тела и смятенного духа. Он вздрогнул, повернул назад и тут же, заметив, что глаза портрета, от которых он не мог оторваться, обращены на него, опрометью кинулся назад к постели старика.
Старый Мельмот умер этой же ночью, и умер так, как жил, одержимый бредом скупости. Последние часы его являли собою ужас, которого Джон не мог себе даже представить. Он осыпа́л всех проклятиями и богохульствовал по поводу трех полупенсовых монет, пропавших, по его словам, несколько недель назад, – сдачи, которую ему не отдал конюх, покупавший сено для едва волочившей ноги от голода клячи. Потом он схватил руку Джона и попросил племянника дать ему причаститься.
– Если я пошлю за священником, – сказал он, – то придется ему платить, а я не могу, не могу. Они считают, что я богат, а ты только погляди на это одеяло; я, правда, не пожалел бы и денег, если б только был уверен, что спасу душу.
– Право же, ваше преподобие, – добавлял он уже в бреду, – я человек очень бедный. Никогда мне раньше не случалось беспокоить священника, и я хочу только, чтобы вы исполнили две мои маленькие просьбы, для вас это сущий пустяк: спасти мою душу и, – тут он перешел на шепот, – добиться, чтобы гроб мне заказали за счет прихода. Того, что останется после меня, на похороны не хватит. Я всегда всем говорил, что беден, но чем больше я твердил об этом, тем меньше мне верили.
Слова эти произвели очень тяжелое впечатление на Джона; он отошел от кровати больного и сел в дальнем углу. Женщины снова вернулись в комнату; было очень темно. Окончательно обессилевший Мельмот не мог больше произнести ни слова, и на какое-то время все погрузилось в тишину, напоминавшую о близости смерти. В эту минуту Джон увидел, как дверь вдруг открылась и на пороге появилась какая-то фигура. Вошедший оглядел комнату, после чего спокойными мерными шагами удалился. Джон, однако, успел рассмотреть его лицо и убедиться, что это не кто иной, как живой оригинал виденного им портрета. Ужас его был так велик, что он порывался вскрикнуть, но у него перехватило дыхание. Тогда он вскочил, чтобы кинуться вслед за пришельцем, но одумался и не сделал ни шагу вперед. Можно ли было вообразить бо́льшую нелепость, чем приходить в волнение или смущаться от обнаруженного сходства между живым человеком и портретом давно умершего! Сходство, разумеется, было бесспорным, если оно поразило его даже в этой полутемной комнате, но все же это было не больше чем сходство; и пусть оно могло привести в ужас мрачного и привыкшего жить в одиночестве старика, здоровье которого подорвано, Джон решил, что уж он-то ни за что не даст себя вывести из состояния равновесия.
Но в то время, как в душе он уже гордился принятым решением, дверь вдруг открылась и фигура появилась снова: она, казалось, манила его с какой-то устрашающей фамильярностью. Джон вскочил, на этот раз преисполненный решимости погнаться за нею, но вынужден был остановиться, услыхав слабые, но пронзительные крики дядюшки, боровшегося одновременно и с наступавшей агонией, и со своей управительницей. Несчастная, заботясь о репутации своего господина, а заодно и о своей собственной, пыталась надеть на больного чистую рубашку и ночной колпак; Мельмот же чувствовал только, что у него что-то хотят отнять, и совсем слабым голосом восклицал:
– Они грабят меня, грабят в последние минуты жизни, грабят умирающего. Джон, помоги мне, я умру нищим, они снимают с меня и последнюю рубашку, я умру нищим.
И скупец испустил дух.
Глава II
Ты, что стонешь, бродишь тенью
Вкруг былых своих владений.
Роу1Спустя несколько дней после похорон завещание покойного было вскрыто в присутствии надлежащих свидетелей, и Джона провозгласили единственным наследником состояния дяди, которое, хоть поначалу и было невелико, в силу страсти старика к стяжательству и бережливой его жизни превратилось в весьма значительное.
Закончив чтение завещания, стряпчий добавил:
– Тут еще на уголке приписаны какие-то слова. Они, должно быть, не относятся к завещанию, ибо не введены в него по форме в качестве приписки и не скреплены подписью завещателя. Однако, насколько я могу судить, приписка сделана рукою покойного.
Он показал эти строчки Джону, который тут же признал, что они написаны почерком дяди (этим прямым и тесным почерком – таким, что казалось, писавший стремился елико возможно полнее использовать каждый листик бумаги, бережно сокращая каждое слово и даже не оставляя полей), и не без некоторого волнения прочел следующие слова: «Приказываю племяннику и наследнику моему, Джону Мельмоту, убрать, уничтожить самолично или велеть уничтожить портрет с подписью „Дж. Мельмот, 1646“, висящий у меня в кабинете. Приказываю ему также отыскать рукопись: полагаю, что он найдет ее в третьем, самом нижнем левом ящике бюро красного дерева, над которым висит портрет, – она лежит среди всяких ненужных бумаг, писанных от руки проповедей, брошюр о благосостоянии Ирландии и тому подобных. Он узна́ет ее по черной тесьме, которой она перевязана, по выцветшей и покрытой плесенью бумаге. Он может, если захочет, прочесть эту рукопись; только пусть лучше не читает. Во всяком случае заклинаю его, если заклинание умирающего может иметь силу, ее сжечь».
После прочтения этой странной приписки собравшиеся вернулись к обсуждению существа дела, и так как воля старого Мельмота была выражена вполне ясно и по узаконенной форме, то все было очень скоро закончено; официальные лица и свидетели уехали, оставив Джона Мельмота одного.
Следует упомянуть, что опекуны, назначенные наследнику по завещанию (ибо он не достиг еще совершеннолетия), советовали ему возвратиться в колледж и в надлежащий срок завершить там свое образование; однако Джон решил остаться, сославшись на то, что считает себя обязанным почтить память дяди и провести известное время в доме покойного. В действительности побуждения его были иными. Любопытство, а может быть, и некое более высокое чувство, неистовое и страшное, преследование некоей смутной цели захватило его безраздельно. Опекуны его – а это были соседние помещики, люди весьма уважаемые, в чьих глазах, после того как было прочтено завещание, Джон сразу вырос, – настоятельно предлагали ему какое-то время прожить у них, прежде чем он вернется в Дублин. Юноша поблагодарил их за приглашения, но ответил решительным отказом. Тогда они велели подать лошадей и, распростившись со своим подопечным, разъехались по домам. Мельмот остался один.
Всю вторую половину дня он провел в тревожном и мрачном раздумье; он расхаживал из угла в угол по комнате покойного дяди, подходил к двери кабинета, а потом отступал назад, глядел на свинцовые тучи и прислушивался к завыванию ветра, как будто то и другое могло не усугубить, а, напротив, развеять его тяжелое настроение. Наконец, под вечер уже, он вызвал старую управительницу, рассчитывая, что она так или иначе объяснит ему необыкновенные происшествия, свидетелем которых ему довелось стать в доме дяди. Старухе польстило то, что он обратился к ней, и она тут же явилась на его зов. Однако рассказать она могла очень мало. (Мы не станем докучать читателю, передавая ее бесчисленные разглагольствования, ирландские слова и выражения, которые она употребляла, и частые паузы, вызванные тем, что она прикладывалась к табакерке и пила приготовленный из виски пунш, который Мельмот распорядился ей подать.) Вот примерно то, что она сообщила.
Она рассказала, что их милость (так она привыкла называть покойного) очень пристрастились к маленькой комнатке, примыкавшей к его спальне, и последние два года любили проводить там время за чтением; что люди, знавшие, что их милость богаты, пробрались в эту комнату (то есть попросту покушались их ограбить), однако, увидев, что там ничего нет, кроме бумаг, убежали; что господин ее был так всем этим напуган, что велел заложить кирпичом окно, но что она твердо убеждена: в комнате не только одни бумаги, а кое-что еще. Ведь стоило ее господину недосчитаться полупенса, как он подымал шум на весь дом; когда же окно комнаты заложили кирпичом, он больше ни слова не промолвил; потом их милость стали часто запираться у себя в кабинете, и, хотя раньше они никогда не любили читать, теперь, когда им приносили обед, их часто заставали склоненными над какой-то бумагой, которую они тут же прятали, стоило только кому-нибудь войти. И один раз даже очень забеспокоились по поводу портрета, боялись, как бы кто-нибудь его не увидел; что, зная, что в семье приключилось что-то недоброе, она всячески старалась узнать правду и даже наведывалась к Бидди Браннинген (врачевавшей всю округу Сивилле, о которой у нас уже шла речь), но та только покачала головой, набила трубку, произнесла какие-то слова, которых нельзя было понять, и закурила; все это было за два дня до того, как на их милость немочь нашла. Сама она стояла во дворе (в прежнее время он был окружен конюшнями, голубятней и другими строениями, как то водится в господских усадьбах, но теперь от всего остались лишь полуразрушенные стены находившихся там некогда служб, и место это поросло чертополохом и сделалось прибежищем свиней), когда их милость велели ей запереть дверь, – их милость всегда требовали, чтобы двери запирались рано; она поспешила исполнить их приказание, но тут они вдруг стали вырывать из ее руки ключ и принялись ее ругать (они ведь очень беспокоились, чтобы двери были заперты, замки-то никуда не годились, а ключи все проржавели, и когда их поворачивали в скважине, то скрипели они так, что казалось, будто это стенают души грешников). Она постояла с минуту, видя, что господин ее рассержен, и отдала ему ключ, как вдруг он вскрикнул и упал на порог. Она кинулась поднимать его, подумала, что ему просто худо стало, но оказалось, что он весь похолодел и не может пошевелить ни рукой ни ногой. Тогда она стала звать на помощь, и прибежали люди с кухни; от ужаса и отчаяния она совсем растерялась, но все-таки помнит, что, как только люди подняли его, он пошевелил рукой и на что-то показал, и тут она увидела, что по двору идет какой-то высокий мужчина и уходит невесть куда: наружные-то ворота всегда заперты и их уже много лет не открывали, а вся прислуга толклась в это время возле их милости в другом конце двора. Она видела этого человека, видела его тень на ограде, видела, как он медленными шагами прошел по двору, и в ужасе закричала: «Держите его!» – но никто не обратил внимания на ее крик, все суетились возле господина; когда же его перенесли в спальню, то все опять-таки думали только о том, чтобы привести его в чувство. Больше она ничего не могла рассказать. Их милость (это относилось уже к молодому Мельмоту) знает столько же, сколько она: он ведь был при дяде во время последней болезни, при нем господин и умер, откуда же ей знать больше, чем их милости.
– Все это верно, – сказал Мельмот, – я, конечно, видел, как он умер, но вы говорите, что в семье приключилось что-то недоброе, так вот знаете ли вы что-нибудь об этом?
– Ровно ничего, хоть я и стара, все ведь это было давным-давно, когда меня еще и на свете не было.
– Ну конечно, так оно и должно было быть; только скажите, дядя мой был когда-нибудь суеверен, любил фантазировать? – Мельмоту пришлось употребить несколько синонимических выражений, прежде чем собеседница его поняла, чего он от нее хочет. Когда он этого наконец добился, он услышал сказанные решительно слова:
– Нет, никогда, никогда. Случалось, что их милость сиживали с нами зимой на кухне, чтобы не тратиться на дрова и не топить у себя в спальне, так не выносили они, чтобы старухи при них судачили. Уж так они не терпели их россказней, что те втихомолку курили и не смели шептаться ни о том, как на ребенка порчу напустили, ни о парне, который днем выглядел уродцем горбатым, а чуть ночь, так отправлялся танцевать с порядочными людьми на вершину соседней горы, и зазывали его туда волынкой, что как вечер, так беспременно играла.
От этого рассказа мысли Мельмота сделались еще мрачнее. Если дядя его не был суеверен, то не было ли за ним какой-нибудь вины и не было ли причиной его странной и внезапной смерти и даже того странного посещения, которое ей предшествовало, некое зло, которое он жадностью своей причинил какой-нибудь вдове или сиротам? Он стал расспрашивать об этом старуху, начав разговор осторожно, обиняками. Но ответы ее полностью обелили покойного.
– Человек-то он был скупой, черствый, – сказала она, – но чтобы он на что чужое позарился, так этого никогда не бывало. Он целый свет мог голодом уморить, но никого ни на грош не обманул.
Последнее, что оставалось Мельмоту, – это послать за Бадди Браннинген, которая все еще была в доме и от которой он во всяком случае надеялся услышать о том недобром, что приключилось в семье. Та явилась, и, когда она здоровалась с Мельмотом, любопытно было видеть на ее лице выражение властности, смешанной с подобострастием, к которому ее приучила жизнь, сочетавшая в себе постыдное нищенство с наглым, но вместе с тем искусным плутовством. Придя, она остановилась на пороге, почтительно присела и пробормотала какие-то невнятные слова, которые, очевидно, должны были выражать благословение, но которые резкий тон и весь ее зловещий облик делали похожими на проклятие. Однако, как только речь зашла о самом важном деле, во всем облике ее появилась какая-то значительность, и она вся вытянулась и преобразилась наподобие вергилиевской Алекто2, которая за одно мгновение из слабенькой старушки превращается в грозную фурию. Размеренным шагом она прошлась по комнате, села или, лучше сказать, опустилась на пол у очага, как припадает к земле заяц, простерла свои костлявые, морщинистые руки к огню и некоторое время молча раскачивалась из стороны в сторону, прежде чем приступить к рассказу. Когда она кончила говорить, Мельмот долго не мог опомниться, ошеломленный всем тем, что узнал; поразило его и то, что такую дикую, неправдоподобную, больше того, совершенно невероятную историю он слушал со все возрастающим волнением, охваченный то любопытством, то страхом, и в конце концов ему стало стыдно своего легковерия и безрассудства, с которыми он не в силах был совладать. И он решил в тот же вечер пойти в голубую комнату и прочесть рукопись.