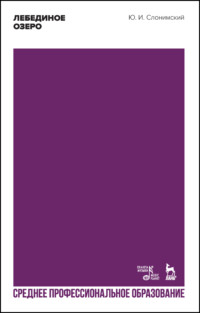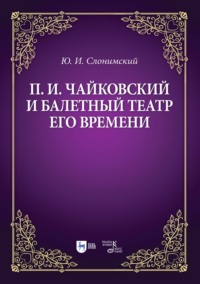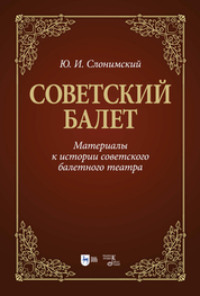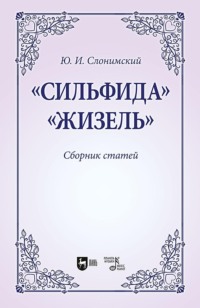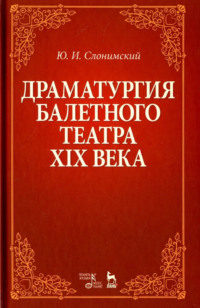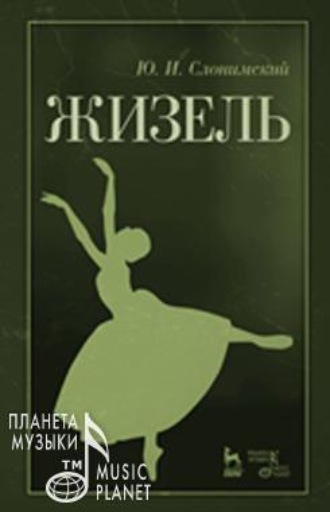
Полная версия
Жизель
Такова закономерность развития балетного искусства: новое сохраняет незримые нити связи со старым; весь вопрос лишь в том, как, во имя чего оно используется. Вряд ли состоятельны попытки (а они имеются в зарубежной литературе) отрицать или умалять значение «предков» «Жизели», видеть между ними непроходимую пропасть. Надо сопоставить ее с предшественниками, и тогда пережитки старого предстанут в истинном свете.
«Жизель» – блистательный итог пройденного и столь же блистательный шаг вперед. Здесь подали друг другу руки учителя и ученики: Доберваль и Дидло объединились со своими преемниками – Перро и Коралли. В I акте торжествуют принципы «Тщетной предосторожности», обогащенные опытом танцевального действия Дидло, во II – принципы «Зефира и Флоры», обогащенные опытом романтического балета Тальони и др. Непримиримые, казалось бы, враги в театре Дидло побратались в театре Перро – Коралли: два противоположных вида драматической экспрессии приобрели на время то единство, которое дает спектаклю огромную власть над поколениями зрителей.
Однако неизвестно, что больше обогатило «Жизель» – балетная практика или творчество великих современников Готье и Сен-Жоржа – Гюго и Гейне. Думается, что второе имело решающее значение для судьбы зачатого балета. Тесные связи Готье с Гейне делают достоверными высказывания поэтов друг о друге, заставляют внимательно изучать Гейне. Авторов «Жизели» вдохновляли в других сочинениях поэта ночные пляски духов стихий; могилы, из которых появляются призраки; девушка, приходившая ночью на свидание с умершим возлюбленным; юноша, которого феи заставляют вступить с ними в безудержную пляску… Вот строки Гейне, подсказывающие драматургическую кульминацию I акта «Жизели»: «Характерной чертой народных сказаний является то, что самые страшные катастрофы в них обычно происходят на свадебных празднествах. Внезапный ужас тем резче контрастирует с радостной обстановкой, с приготовлениями к празднеству, с веселой музыкой…». Вспоминаются его слова о неспособности духов воздуха, подобно людям, «передвигаться… прозаически-обыкновенной походкой». Постановщик нашел ее в полном соответствии с образом поведения духов стихий, описанных Гейне. Есть у него и подсказка финала танца вилис. «Когда на церковной башне ударит колокол, с криком они скрываются в могилах».
Гейне был предубежден против балета Оперы, усматривая в нем отражение вкусов верхушки буржуазного общества. Тем не менее ради дружбы с Готье и желая увидеть, что стало с преданием в «Жизели», пошел на спектакль и написал отчет о нем. «Если не считать удачного сюжета, заимствованного из сочинений одного немецкого автора, неслыханному успеху балета «Вилиса» более всех содействовала Карлотта Гризи. Но как она прелестно танцует! Когда смотришь на нее, забываешь, что Тальони – в России, что Эльслер – в Америке, забываешь о самой Америке и России, да и обо всем на свете, и возносишься вместе с нею в висячие волшебные сады того царства духов, где она – королева. Да, у нее именно характер тех духов стихий, которых мы представляем себе вечно пляшущими и о величественных плясках которых народ рассказывает также чудеса…». Соответствует ли музыка причудливому сюжету этого балета? – спрашивает Гейне. Требовались «плясовые мелодии, от которых, как говорится в народном предании, деревья начинают прыгать, а водопад повисает в воздухе… Нет, столь властно-могучих мелодий г-н Адан не привез из своего северного путешествия, но и то, что он написал, все же заслуживает внимания…». Итак, Гейне безоговорочно принял сценическую интерпретацию сюжета и одобрил образ Жизели, созданный Гризи. В этом ключ к пониманию едва ли не самых важных обстоятельств, связанных с рождением «Жизели».
В любой сфере художественного творчества (и балет не исключение, хотя это нередко подвергают сомнению) вымысел автора оплодотворяется современностью, как бы она ни была порой глубоко скрыта в произведении, отдаленном от нас более чем столетием. Чувство современности придает произведению богатую внутреннюю жизнь, заражая его «волнениями века». Не в этом ли разгадка «бессмертия» «Жизели»? Современность сделала ее классической «драмой сердца», способной стоять в одном ряду с лучшими творениями литературы и искусства той поры.

Карлотта Гризи
На это наталкивает, в частности, рассказ Готье о рождении замысла балета. Удивителен скачок его мысли от народного предания к «Призракам» Гюго. Где здесь логика? И возможна ли связь этих первоисточников? Ведь стихи Гюго посвящены не фантастическим существам из народных преданий, не крестьянкам, живущим в средние века, а девушкам, находящимся где-то рядом с поэтом – его современницам и соотечественницам. Как могло предание о вилисах вызвать у Готье ассоциацию с героинями стихов Гюго? Похоже, что переход от первых ко вторым подсказан самим Гейне. Он воспроизвел предание о вилисах дважды. Впервые на французском языке в двухтомном издании «Картины путешествий» (1834), вторично – в двухтомнике «О Германии» (1835); в 1837 году оба варианта предания встретились в третьем томе французского издания «Салона». Интересно, что первое изложение предания о вилисах предваряется Гейне разговором непосредственно о парижанках. Приведу его в кратких выдержках.
«Есть люди, которые думают, что они могут совершенно отчетливо рассмотреть бабочку, наколов ее булавкой на бумагу. Это столь же нелепо, сколь и жестоко. Приколотая, неподвижная бабочка уже более не бабочка. Бабочку надо рассматривать, когда она порхает вокруг цветов. И парижанку надо рассматривать не в ее домашней обстановке, где у нее, как у бабочки, грудь проколота булавкой, а в гостиных, на вечерах, на балах, где она порхает на своих крылышках из расшитого газа и шелка под сверкающими лучами хрустальных люстр… Тогда раскрывается вся их страстная любовь к жизни, их жажда сладостного дурмана, жажда опьянения, и это придает им почти пугающую красоту и очарование, которое одновременно и восхищает и потрясает нашу душу». Затем без всякого перехода – следующий текст: «Это стремление вкушать радости жизни, словно смерть оторвет их от кипучего источника наслаждений, или он иссякнет, это исступление, эта одержимость, это безумие парижанок, особенно поражающее на балах, напоминает мне поверие о мертвых танцовщицах, которых у нас называют вилисами». И поэт начинает предание о них.
Чтение этих строк Гейне могло подсказать Готье мысль использовать в зарождающемся сюжете балета стихи Гюго. Они напечатаны в сборнике Гюго «Восточные мотивы» (1828), имевшем огромный по тому времени успех и 14 раз переиздававшемся. Цикл «Призраки», на который ссылается Готье, не вызывает сегодня прежнего энтузиазма. В нем нет и намека на ориентально-экзотические мотивы, давшие название томику Гюго. Это лирические размышления о судьбах юных и прекрасных девушек, у которых реальная действительность отняла все, вплоть до самой жизни. Идиллические сценки, характеризующие героинь Гюго, окрашены в трагические тона. Первое стихотворение начинается словами: «Увы! Как часто я видел юных девушек, которые умирали». И заключается: «Да, такова жизнь!». Второе стихотворение – набросок портретов девушек, которые умерли. Поэт хочет «удалиться в глубь лесов».
Виденья нежные! Лишь погружусь в мечтанья —Выходят чередой они ко мне тотчас,В неверном сумраке их зыбки очертанья,Но вижу явственно я средь листвы мерцаньеПечальных и пытливых глаз.Я вижу, вижу их! Приняв их облик милый,Рой помыслов моих является ко мне, —Сплетаясь в хоровод, танцуют вкруг могилыИ тают в воздухе… Смятенный и унылый,Я вновь с собой наедине[9].Заметим, что эти строки подсказывают II акту «Жизели» жанр баллады или ноктюрна. Герой Гюго размышляет вслух, как бы сливаясь с видениями, рожденными его фантазией, и одновременно вспоминает девушек, так и не испытавших счастья юности. Реальное бытие и призрачное существование по воле героя, «обдумывающего жизнь», образуют два мира в стихотворении. Авторы «Жизели» провели через II акт этот принцип двуединства. Возникают и другие ассоциации со спектаклем. Вспомним слова Гюго о том, что он помогает движениям призраков, берет их за крылышки, и др.
В третьем стихотворении поэт описывает героиню, полюбившуюся Готье, когда он думал о Жизели, отождествляя ее с балериной Гризи.
Близка моей душе одна из них всех боле:Испанка юная! Прелестна, как рассвет.Взгляд черных глаз ее полн радости и боли,И нежная краса сияет в ореолеПятнадцати невинных лет.И далее:
Балы и празднества! Их предвкушенье, сборыСмущали день и ночь ее души покой;В мир, видимый лишь ей, она вперяла взоры:Флейтисты, скрипачи, танцорки и танцорыВо сне являлись к ней толпой.Неоднократно поэт повторяет, как рефрен, один и тот же мотив.
Балы и празднества! Как их она любила!И эта страсть ее в могилу унесла.Выразительно описываются чувства героини на балу.
Вся – воплощение веселья, танца, смеха…А вслед за праздником – печальное похмелье.Бал кончился, наряд упрятан в гардероб.Прощайте, танцы, смех, браслеты, ожерелья, —На смену шумных зал – девическая келья,Тоска и кашель и озноб.В четвертом стихотворении говорится об Испанке, умершей в 15 лет: «мертва при выходе с бала», и цветы, которые венчали ее головку, вянут на могиле. Пятое стихотворение рассказывает, как призрак девушки встает из могилы, как обнимает мать.
И в танец роковой ее он увлекает.Звучит незримый хор. И вот редеет тьма:В сиянье радужном на-небеса всплываетБелесый диск луны. Вкруг облаков мерцаетСеребряная бахрома.Заключается цикл коротким шестым стихотворением: поэт призывает вспомнить о героине, умершей, как Офелия, собирая цветы.
И в упоении срывала розы жизни,Веселье, красоту, и юность, и любовь.Героиня балета также обожает балы и танцы, как Испанка. Словно про Жизель написаны строки Гюго:
О счастье! Вы – в толпе. Она владеет вами,Весельем праздничным вы пьяны, как вином.И незачем вам знать: земля ли под ногами.Иль в небе кружитесь вы вместе с облаками,Иль мчитесь в смерче водяном.На могиле Жизели увядает гирлянда, венчавшая ее королевой праздника виноградарей. Офелией своего рода предстает она в финале I акта: сцена ее безумия могла родиться непосредственно из стихотворных строк. Переклички Гейне с Гюго очевидны. Оба говорят о парижанках, для которых балы – синоним жизни, счастья, любви. Из описаний Гейне – иногда коротких, иногда длинных – вырисовывается образ женщины, чья трагическая участь вызывает «отвращение к эгоизму» (так поэт определяет свое отношение к буржуазной действительности) виновников гибели юных парижанок. Приведенные строки Гейне кажутся написанными о «Жизели». И то, что парижанка, отдающаяся танцу, порхает на крылышках из расшитого газа. И то, что у нее, как у бабочки, «грудь проколота булавкой». И то, что она испытывает «стремление вкушать радости жизни», словно предчувствуя близящийся момент, когда «смерть оторвет от кипучего источника наслаждений».
Пытаясь пройти путем размышлений Готье, я перелистывал страницы произведений Гейне… Чуть ниже предания о вилисах есть слова, которые нельзя не учесть, формируя драматургию II акта «Жизели». «Никакое заклинанье не устоит против любви. Любовь ведь есть самое высшее волшебство, всякое иное заклятье уступает ей». Эта мысль воплощается в волнующих танцевальных образах. А вот другой пассаж Гейне: «Я не смеюсь, когда гляжу на м-ль Дежазе, которая, Вы это знаете, столь превосходно исполняет роли гризеток. С каким мастерством она играет бедную модистку, или же маленькую прачку, которая впервые выслушивает нежные речи какого-нибудь carabin (студента-медика. – Ю. С.)… и отправляется в его сопровождении на Bal Champetre (сельский бал. – Ю. С.)… Ах, все это очень мило и смешно, и публика смеется. Но когда я подумаю про себя, чем в действительности кончается подобная комедия, а именно – грязью проституции, больницей Сен-Лазара, столами анатомического театра, где carabin нередко может увидеть, как вскрывают его бывшую возлюбленную… тогда смех замирает у меня в горле.
И если бы я не боялся показаться дураком в глазах самой просвещенной в мире публики, то я не прятал бы своих слез…».
Произведений французской литературы, в которых встречаются «родственники» «Жизели», много. В годы, предшествовавшие созданию балета, появились, в частности, новеллы Мюссе, в которых он «выразил отчаяние века». Одна из них – «Фредерик и Бержеретта» (1838) – едва ли не больше других перекликается с «Жизелью». Поиски личного счастья, тщетные в условиях парижской действительности; гризетка – носительница идеала любви; ее самопожертвование, верность до гроба любви – черты образа Бержеретты. Ее возлюбленный Фредерик – типичный молодой человек своего времени, увековеченный корифеями французской литературы. Законченный себялюбец, воспитанный в сознании, что все продается, все покупается, он губит гризетку, беззаветно полюбившую его, но, «наказанный любовью», испытывает потрясение, открывающее ему глаза на величие души «подруги на час». В Фредерике трудно не узнать одного из прототипов Альберта[10], а в Бержеретте – еще одну «родственницу» Жизели.
Снова возвращаемся к строкам Гейне о парижанках, убитых морально и физически после идиллии «сельского бала» и забытых вчерашними возлюбленными. Готье не понадобилось занимать идеи и образы у Гейне, Гюго, Мюссе или других современников, хотя вольные и невольные совпадения неоспоримы. Сама действительность предлагала художнику слова, музыки, живописи, танца животрепещущую тему, требовавшую отклика. Только яркое выражение волнений и чаяний своего времени, своего народа облекает художника непреходящей властью над сердцами людей, в какие бы одежды он ни рядил замысел. «В лучших произведениях искусства, – писал А. В. Луначарский, – есть застывшие слезы гениев, рыдающих об отдаленности идеала, диктуемого всем существом человеческим». Есть они и в «Жизели». События балета происходят невесть где, во времена легендарного средневековья. А на деле они повествуют о людях Парижа 30-х годов прошлого века. «Жизель» дышит одной из актуальных тем передового искусства и литературы той поры – темой, породившей и «Утраченные иллюзии» Бальзака. Пейзанка Жизель, цыганка Эсмеральда, актриса Корали, гризетка Бержеретта – родные сестры по горькой участи, уготованной им действительностью.
Выходит, что у колыбели балета стоял не один, а по меньшей мере три великих чародея французской поэзии, и каждый из них поделился частицей своих дум, своей художественной магии. Быть может, потому так содержательна система образов балета, что вся его ткань пропитана взволнованной мыслью, порождающей богатство чувств, необходимое музыке и хореографии.
Все это интересно, – скажут ревнители фактов и «судебных улик», – но где достоверные доказательства, где свидетельства очевидцев? Предоставим им слово. В сборнике «Красоты Оперы» Готье опубликовал статью о «Жизели», где немало смысловых и даже словесных совпадений мотивов Гюго и Гейне. Приведу лишь несколько:
У Гюго
Она мертва… в пятнадцать лет…Мертва при выходе из бала…Балы и празднества! Как их она любила!..Вся – воплощение веселья, танца, смеха…Увлеченная вальсом или хороводом, она порхала…У Готье
Умереть в пятнадцать лет после того, как побываешь не более чем на ста балах и станцуешь не более двух тысяч вальсов.… она без ума от танца, она ни о чем, кроме него, не думает, она не мечтает ни о чем, кроме балов, нескончаемых вальсов и вальсеров.По розысканиям Бинни, 11 рецензентов «Жизели» сослались для характеристики героини на строчку из «Призраков» Гюго: «Она слишком любила бал, и это ее погубило». Стало быть, такая ассоциация без чьей-либо подсказки возникала у зрителей спектакля, не знавших, что думал Готье об этих стихах. Друг Адана и Готье, редактор «Музыкальной Франции» Эскюдье, в рецензии сослался на текст предания из «Флорентийских ночей», содержащий размышления Гейне о парижанках – вилисах.
Так рождается лейттема балета, сцепляющая воедино разрозненные факты и освещающая их изнутри. Ее раскрывает тирада Готье, предваряющая трагическую развязку I акта – «…вещь, которую меньше всего прощают на земле, это счастье. Людям прощают, что они богаты, могущественны, знамениты, – все, только не то, что они счастливы…». Чем это не парафраза из гейневских писем о Франции?
Сошлемся еще на одного свидетеля – Р. Вагнера. Он отрецензировал постановку «Жизели» в немецкой газете не слишком благосклонно и безусловно несправедливо. Но и здесь те же ассоциации вилис с парижанками – любительницами балов и т. п. «Теперь у нас есть немецкий балет… и это немецкий поэт Генрих Гейне дал его идею… Для его легенды, полной фантазии, французы нашли особо подходящим жанр балета. В самом деле, какой удобный случай загробная страсть вилис представляет для того, чтобы придать значение нескончаемым пируэтам и сверхчувственным антраша. Чтобы сделать правдоподобным танцующего убийцу, сочинитель счел выгодным перенести действие в окрестности Бреславля, но не Парижа… Как это должно быть любопытно в Силезии, в Тюрингии, в соседних с ними местах! Мы же, немцы, не нуждаемся в услугах «вилис»; одного бала в Гранд-Опера в Париже достаточно, чтобы бросить нас в объятия смерти из-за танца».
Для нашего понимания «Жизели» драгоценна реплика Берлиоза, у которого явилось желание создать балет. В 1347 году он писал Готье: «Жюльен поручил мне просить у Вас либретто балета, красивого, грациозного, блистательного и антибуржуазного, какими Вы умеете их делать». На парижской сцене XIX века «Жизель» и впрямь была самым антимещанским, самым гуманистическим, самым прогрессивным творением балетного театра – в этом источник его непреходящих сил. Приехав в Париж, юный Гейне заявил: «Я верю, что из сердечных глубин своей новой жизни Франция вызовет и новое искусство». Одно из прекрасных творений этого нового искусства – балет «Жизель».
Глава II
Перро, гризи и «Жизель»
Кто наделил поэзией танца замысел сценаристов «Жизели»? Кому мы обязаны волшебством ее хореографии? На афишах и программах балета в Мариинском театре упомянут один Петипа. Считалось, что французскую «Жизель» создал балетмейстер Ж. Коралли, русскую – М. Петипа, и этим вопрос исчерпывался. Лишь в 30-е годы изучение других спектаклей, свидетельства современников (в том числе Адана и Бурнонвиля) и документов эпохи позволили увидеть едва ли не главного балетмейстера «Жизели» – последнего великого танцовщика Франции XIX века, передового деятеля романтической хореографии, талантливого балетного драматурга Жюля Перро. Он, оказывается, участвовал в сочинении «Жизели», начиная с формирования замысла, ему принадлежит, может быть, самая важная, решающая часть хореографии спектакля. Тогда-то советская литература о балете обогатилась новыми данными о Перро[11], а его имя появилось рядом с Петипа в программах и афишах «Жизели» на ленинградской, а позже и московской сценах.
Биография Перро, изобилующая драматическими событиями, типична для судьбы прогрессивного художника в обществе его времени. Они (обстоятельства рождения «Жизели» особо) содержат, если угодно, готовый сюжет романа или кинофильма. Отсутствие книги, целиком посвященной Перро и его творениям, вынуждает напомнить некоторые моменты его биографии, имеющие отношение к «Жизели».
Перро родился в Лионе 18 августа 1810 года в семье машиниста театра. С 7 лет занимался в танцевальном классе, с 10 – пародировал Мазюрье, прославленного во Франции мима, прыгуна, акробата, мастера веселых проделок полишинеля, в 13 лет соперничал с ним в театре Гетэ на парижских Бульварах, в 16 танцевал в пантомимах и балетах на сцене театра Порт Сен-Мартен, учился в классе великого Вестриса.
23 июня 1830 года Перро дебютировал в Опере и вскоре стал партнером Марии Тальони. 14 марта 1831 года для них возобновили балет Дидло «Зефир и Флора». Печать называла Перро братом Тальони по танцам. «Его считали идеалом танцовщика», – вспоминал Бурнонвиль, соученик Перро.
«Замечательный танцовщик, истинный образец полу-характерного танцовщика, с одинаковым успехом исполнял terre a terre’ные движения, сильные па и большие полеты. Трудно было верить, что это один и тот же человек, один и тот же исполнитель», – рассказывал Л. Адис, артист, педагог, участник премьеры «Жизели». И все освещалось изнутри верностью образу – характеру. Вскоре Перро становится всеевропейской знаменитостью. Тем не менее положение его оставляло желать лучшего.
В 1831 году Опера сделалась частным предприятием и вопрос о ее доходах – решающим. Директором Оперы стал доктор Верон – буржуа по рождению, предприниматель по призванию и профессии. Он считал себя материалистом. Мы же назовем «материализм» Верона бесстыдным цинизмом дельца, который хорошо изучил общество, чтобы составить своеобразный прейскурант на человеческие достоинства, таланты, добродетели и пороки. В нем отражен весь мир – от банкиров Перье и Лафитта, содержащих короля и спекулирующих на Франции, до последнего буржуа, который считает, что «все продажно – человек либо покупает, либо продается» (Бальзак). Борьба художественных тенденций не интересует Верона. «Как фармацевт Верон изобрел лекарство против кашля, как директор – средство против музыки. «Великий» Верон и широкая публика прекрасно поняли друг друга. Имя Верона будет вечно в летописях музыки. Он украсил храм богини, но ее самое выгнал за дверь», – язвительно констатировал Гейне.
С этого времени, рассказывает мемуарист, «богатая буржуазия избрала своим местопребыванием Оперу, там она стала преемницей знатных фамилий и великих имен аристократии. Партер Оперы – «осиное гнездо повес» (Бальзак). Верон против серьезной тематики и содержательности спектаклей: «Я убежден, что балеты-пьесы никогда не будут иметь большого успеха». Он пришел к выводу, что «драмы, картины нравов не принадлежат к жилищу Терпсихоры», высший свет требует прежде всего экстравагантных костюмов, предельного сценического разнообразия, эффектных декораций, трюков, чудо-превращений и наипростейшего сюжета, дающего хорошие предлоги для выигрышных ситуаций и танцев. Все должно быть окутано очарованием молодой красивой танцовщицы, которая танцует легче, а главное, иначе, чем ее предшественницы. Публика хочет больше всего разнообразия. Остальное неважно. «Чем балет глупее, тем больше он имеет успеха», – замечает «Gaselte des arts» 16 июля 1835 года. Верон не выдумал эту программу. Она сложилась в кассе Оперы, чутко откликающейся на малейшие отступления от заказов наиболее платежеспособной части посетителей балетных представлений. Поэтому рядом с «Сильфидой» – спектаклем, казалось бы, определяющим направление творческих поисков, – появляется «Восстание в серале» с Тальони и Перро в главных ролях – глупая, шумная, роскошная феерия; рядом с «Девой Дуная» – исковерканная шекспировская «Буря» – снова феерия с новой красавицей-танцовщицей. Поэтому, в частности, Верон не слишком дорожит несравненным Перро.
«Танцовщики умерли! – восклицает балетоман. – Мир их праху!». Перро, по словам Готье, был последним танцовщиком, которому прощали, что он мужчина. Но это не устраивало Перро. Он морщился от разностилия, беспринципности, благоглупости постановок, отвечавших требованиям Верона. Ему претили спектакли, служившие лишь рамой для очередного портрета «божественной Марии», где мужчина нужен как носильщик балерины в дуэте, мимист и участник вставных дивертисментов. В отличие от большинства собратьев по профессии Перро всю жизнь занимался самообразованием – быстро освоил английский и немецкий языки, а позже – русский, изучал мировую литературу, живопись, музыку. В его балетах виден широкий круг поэтических вдохновителей. Гюго и Байрон, бр. Гримм и Ламот Фуке, Лопе де Вега и Вальтер Скотт, Делакруа и Л. Робер оплодотворяли его замыслы и танцевальные образы. Все настойчивей требовал он от дирекции оценки его таланта наравне с балеринами, избегал ничтожных партий, хотел пробовать силы в качестве балетмейстера, часто брал длительные отпуска для гастролей за границей. К началу 1835 года Опера отказывается от услуг Перро. В 24 года перед ним закрываются ее двери.
Конечно, Перро не грозила безработица. Но другие театры уступали Опере по своим возможностям. Только балетная столица Европы той поры – Париж давал полное признание художнику танца.
По рассказу балетомана Шарля де Буаня, «Перро искал окольный путь, подземный ход для возвращения в Оперу». Вернуться в Оперу, создавать балеты, достойные его представления танцовщика и драматурга, – эта мысль овладела всем существом Перро. Де Буань утверждал, что Перро нашел способ проникнуть в Оперу, когда встретился на сцене неаполитанского театра Сан-Карло с 14-летней Карлоттой Гризи. С 7 лет она училась в Милане, в 10 стала солисткой детского кордебалета Ла Скала, одновременно пела, и ей прочили оперную карьеру (знаменитая европейская певица Джулия Гризи – двоюродная сестра Карлотты). Де Буань уверяет, что Перро сделал Гризи главной ставкой в своей борьбе за Оперу, рисует артиста по своему образу и подобию дельцом, циником, способным поставить на карту чужую молодость, красоту, для которого жизнь – сделка с совестью и честью. Перро понимал волчьи законы буржуазного общества, но не собирался им покоряться; в этом один из источников большой драмы художника. Он воспользовался Гризи не как орудием мести, не как пропуском в парижскую Оперу – в том и другом он еще не нуждался (их знакомство состоялось в 1833 г., когда Перро еще не ушел из Оперы). Пигмалион захотел вылепить статую по высшим законам красоты. А вылепив, влюбился в Галатею всерьез. Была ли то любовь с первого взгляда или она разгоралась постепенно в одиноком человеке, большом артисте, искавшем достойную партнершу, с которой можно делить мировую славу? Любовь зажгла страсть творчества, какой он, быть может, и не испытал бы, принесла ему счастливые дни и одновременно исковеркала жизнь – сценическую и личную. С присущей Перро энергией он принимается за совершенствование таланта Гризи. 7 марта 1836 года начались их выступления в Лондоне, продолжавшиеся до конца сезона – 6 августа. Время побеждать парижан искусством Гризи еще не пришло, а условия в лондонском театре не благоприятствовали его развитию. 29 сентября 1836 года начинаются гастроли Перро и Гризи в Вене. Успех возрастает. Гризи исполняет роли в балетах, танцует Сильфиду. В июле 1837 года Опера вступает в переговоры с Перро о возвращении в театр. 5 сентября Гризи выступает на сцене Комической оперы. Но дирекция Оперы хочет видеть Перро без Гризи, а он требует приглашения и ее. 8 марта 1838 года Перро уезжает в Вену, где ставит свой первый балет «Кобольд»; Гризи отныне именуется мадам Перро. В октябре чету Перро видит театр Ла Скала. С ноября по февраль они выступают в театре Сан-Карло.