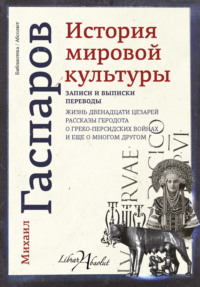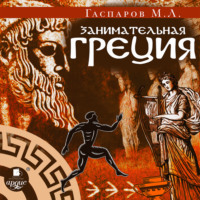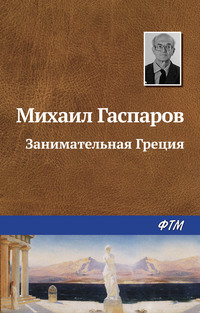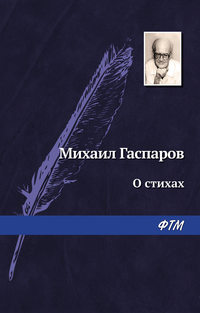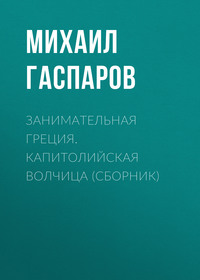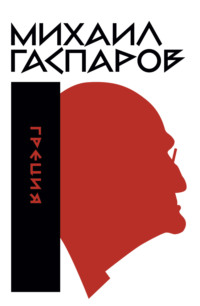Полная версия
Собрание сочинений в шести томах. Т. 2: Рим / После Рима
P. S. Статья была написана как предисловие к изданию полного русского Вергилия (М., 1979) в переводах С. Шервинского, С. Ошерова и др. Как сказано, русский Вергилий не нашел своего Гнедича: даже лучшие стихотворные переводы делают его безошибочный стиль то слишком тяжелым, то слишком легким. Поэтому я избегал цитат, а при необходимости давал их в прозе. Я никогда не занимался Вергилием специально и хотел только обобщить взгляды на него современной западной науки; но от такого обобщения в них многое перестроилось, и мне приходится брать ответственность и за целое, и за частности.
ВЕРГИЛИЙ И ВЕРГИЛИАНСКИЕ ЦЕНТОНЫ
ПОЭТИКА ФОРМУЛ И ПОЭТИКА РЕМИНИСЦЕНЦИЙ
Текст дается по изданию: Памятники книжного эпоса / Отв. ред. Е. М. Мелетинский. М.: Наука, 1978. С. 190–211. Статья подготовлена в соавторстве с Е. Г. Рузиной.
1Когда М. Парри и А. Лорд выступили со своей теорией о Гомере – певце-импровизаторе30, одним из самых неоспоримых их доводов было сравнение гомеровских поэм с писанными поэмами зрелой античности – «Аргонавтикой» Аполлония Родосского и «Энеидой» Вергилия. Ни одна из них не имела столько формульных повторов, ни одна из них не избегала в такой степени переносов со строки на строку, как гомеровские поэмы. Это были произведения, предполагавшие индивидуального автора и индивидуального читателя. Индивидуальному автору не требовался такой набор готовых деталей для монтажа текста на глазах у публики; индивидуальному читателю не требовался такой набор стандартных оборотов, чтобы догадаться о смысле недослышанного стиха. Эта перемена внешних форм существования поэм повлекла за собой и перемену внутренней их формы: индивидуализацию лиц и действий, детализацию событий, продуманную композицию перекличек между словами и образами. В совокупности это означало разницу между устной поэзией эпохи разложения родового строя и становления городов-государств, с одной стороны, и книжной поэзией эпохи разложения городов-государств и становления единой средиземноморской империи – с другой.
Однако никакое противоречие не бывает абсолютным. Аргументируя, Парри и Лорд прекрасно помнили, что и у Аполлония, и в «Энеиде» встречаются повторяющиеся стихи и еще чаще – части стихов, и понимали, что причин этому по крайней мере три: во-первых, подражание Гомеру, по-прежнему почитавшемуся образцом всякого большого эпоса; во-вторых, условия языка, который сам подсказывал такое-то расположение слов на таких-то метрических позициях; в-третьих, сознательное использование более поздним поэтом стихов и полустиший более ранних поэтов. Это «в-третьих» показывало больше всего сходства и больше всего разницы между старой и новой поэзией. Там перед нами была поэтика формул – здесь перед нами поэтика реминисценций.
Поэтика формул – предел безличности, поэтика реминисценций – предел индивидуальности в поэзии. Формула – всегда ничья, реминисценция – всегда чья-то. Используя формулы, певец-импровизатор как бы подчеркивает, что его песня такая же, как все, что это струя одной большой реки. Используя реминисценции, поэт-литератор как бы подчеркивает, что его стихи особые, что это отдельный ручеек, текущий из такого-то источника. Источником реминисценции могут быть (в самом «чистом» случае) отдельный поэт, поэтический жанр, поэтическая школа; точная грань между реминисценцией и формулой трудноустановима. Реминисценция может быть подчеркнута или, наоборот, затушевана, может ощущаться резко (особенно современниками) или слабо (преимущественно потомками), может быть употреблена сознательно или неосознанно (это, конечно, всегда особенно трудно решить).
Как с поэтикой формул мы сталкиваемся не только в античном, но и в любом устном эпическом творчестве, так и с поэтикой реминисценций мы сталкиваемся не только в античной, но и в новой литературе. В русской литературе впервые обратил внимание на это С. П. Бобров31; на эту тему М. О. Гершензон задумывал статью под броским названием «Плагиаты Пушкина»32; В. В. Виноградов подробно осветил их место в стилистической системе Пушкина33. Так, пушкинская строка «…Как гений чистой красоты» представляет собой реминисценцию из Жуковского («О гений чистой красоты» в стихотворении «Я музу юную, бывало…»), строка из «Стансов» «Языком сердца говорю» – из Державина («Языком сердца говорил» в стихотворении «Лебедь»); для современников это были прямые указания на те традиции, на фоне которых должны были восприниматься пушкинские стихи и выявляться гораздо более тонкие особенности пушкинского подхода к теме, чем это было бы возможно без такого фона. Так, ломоносовский стих «Великолепной колесницей» влечет за собою целую вереницу реминисценций: «Или великолепным цугом» (Державин), «Великолепные дубравы», «Великолепная могила», «Великолепными коврами», «Великолепные альбомы» (Пушкин), «Великолепные чертоги» (Баратынский), «Великолепными рядами» (Языков). Так, когда Брюсов начинает стихотворение строкой «Осенний день был тускл и скуден», а Северянин – «Весенний день горяч и золот», то реминисценции здесь не вызывают сомнения. Так, А. Белый в строке «Глазами, полными огня» делает примечание: «Строка Лермонтова „С глазами, полными лазурного огня“, перешла в тему Вл. Соловьева „Три свидания“, откуда попала в сокращенном виде в мою поэму», а в строке «Смеясь без мысли и без речи» – лаконичное примечание «Стих А. Блока» (имеются в виду стихи 1902 года: «…Она без мысли и без речи на том смеется берегу»; любопытно, что и здесь Блок был не источником, а посредником, потому что еще у А. Григорьева мы находим: «…Да и вечер нужен нам, чтоб без мысли и без речи верный счет вести часам»). Так, О. Мандельштам в стихотворение «Я изучил науку расставанья» без всяких сносок вставляет ахматовскую строчку «Как беличья распластанная шкурка», предоставляя расшифровывать эту реминисценцию читателю.
Таким образом, поэтика реминисценций рассчитана на целую систему ассоциаций, возникающих в уме читателя, знакомого с данной литературной традицией. Старые слова появляются перед ним в новом контексте, а от этого и сами они окрашиваются в новые тона и контекст получает новое, добавочное осмысление. Насколько ощутима эта разница контекстов, насколько новый контекст уподобляется старому или, наоборот, контрастирует с ним, зависит от художественного задания, стоящего перед поэтом.
2Гекзаметр никогда не был в латинской словесности стихом устной народной поэзии. Гекзаметр ввел в римскую литературу Энний (239–169 годы до н. э.), написал этим размером «Анналы» («Летопись») в 18 книгах – стихотворное изложение римской истории от Энеевых времен до своего времени. После этого монументального труда гекзаметр стал обычным стихом римского эпоса. К сожалению, ни «Анналы», ни последующие поэмы того же жанра, писанные во II–I веках до н. э., не сохранились; для нас римский эпос начинается с дидактической поэмы Лукреция «О природе вещей» и с героической поэмы Вергилия «Энеида».
Не будучи стихом устной поэзии, гекзаметр не мог стать источником поэзии формул; он сразу стал источником поэзии реминисценций. От поэмы Энния дошло до нас около 600 стихов – по сравнению с обычными крохами, остающимися нам от несохранившихся произведений античной литературы, это очень много. Такой удачей мы обязаны античным комментаторам Вергилия – прежде всего Сервию (в краткой и расширенной редакции) и Макробию, писавшим в V веке н. э. Среди грамматических замечаний, разъяснительных комментариев и критических оценок в этих сочинениях содержится много указаний на «источники»: «стих такой-то (или полустишие такое-то) заимствован из Энния», «этот оборот – энниевский», «этот эпизод представляет собой подражание Эннию» и т. п. Понятие «подражание» толковалось в древности очень растяжимо: так, вся IV книга «Энеиды», по краткому выражению Сервия, была «перенесена» в поэму Вергилием из «Аргонавтики» Аполлония Родосского только потому, что у Аполлония описывается любовь Медеи к Ясону, а у Вергилия – любовь Дидоны к Энею. Немудрено, что при таком подходе один из ранних критиков Вергилия набрал целых восемь книг «похищенного» Вергилием у Гомера и других поэтов (это сочинение до нас не дошло).
Но даже если не считать таких преувеличенно щепетильных трактовок, античные комментаторы дают нам большой материал по эннианским реминисценциям Вергилия. В том, что эти заимствования были вполне сознательны, античные критики не сомневались: уже Сенека, всего лишь одним поколением отделенный от Вергилия, решительно утверждал, что Вергилий вставлял в свои стихи старинные слова, «для того чтобы Энниев народ почувствовал в новых стихах родную древность» («К Луцилию», 223)34.
Для самих античных комментаторов мотивировка заимствований всегда была одинакова: «улучшение» несовершенных, по новым вкусам, стихов старинных поэтов. Так, потешавший потомков стих Энния (140)
Страх нагоняя, труба «таратантара» гулко гремелаВергилий переделал так (IX, 503):
В страх повергая, труба гремела гулкою медью35.Одно место Энния могло дать материал для двух мест Вергилия, ср. у Энния (192):
Ныне врагов, вином укрощенных и сном погребенных…и у Вергилия (II, 265 и IX, 189; ср. IX, 236):
Все нападают на град, во сне и в вине погребенный…Редко мерцают огни; во сне и вине погребенныйСтан опочил…И наоборот, два схожих места Энния могли дать одну общую реминисценцию у Вергилия, ср. у Энния (161 и 412):
Всех напряжением сил наседает на лестницы войско…Всех напряжением сил воздвигают надгробье и имя…и у Вергилия (XII, 552):
Всех напряжением сил за себя подвизается каждый…Если оборот казался особенно удачным, он мог появиться неоднократно и у Энния, и у Вергилия. Ср. у Энния (224, 277, 439):
Рыщут нумидяне вскачь, от копыт сотрясается поле…Следом затем от звонких копыт сотрясается поле…Конник мчит, и от полых копыт сотрясается поле…и знаменитые звуковой выразительностью строки Вергилия (XI, 875 и VIII, 596):
Топотом быстрых копыт сотрясается взрытое поле…Топотом звонких копыт сотрясается взрытое поле…Иногда за перекличкой Энния и Вергилия можно угадывать какую-то реальную обрядовую формулу, ср. у Энния (54):
Ты, отец Тиберин, с твоим потоком священным…и Вергилия (VIII, 72)
Также и ты, отче Тибр, с твоим потоком священным…Но особенно часто, конечно, общим образцом Энния и Вергилия оказывается Гомер36. Гомеровская формула приходит к Вергилию двойным путем – прямо и через Энния. Ср. у Гомера знаменитую строку (XIII, 131 и др.):
Щит со щитом, шишак с шишаком, человек с человеком…У Энния (572):
Щит задевает о щит, и нога наступает на ногу…У Вергилия (Х, 361):
Сходятся; муж теснит мужа, нога наступает на ногу…У Гомера (многократно):
Гулко на землю он пал, и доспехи на нем загремели…У Энния (415):
Пал, и доспехи, в которых он был, на нем загремели…У Вергилия (Х, 488):
Пал он на рану свою, и на нем загремели доспехи…К сожалению, весь этот обширный свод эннианских реминисценций, оставленный нам комментаторами Вергилия, лишен самого интересного для нас материала – указаний на контексты, в которых находятся энниевские отрывки. Правда, обычно указывается номер книги, так что можно приблизительно прикинуть, идет ли речь о событиях времен Ромула, Камилла или Сципиона; но ближайшего текстового окружения отрывка мы лишены и поэтому не можем судить, сходными или, наоборот, контрастными контекстуальными ассоциациями сопровождается реминисценция. Лишь предположительно можно думать, что Вергилий стремился скорее к уподоблению, чем к контрасту: большинство эннианских реминисценций находится во второй половине поэмы, где основное содержание – битвы, а дополнительное – описание Эвандрова царства, тех мест, где впоследствии будет основан Рим.
Такое впечатление подтверждается еще одной аналогией. Как известно, в самой «Энеиде» тоже есть повторяющиеся стихи и полустишия37; по подсчету Э. Альбрехта, дословно повторено 50 стихов (и еще 11, которые Альбрехт считает «неподлинными»), с незначительными изменениями – 62 стиха (и 7 «неподлинных»). Контрастных контекстов здесь нет, все ситуации, описанные в повторах, более или менее аналогичны друг другу.
Важнее здесь другое: 112 повторенных стихов на все десять тысяч стихов «Энеиды» – это ничтожно мало. Вдобавок почти ни один из этих 112 стихов не повторяется более двух раз (тройной повтор только один: II, 775 – III, 153 – VIII, 35). Тех «дежурных» стихов-формул, на которых строится гомеровский эпос, здесь нет. Вергилий сознательно заботится о разнообразии стиха. «Даже заря у него восходит каждый раз по-разному», – было сказано кем-то из исследователей. Это не совсем точно: одно повторение стиха про зарю у Вергилия есть (IV, 129 – XI, 1). Но в другом месте, действительно, Вергилий нарочно разнообразит напрашивающееся повторение стихов – в IV, 119: «Явит утро Титан и землю изменит лучами», в V, 65: «Явит Аврора день и землю изменит лучами». Подобных случаев много.
Таким образом, если для формульной поэтики Гомера повтор – норма, а отступление от повтора – отступление от нормы, выделительное средство, то для Вергилия наоборот: разнообразие – норма, а на его фоне повтор – выделительное средство.
В этом легко убедиться, сравнив контексты его повторов. Из 50 стиховых повторов в «Энеиде» только пять раз повторяются не разрозненные строки, а группы из двух-трех строк, и все эти пять повторений совпадают с сюжетно важными моментами. III, 163 и сл. = I, 530 и сл. – это Гелен пророчествует Энею прибытие в Италию, и это Эней повторяет пророчество Гелена, впервые встречаясь с Дидоной и представляя ей себя и своих спутников. III, 390 = VIII, 43 и сл. – это Гелен пророчествует Энею основание Рима на том месте, где будет найдена белая свинья с 30 поросятами, и это бог Тиберин повторяет Энею то же пророчество, после чего Эней находит свинью и приносит ее в жертву. IV, 285 и сл. = VIII, 20 и сл. – это размышления Энея на двух важнейших поворотах его судьбы: перед тем как покинуть Дидонин Карфаген и перед тем как обратиться за помощью к Эвандру, царю тех мест, где встанет Рим. IV, 584 и сл. = IX, 459 и сл. – это восходит заря в два по-разному трудных дня: в день бегства Энея от Дидоны и в день боя троянцев с латинами в отсутствие Энея (ср. также IV, 129 = XI, 1). Наконец, Х, 114 и сл. = IX, 105 и сл. – это две клятвы Юпитера: сперва – перед Кибелой, о превращении троянских кораблей в нимф, потом – перед всеми богами, о невмешательстве богов в войну троянцев с латинами. Когда повторяются не двух-трехстишия, а отдельные стихи, такая перекличка встречается, конечно, реже, но все же встречается: так, в повторе III, 459 = VI, 892 перекликаются пророчество Гелена и пророчество Сивиллы. Когда повторяются стихи не полностью тождественные, а слегка видоизмененные, картина та же: например, V, 657 = IX, 14–15 – это Юнона дважды посылает Ириду, чтобы навлечь несчастья на троянцев: сперва к троянкам, потом к Турну.
Иными словами, немногочисленные повторы в «Энеиде» – это не формулы, а автореминисценции, так же как ее совпадения с Эннием были не формулами, а реминисценциями. Вергилий рассчитывает на памятливого читателя, который, встретив повторенный стих, вспомнит более или менее отчетливо, что он уже встречался у Энния или в той же «Энеиде», и, может быть, припомнит контекст38.
Но это требование – необязательное. Можно быть уверенными, что и в древности, и в средние века, и в Новое время подавляющее большинство читателей Вергилия читали его стихи, не задумываясь над «точным адресом» его реминисценций, и это им нисколько не мешало. Поэтика реминисценций еще далеко не доведена здесь до своего логического предела. Этого предела она достигнет в особом жанре, расцвет которого приходится на много более позднее время, но тоже связан с именем Вергилия. Этот жанр – центоны.
3Слово «центон» буквально значит «лоскутная ткань», «сшитое из разных кусков одеяло», «покрывало», «плащ», «матрас» и т. п. В литературе оно приобрело значение: «стихотворение, составленное из стихов или частей стихов уже существующих произведений одного или разных авторов». В традиционной теории литературы центон рассматривается исключительно как поэтическая забава или курьез. Примеры центонов в новоевропейской литературе единичны и имеют обычно шуточное содержание. «Словарь древней и новой поэзии» Н. Остолопова (1821) приводит пример итальянского центона из стихов Петрарки. А. П. Квятковский в «Поэтическом словаре» (1966) упоминает анонимный русский центон из басен Крылова и четверостишие Н. О. Лернера:
Лысый, с белой бородою, (Никитин)Старый русский великан (Лермонтов)С догарессой молодою (Пушкин)Упадает на диван. (Некрасов)К этому можно прибавить эпиграмму на А. Жарова из первого издания «Записок поэта» И. Сельвинского (1928):
Буду петь, буду петь, буду петь (Есенин)Многоярусный корпус завода (Блок)И кобылок в просторе свободы, (Некрасов)Чтоб на блоке до Блока вскрипеть. (Кирсанов)Это, пожалуй, и все, чем располагает русская поэзия и поэтика в области центонов.
Причина такого отношения к центонам понятна. Поэтика нового времени, особенно начиная с эпохи предромантизма и романтизма, видела в поэзии «исповедь души» поэта, излияние его индивидуальных (или считавшихся индивидуальными) чувств; индивидуальные чувства требовали индивидуальных средств, «собственного слова», а центон представлял собой нечто прямо противоположное – набор чужих слов39.
Но так было не всегда. Было время и была обстановка, когда форма центона пользовалась в литературе интересом и уважением. Это время поздней античности, это обстановка греческих и римских риторических школ первых веков нашей эры, это культ классики и подражаний классике. В греческих риторских школах образцовым считался такой оратор, который мог произнести речь в стиле 500–700-летней давности на «классическом» аттическом языке того времени. В римских риторских школах, где культурная традиция не уходила в такую глубокую даль, образцом считался такой мастер, который знал Вергилия наизусть или почти наизусть и мог продемонстрировать это знание на опыте. Естественным доказательством такого знания и мог быть центон из стихов и полустиший Вергилия.
Любопытно, что в греческой школьной культуре, где Гомера читали и почитали не меньше, чем в Риме – Вергилия, подобного увлечения центонами не было. Известен маленький центон о спуске Геракла в подземное царство, написанный известным лионским епископом Иренеем (II век н. э.)40; о больших гомеровских центонах сведений нет, а когда в византийскую эпоху появляется трагедия-центон «Христос страждущий» (XI–XII века; но долго держалось мнение, что она была написана в IV веке Григорием Назианзином), то это центон не из Гомера, а из Еврипида. Объяснение здесь, по-видимому, простое: составлять центоны из Гомера было (или было бы) слишком легко – так много в нем готовых формул, пригодных и обильно используемых для любых тем. Это лишало составителей удовольствия «борьбы с материалом», а читателей-слушателей – удовольствия вспоминать «точный адрес» каждого фрагмента.
Первый известный латинский центон из стихов Вергилия относится к III веку н. э. Тертуллиан («О наставлении язычников», 39) пишет: «Ты видишь, как в наши дни из Вергилия составляются совершенно новые стихи… наконец, Госидий Гета сумел высосать из Вергилия целую трагедию „Медея“». С этой трагедией мы еще встретимся.
Первая сохранившаяся теоретическая апология центона принадлежит крупнейшему поэту IV века Авсонию. Посвящая написанный им большой центон своему другу Павлу Аксию (368 год н. э.?), Авсоний пишет:
…Прими же это сочинение, сделанное из несвязного связным, из разнородного единым, из важного забавным, из чужого нашим… Если тебе угодно, чтобы я, неученый, научил тебя тому, что такое центон, то скажу вот что. Из разных мест с разным смыслом складывается строение некоторой песни так, чтобы в каждом стихе сочетались два отрезка или чтобы стих следовал за стихом, взятые не подряд; давать же два стиха подряд – это уже слишком убого, а три подряд – вовсе смехотворно… Пусть стихи различного смысла получают единый, пусть заемные куски кажутся исконными, пусть ничто постороннее не просвечивает, пусть собранное не обнаруживает натяжки, не сбивается слишком тесно, не зияет слишком размашисто41.
Таким образом, по Авсонию, два требования, предъявляемые к хорошему центону, таковы: складываемые отрывки должны как можно дальше отстоять друг от друга в исходном тексте и как можно меньше походить по содержанию; третье требование: они должны складываться в подлинном своем виде, без каких-либо изменений – подразумевается само собой.
Обстоятельства сочинения Авсониева центона описаны им очень игриво. При дворе императора Валентиниана, где Авсоний служил воспитателем наследника, справлялась чья-то свадьба; сам император снизошел до того, чтобы сочинить эпиталамий в честь этой свадьбы, а потом предложил Авсонию в порядке литературного соревнования сделать то же. Авсоний оказался в деликатном положении: написать лучше императора было рискованно, а написать хуже императора было, по-видимому, очень трудно. Поэтому он, просидев, по его словам, над заданием один день и одну ночь, поднес императору свой центон, в котором не было ни одного своего слова: таким образом, все достоинства его могли быть отнесены на счет Вергилия, а все недостатки – на счет Авсония. Центон содержит 131 стих и делится на обычные части эпиталамических произведений: «Вступление», «Брачный пир», «Описание входящей невесты», «Описание входящего жениха», «Поднесение даров», «Славословие новобрачным», «Вступление в опочивальню» и, наконец, «Дефлорация»; этот последний раздел (в обычных литературных эпиталамиях, конечно, отсутствующий) введен явно лишь для того, чтобы продемонстрировать, до каких пределов может доходить центонное переосмысление исходного материала – стихи целомудреннейшего из поэтов, Вергилия, служат для разработки непристойнейшей темы. На всякий случай Авсоний предпосылает этому разделу маленькое «Отступление» в прозе, чтобы сослаться на обычаи древних и чтобы предложить: «Кто не хочет, пусть дальше не читает».
Разумеется, такие громоздкие центоны, как трагедия Госидия Геты, и такие изысканно сложные, как эпиталамий Авсония, могли появиться лишь в результате большого опыта предшествующих центонистов, накопленного по крайней мере в течение нескольких поколений. Но до нас этот материал не дошел. В нашем разборе техники вергилианских центонов рассмотрены лишь следующие сохранившиеся произведения:
1) «Брачный центон» Авсония, описанный выше;
2) двенадцать центонов из так называемой «Латинской антологии», составленной в начале VI века;
3) «Вергилианский центон по Ветхому и Новому Завету» поэтессы Фальтонии Пробы (начало V века).
Содержание и обстоятельства возникновения «Брачного центона» описаны выше.
Двенадцать центонов «Латинской антологии» дошли до нас следующим образом. В 524–534 годах в вандальской Африке был составлен большой сборник эпиграмм и небольших поэм, преимущественно поздней античности. В VII–VIII веках он был переписан в Европе; эта рукопись была открыта в XVII веке французским филологом Клавдием Салмазием (Клодом Сомэзом) и издана в XVIII веке Петром Бурманном; часто она называется «Салмазиевой антологией»42. Антология состояла из 23 книг (очень неравной величины); первые шесть с половиной книг не сохранились, рукопись начинается с середины VII книги. Именно эта книга и содержала вергилианские центоны: № 7. «О пекаре» (сохранился лишь конец), № 8. «Об игре в кости» (112 стихов), № 9. «Нарцисс» (16 ст.), № 10. «Суд Париса» (42 ст., конец поврежден), № 11. «Гипподамия» (162 ст.), № 12. «Геркулес и Антей» (16 ст.), № 13. «Прокна и Филомела» (24 ст.), № 14. «Европа» (34 ст.), № 15. «Алкестида» (162 ст.), № 16. «О церкви» (110 ст.), № 17. «Медея» (трагедия Госидия Геты, 461 ст.), № 18. «Эпиталамий Фриду» (68 ст.). «Суд Париса» и, по-видимому, «О церкви» принадлежат автору по имени Маворций (может быть, тождествен с тем грамматиком начала VI века Маворцием, который выпустил издание Горация). «Эпиталамий Фриду» принадлежит Луксорию43, даровитому поэту вандальской Африки, широко представленному и в других книгах «Антологии». Остальные центоны безымянны. Большинство их, как видим, трактует мифологические сюжеты, меньшинство – нарочито немифологические («Об игре в кости», «О церкви»).
Центон Пробы, знатной римской дамы, связанной с двором императора Гонория44, примыкает по содержанию к тем стихотворным пересказам Библии, которые были в моде у христианских поэтов V–VI веков («Пасхальная поэма» Седулия, «Духовная история» Авита, «Книга евангелий» Ювенка, «Деяния апостолов» Аратора и др.). В ее поэме 685 стихов, разделенных на 23 главы «Из Ветхого Завета» (в том числе «Обращение к господу», «О сотворении мира», «Об отделении света от тьмы», «О красотах рая», «Об искушении от змия», «Совращенная Ева совращает мужа», «Господь разгневан и мстит роду людскому», «Всемирный потоп и спасение Ноя», «Завет, данный людям после потопа»; дальнейших ветхозаветных событий Проба не касается) и 25 глав «Из Нового Завета» («Обращение к господу», «О рождестве Христовом», «Страх Ирода и желание убить младенца», «Дева с младенцем бежит в Египет», «Господь набирает себе учеников, наставляет их, за ними следует народ», «Наставляет учеников, говорит о грядущем суде» и т. д. до «Наставления Христа апостолам» и «Вознесения Христа на небо»).