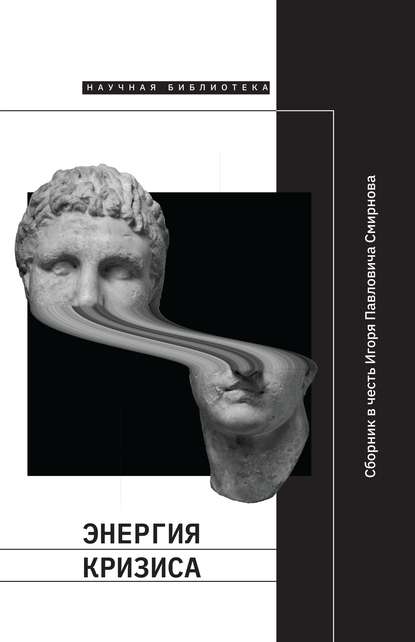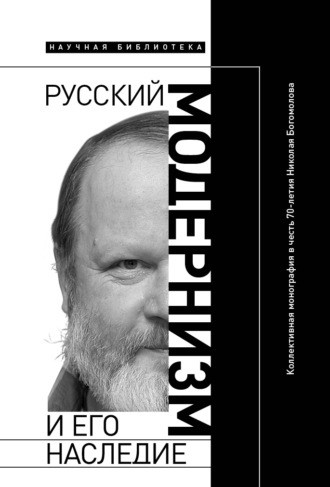
Полная версия
Русский модернизм и его наследие. Коллективная монография в честь 70-летия Н. А. Богомолова
Эксплуатацию тем, сюжетов и мотивов из различных источников можно отметить уже в гимназических стихотворениях. Это и прямые переводы из мировой поэзии (Гейне, Гете, Гораций, А. Доде86, Ю. Кернер, А. Мюссе, Т. Тассо, Карл Эгон фон Эберт), и стихотворные переложения различных легенд и мифов (античных, буддийских, индуистских, библейских, евангельских, мусульманских и т. д.) и подражания им. Иногда основу стихотворных произведений составляют хрестоматийные тексты, изучавшиеся в гимназическом курсе, в стилистической переработке, образной, просодической и жанровой перекодировке. На фоне наивной эпигонской лирики Мережковского-гимназиста эти поэтические переводы-переложения выглядят подчас более профессионально.
Прежде всего отметим небольшой круг текстов, связанных с чтением и разбором «Метаморфоз» Овидия на занятиях латынью у замечательного латиниста Э. Э. Кесслера в пятом классе. Среди гимназических опусов сохранилось три поэтических текста, имеющих отношение к изложению мифа о Фаэтоне во второй книге этой поэмы. Первый – стихотворение под заглавием «Климена и Элиады»87, которое можно соотнести со ст. 333–366; второй текст под заглавием «Горесть Климены»88, являющийся сокращенной переработкой первого стихотворения (соотносится со ст. 333–339); третий – стихотворный перевод начала второй книги (ст. 1–11)89.
Стихотворение «Горесть Климены» Мережковской определил как «подражание». Стихотворение скорее выдержано в ключе эпических поэм Гомера, чем в лаконичной, как бы недосказанной манере Овидия, и более чем в два раза по объему превышает фрагмент подлинника за счет привнесения эмоциональных эпитетов и драматических подробностей, отсутствующих в оригинале90:
ГОРЕСТЬ КЛИМЕНЫ (Подражание Овидию) …Грустно, с слезами Климена, свершивши молитвы,Горю такому приличные, стала отыскивать тело.Или хоть кости драгие погибшего милого сына.Шла она долго в печали безумной, рыдая и плача,Перси и кудри свои и одежду терзая всечастно.Раз подошла она к брегу реки чужеземной,Камень могильный стоял на песке там, и кости лежали,И Фаэтона священное имя на нем прочитавши,С криком ужасным она на земле распласталась недвижно.С страстной любовью над камнем могильным склонилась Климена,Вместе с блаженством и с мукою милое имя читала,Белые перси открывши, она прижимала к нему их,С воплем отчаянья мрамор могильный, немой, безответныйПламенной грудью ласкала и грела в объятиях теплых.Мертвые кости она целовала так долго, так страстно,Как не целует любовница друга в минуту восторгов…Еще дальше от оригинала отстоит стихотворение «Нарцисс»91, написанное Мережковским через год. Сюжет из третьей книги «Метаморфоз» здесь сильно редуцирован: эпизоды о рождении Нарцисса и о неразделенной любви к нему нимфы Эхо отсутствуют, изменена стилистика и просодия – и по сути дела перед нами самостоятельная стихотворная версия древнегреческого мифа.
К отдельной группе гимназических «переводов» и «переделок» следует отнести крупные произведения на былинные сюжеты. Они были написаны Мережковским в пятом и шестом классах, когда на уроках русской словесности изучались и разбирались произведения устного народного творчества. На эти же годы, судя по всему, как раз приходится пик интереса поэта к фольклору и мифологии. Среди его поэтических опусов этого времени, кроме переложения библейских и евангельских сюжетов, сур из Корана, античных и восточных мифов, встречаются также стихотворные изложения греческих и татарских народных легенд и поверий, которые гимназист собирал во время поездок по Крыму, как раз в средних классах гимназии.
Самая близкая имитация былинного текста – «Песня про Илейку да Добрынюшку, про братцев названных»92. Она написана былинным стихом, с использованием былинной лексики и представляет собой контаминацию нескольких былинных сюжетов о русских богатырях. Автор в то время был в шестом классе, и именно в курсе шестого класса гимназисты разбирали былины об Илье Муромце93. Тогда же было написано и построенное на фольклорных образах, с имитацией былинной просодии стихотворение «Дуб»94.
Если «Песню про Илейку…» можно назвать «подражанием», то к другим текстам на былинные сюжеты это слово применить сложно. Так, невозможно назвать имитацией былинного текста стихотворение «Святогор»95. Хоть оно и имеет подзаголовок «былина» и сюжет его отсылает к тексту былины «Святогор и Илья Муромец», но и ритмически, и стилистически стихотворение по сути дела является балладой. Еще большей трансформации подвергнуты былинные тексты о Соловье Будимировиче в стихотворении «Песнь о Будимире»96, которое имеет тот же подзаголовок, но в нем не только не соблюден былинный размер, но и сам текст (контаминация нескольких сюжетов) переработан в сентиментально-романтическом ключе.
И уже чисто литературным переложением является стихотворение «Михайло Пóтык»97. Текст былины, под заглавием «Поток Михайло Иванович», мог быть известен Мережковскому из хрестоматии П. Полевого98, которая предлагалась для старших классов третьей гимназии по программе словесности99. Но Мережковский использует только имя героя былины (в беловом автографе отсылая к былинному названию100) и ее зачин. Сам же мистический сюжет, с языческим мотивом совместного погребения умершей коварной жены-оборотня, по имени Авдотьюшка Лиховидьевна, и ее живого супруга, богатыря Михайло Потыка, осложненный сказочным мотивом сражения под землей со змеем (драконом) и мотивом воскрешения, – все это остается за пределами стихотворения. Зачин же до неузнаваемости модифицирован и олитературен (с отсылкой к эпизоду из «Сказки о царе Салтане» Пушкина). Несколько былинных строк об охоте Михайло оформляются в объемный законченный эротический текст – о любви богатыря и лебедя, предваряющий нарратив известного позднего стихотворения Мережковского «Леда», источник которого имеет совсем другой локус.
МИХАЙЛО ПÓТЫКВыезжал Михайло ПóтыкПо родным степям гулятьИ для князя серых уток,Белых лебедей стрелять.Богатырь в дубраве едет;А вокруг Господень рай:И цветет, и зеленеет,И поет роскошный май…Много гаму в чаще свежей,Пышет негою цветок,Жук гудит, ручей лепечет,Дышит влажный ветерок.Близко взморье, вечер рдеет,Орумянилась листва,Меж стволов сиянье брызжет,И мелькает синева.Наконец простор великийВесь раскрылся перед ним, —Вскрикнул, шапку снял Михайло,Стал глядеть он недвижим…Сколько красок переливных,Сколько чудной ширины!Солнце алое заходитВ лоно синей глубины;Теплых заводей изгибыКамышом обрамлены;И едва-едва-то слышенПолусонный бред волны…Видит Пóтык по кристаллуСреброструйных светлых вод,Величаво колыхаясь,Лебедь белая плывет.Лебедь белая в коронку,В золотую, убралась,Шея стройно перегнулась,Грудь высоко поднялась.Все-то, все в ней так приглядно,Что не может краше быть.Захотелося МихайлеЭту лебедь раздобыть!..«Ты, лебедка, пригодишьсяКняженецкому столу!» —Мыслил Пóтык, на тугой лукОн накладывал стрелу.Но раздался звук чудесный,Яркой трелью прозвенел,Голос песнею небесной,Изнывая, полетел!..Это ль голос лебединый?Полн призывом и мольбой,Полон былию старинной,И отрадой, и тоской.Вон рои прибрежных лилийПризадумалися вдруг;И головки наклонилиОт блаженства и от мук.Вон спешит лучом последнимЗорька лебедь приласкать;Стала звездочка, бледнея,От восторга трепетать…Жадно, жадно Пóтык внемлет,Разгорелися глаза,А уста полуоткрыты,Блещет сладкая слеза…И давным-давно скатиласьСтрелка меткая из рук,На песок скользнул прибрежныйБогатырский мощный лук.Песня смолкла; Пóтык вздрогнул;В изумрудных камышахЧто-то близко зашуршало,Заплескалося в струях…И спрыгнул с коня Михайло,В воду он ступил ногой.Встречу лебедь забелелаГрудью выгнутой, крутой.И коронка золотаяБлещет скатным жемчугом.И на белых крыльях перьяОтливают серебром.Лебедь смотрит на МихайлуИ с доверьем, и с мольбой, —Мощный Пóтык устыдился,Что грозил он ей стрелой…И взаправду ль это лебедь?Что же сердце так дрожит,Новым чувством изнывает,Рвется, молит и кипит?Богатырь склонился тихо,Шею птицы обнял вдруг…И она, ласкаясь, еюОбвила его вокруг.И восторгом, и надеждойУпоен и опьянен:«Ох! Рассыпьтесь злые чары!»Вне себя воскликнул он…И о чудо! ПроскользнулоМежду рук его в тот миг,Будто тело молодое,И раздался резвый крик.Дева юная стоялаПеред ним в нагой красе.Стан волшебный скрыт стыдливоВ русой, шелковой косе.Над челом корона блещет,Губки рдеют и горятБлагодарною улыбкой;Много чудного сулят!..А уж в очи кто заглянет —Тот как раз сойдет с ума:Так страшит, чарует, мучитИх синеющая тьма.Вдруг в лобзании невольномИх уста, дрожа, слились,Грудь к груди прижалась страстно,Руки жаркие сплелись.Глухоморие пустынно,Вкруг – немая тишинаТолько ночь с небес струится,Бредит сонная волна…Кроме былинных сюжетов, для балладных жанров Мережковский использовал и переложение исторических сюжетов также из гимназической программы. Так, источником стихотворения «Молчан Митьков» явился сюжет из третьей главы («Продолжение царствования Иоанна Грозного») «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина:
Однако ж и в сие время и на сих пирах убийственных, еще слышался иногда голос человеческий, вырывались слова великодушной смелости. Муж храбрый именем Молчан Митьков, нудимый Иоанном выпить чашу крепкого меда, воскликнул в горести: «О Царь! Ты велишь нам вместе с тобою пить мед, смешанный с кровию наших братьев, Христиан правоверных!» Иоанн вонзил в него свой острый жезл. Митьков перекрестился и с молитвою умер101.
Приведем текст стихотворения:
МОЛЧАН МИТЬКОВТо гром ли адской цепи, иль кубков грешный звон,То песни ли хмельные, иль Руси тяжкий стон.Сегодня льешь ты вина, о грозный Иоанн,Как лил ты кровь недавно и слезы христиан.Парча, жемчуг и злато в сиянье свеч горят,И яствами сверкают столы меж колоннад.Царь много выпил кубков, да мед-то не хмелён.Ах крови, жаркой крови давно вновь жаждал он.Зачем же вся дружина от меда от тогоВ хмельном бреду не видит, не слышит ничего.Один меж них не весел, с поникшей головой.То славный витязь Митьков, боярин молодой.Ужели не по вкусу шипучий царский мед,Уж не измена ль злая боярина грызет.С змеиною улыбой царь кравчего позвал,Боярину свой кубок отдать он приказал.И мед ему с поклоном был кравчим поднесен,И Митьков принял чашу и встал, не дрогнув, он.Лишь волей неизменной сверкнул прекрасный взор,В нем юная отвага и гордый в нем укор.«О царь, твой кубок страшен, твой мед окровавлён.Сожжет отравой адской мне грудь, пожалуй, он».И кубок брошен на пол – катился и звенел.И вскрикнул царь от гнева, и весь он посинел.И поднялась на воздух дрожащая рука,И свиснув над главами, вонзилась в грудь клюка.Боярин покачнулся, но крик он подавил.И знамением крестным себя он осенил.Он падал, холодея, струей лилася кровь,Но с шепотом предсмертным приподнялся он вновь.«О царь, прости раба ты и злом не вспоминай,Тебя люблю и чту я, теперь ты все узнай.Иду молить пред небом за нашего царя.О Русь, о Русь, как сладко погибнуть за тебя»102.Главы из «Истории», касающиеся царствования Ивана Грозного, проходили в курсе русской словесности и в курсе русской истории в шестом классе103. На сюжет из времен Ивана Грозного тогда же была написана и большая оригинальная баллада Мережковского – «Дочь боярина Матвея»104, в стиле исторических баллад А. К. Толстого. Следует заметить, что тематика и стиль «russe» всех этих гимназических творений совершенно не соответствуют вектору поэзии зрелого Мережковского105.
Еще одним примером перекодировки жанра является обнаруженный нами загадочный поэтический опус юного Мережковского, замысел которого, как оказалось, также восходил к ученическим занятиям.
В одной из тетрадей, под названием «Юношеские опыты. Стихи и проза. Д. Мережковский. 1880», относящейся к пятому-шестому классам, среди незаконченных набросков поэтических произведений сохранилось начало стихотворной драмы, героем которой был знаменитый нидерландский художник Питер Пауль Рубенс и его не менее знаменитые ученики Антонис ван Дейк, Теодор ван Тульден (здесь транскрибирован как Ван-Тульдис) и Якоб Йорданс (здесь в транскрипции: Жорденс). Приведем весь фрагмент целиком:
ПОГИБШИЙ ГЕНИЙМонастырь около Мадрида. В нем Рубенс с своими учениками перед картиной, изображающей умирающего схимника; в стороне перед Мадонной молится какой-то монах.
I РубенсВан-Дейк, Ван-Тульдис – все скорей ко мне,Хочу вам диво показать я, дети.Я небу благодарен, что забрелСюда, по узкой лесенке на хоры.Взгляните, тут в пыли и в паутинеСозданье чудное таится скромно,Создание, которому должно быБлистать над миром славою безмерной.Взгляните, что за краски, что за кисть,Взгляните, сколько вдохновенья дышит —Высокой страсти, чудного огня —На этом позабытом полотне.А этот взор спокойны<й> величавый,Он жжет мне душу пламенем небесным.Весь мир моих созданий, светлых, ярких,Роскошных, юных, полных упоенья,Мне кажется ребячески-ничтожнымПред взглядом полумертвого монаха,Где столько жизни, бесконечной жизни,Где блещет луч блаженства неземного.Друзья, мне кажется, что нужно больше,Чем вдохновенья смертного, чтоб быть творцомПодобного бессмертного созданья.Да! Жажда совершенства, что давноМеня томила тайным жгучим ядом,Я чувствую, теперь утолена.О дети, как счастлив я упиватьсяНедосягаемой красою этой.О дети, я блажен теперь вполне. Ван-ДейкНо кто ж творец картины этой дивной? ЖорденсВот здесь монах какой-то пред МадоннойПрилежно молится, я попрошу егоПозвать приора – тот наверно скажет.Прикажешь ли учитель? РубенсПоскорей,Мой милый Жорденс, сам я позабылТворца, его твореньем восхищенный. Жорденс (обращаясь к монаху)Честной отец, простите мне, что яМолитву вашу перервать осмелюсь,Чтоб вы приора к нам бы попросили:Имеем важное к нему мы дело. МонахСиньор, тотчас исполню вашу просьбу.(Уходит.)II РубенсЯ человек, как все, пожалуй, завистьБыла бы мне доступна, но клянусьПеред божественным созданьем этимБезумно было бы завидовать, ведь <я>Не вздумал бы соперничать в сияньеЧудесных красок с радугой небеснойИль с солнцем ослепительно блестящим.Итак, я свету должен возвратитьВеликий гений, чудом ПровиденьяСпасаешь ты избранников своих.(Входит приор.)106На этой ремарке текст обрывается. Попытки откомментировать этот отрывок, т. е. найти источник и восстановить замысел незаконченной драмы, казалось, были обречены на неудачу. Поиски по названию драмы и по библиографиям литературы о Рубенсе результатов не дали. Разрешить эту эвристическую задачу помог фронтальный просмотр гимназических материалов.
В одной из общих тетрадей Мережковского-пятиклассника107, с заданиями по различным предметам, имеется черновой набросок прозаического текста на французском языке, крайне неразборчивый и грязный, с таким количеством правок и ошибок, что прочитать и понять его смысл, казалось, невозможно. Первое предположение было, что это extemporale – т. е. распространенный в гимназии тип письменных переводов без подготовки какого-то русского текста на древние или новые языки (в данном случае на французский). Никаких ассоциаций при расшифровке названия, написанного сразу с несколькими ошибками («Le chefdœuvre anonime» вместо «Le chef-d’œuvre anonyme»), также не возникло. Неоднократно возвращаясь к этому грязному черновику, с недописанными словами и прерванными на середине предложениями, удалось прочесть несколько первых фраз:
Un jour, <нрзб.> entrant [en] un couvent dans les environs de Madrid remarque un tableau qui le frappa du premier coup d’oeil par sa beauté extraordinaire. Il resta sans mot dire en regardant avec admiration et avec veneration les traits sombres à moitié effaces du tableau. Après quelques moments de silence il poussa un cri d’admiration…108
Отмеченное неразборчивое слово было именем собственным, но поверх него было вписано и вымарано жирными чернилами другое слово, под которым можно было условно разобрать только первые буквы, которые читались как «Ku». Однако прочитанное слово «Madrid» вызвало в памяти набросок детской драмы, что позволило скорее догадаться, чем прочитать имя собственное. Это было коряво написанное слово «Rubens».
С большой долей вероятности можно было предположить, что текст, легший в основу этого черновика, был источником наброска стихотворной драмы «Погибший гений», а французский текст, как мы первоначально предположили, являлся переводом какого-то русского текста, под условным названием «Безымянный (анонимный) шедевр».
Источник удалось найти, обратившись к «Программе по французскому языку», сохранившейся в фонде третьей гимназии. Работа в пятом классе выглядит таким образом (корявость стиля объясняется тем, что программу писал не носитель русского языка):
В 5 классе:
I. Французская грамматика Ноэля и Шапсаля с русским переводом Гуро повторяется вполне в течение года, частями более или менее обширными, по мере трудности, излагается учениками свободно в виде ответов на вопросы, при объяснении примеров, то по-французски, то по-русски.
II. Перевод с французского на русский язык Levrier et Demménie. Narrations с приготовлением по книге по 2 номера всякий раз, а потом (после 30-го) один только номер, но с повторением 2‐х или 3‐х номеров из предшествующих. Ученики или рассказывают их наизусть, или пишут по-французски (minimum 1 новый номер) или более или менее свободно или с помощью вопросов без перевода, или с русским переводом.
III. C русского на французский язык Басистова Хрестоматия (курс II) каждый раз по ½ стран<ицы>. Ученик должен приискивать слова, записывать их в особенную тетрадь и затем заучивать наизусть109.
Прежде всего нас заинтересовала упомянутая русская хрестоматия П. Е. Басистова «Для разборов и письменных упражнений», поскольку именно тексты из нее, по полстраницы в день, предлагалось переводить с русского языка на французский. Хрестоматия эта вышла в 1868 году, а впоследствии переиздавалась, исправлялась и дополнялась. Однако просмотр всех восьми изданий, которыми мог пользоваться Мережковский на уроках в пятом классе, не привел к разрешению загадки. Никакого текста про анонимный шедевр там не было.
Книга, указанная в первом пункте программы, учебник «Французской грамматики» Ноэля и Шапсаля110, содержала грамматические правила и упражнения. Законченных текстов для переводов там не было.
Во втором пункте программы, как нам сначала показалось, речь идет о переводе французских текстов на русский язык. Здесь маловразумительно сказано, что каждый ученик к занятию по французскому языку должен подготовить перевод с французского на русский «двух номеров» (т. е., вероятно, двух текстов) из учебного пособия под названием «Narrations». Однако далее ученикам предлагалось выучить наизусть «один номер» (что, скорее всего, относилось к какому-то поэтическому произведению) или подготовить письменный свободный пересказ одного «номера» – т. е. какого-то одного «повествования» («narration»). Именно так, вероятно, можно было понять фразу: «более или менее свободно пишут по-французски (minimum 1 новый номер)».
Если предположить, что грязный черновик французского текста мог быть не переводом с русского на французский (как мы полагали), а наброском письменного пересказа французского текста, в духе тех изложений, которые практиковались на языковых уроках в третьей гимназии, то его источник мог находиться среди указанных «narrations».
Сокращенная запись учебного пособия расшифровывается как издание: Narrations et exercices de mémoire en prose et en verse ou Choix de morceaux propres a faciliter l’étude pratique de la langue française / Par H. Demmenie et J. Levrier111. И в этой хрестоматии, на с. 118–120, была обнаружена та самая новелла, под названием «Le chef-d’œuvre anonyme», которую пятиклассник Мережковский выбрал для французского изложения. Приведем текст новеллы, чтобы восстановить сюжет недописанной драмы о Рубенсе.
LE CHEF-D’ŒUVRE ANONYMEUn jour, Rubens, parcourant les environs de Madrid, entra dans un couvent de règle fort austère, et remarqua, non sans surprise, dans le chœur pauvre et humble du monastère, un tableau qui révélait le talent le plus sublime. Cette peinture représentait la mort d’un moine. Rubens appela ses élèves, leur montra le tableau, et tous partagèrent son admiration.
«Et quel peut être l’auteur de cette œuvre?» – demanda Van Dyck, l’élève favori de Rubens.
«Un nom était écrit au bas du tableau, mais on l’a soigneusement efface», – répondit Van Thulden.
Rubens fit engager le prieur à venir lui parler, et demanda au vieux moine le nom de l’artiste auquel il devait son admiration.
«Le peintre n’est plus de ce monde».
«Mort! s’écria Rubens. Mort!.. Et personne ne l’a connu jusqu’ici, personne n’a redit, avec admiration, son nom qui devait être immortel; son nom devant lequel s’effacerait peut-être le mien! Et pourtant, ajouta l’artiste avec un noble orgueil, pourtant, mon père, je suis Paul Rubens».
A ce nom, le visage pâle du prieur s’anima d’une chaleur inconnue. Ses yeux étincelèrent et il attacha sur Rubens des regards où se révélait plus que de la curiosité; mais cette exaltation ne dura qu’un moment. Le moine baissa les yeux, croisa sur sa poitrine les bras qu’il avait élevés vers le ciel dans un moment d’enthousiasme, et il répéta:
«L’artiste n’est plus de ce monde».
«Son nom, mon père, son nom, que je puisse l’apprendre à l’univers, que je puisse lui donner la gloire qui lui est due!» Et Rubens, Van Dyck, Jacques Jordaens, Van Thulden, ses élèves, j’allais presque dire ses rivaux, entouraient le prieur et le suppliaient instamment de leur nommer l’auteur de ce tableau.
Le moine tremblait; une sueur froide coulait de son front sur ses joues amaigries, et ses lèvres se contractaient convulsivement, comme prêtes à révéler le mystère dont il possédait le secret.
«Son nom, son nom?» – répéta Rubens.
Le moine fit de la main un geste solennel.
«Écoutez-moi, dit-il; vous m’avez mal compris. Je vous ai dit que l’auteur de ce tableau n’était plus de ce monde; mais je n’ai point voulu dire qu’il fût mort».
«Il vit! Il vit! Oh! faites-le-nous connaître! faites-le-nous connaître!»
«Il a renoncé aux choses de la terre! il est dans un cloître, il est moine».
«Moine! mon père! moine! Oh! dites-moi dans quel couvent; car il faut qu’il en sorte. Quand Dieu marque un homme du sceau du génie, il ne faut pas que cet homme s’ensevelisse dans la solitude. Dieu lui a donné une mission sublime, il faut qu’il l’accomplisse. Nommez-moi le cloître où il se cache, et j’irai l’en retirer et lui montrer la gloire qui l’attend! S’il me refuse, je lui ferai ordonner par notre Saint-Père le pape de rentrer dans le monde et de reprendre ses pinceaux. Le pape m’aime, mon père! le pape écoutera ma voix».
«Je ne vous dirai ni son nom, ni le cloître où il s’est réfugié, répliqua le moine d’un ton résolu».
«Le pape vous en donnera l’ordre!» – s’écria Rubens exasperé.
«Ecoutez-moi, dit le moine, écoutez-moi, au nom du Ciel! Croyez-vous que cet homme, avant de quitter le monde, avant de renoncer à la fortune et à la gloire, n’ait point fortement lutté contre une résolution semblable? Croyez-vous qu’il n’ait point fallu d’amères déceptions, de cruelles douleurs, pour qu’il reconnût enfin, dit-il en se frappant la poitrine, que tout ici-bas n’est que vanité? Laissez-le donc mourir dans l’asile qu’il a trouvé contre le monde et ses désespoirs. Du reste, vos efforts n’aboutiraient à rien: c’est une tentation dont il resterait victorieux, ajouta-t-il en faisant le signe de la croix; car Dieu ne lui retirera point son aide; Dieu qui dans sa miséricorde, a daigné l’appeler à lui, ne le chassera point de sa présence».
«Mais, mon père, c’est à l’immortalité qu’il renounce».
«L’immortalité n’est rien en présence de l’éternité». Et le moine rabattit son capuchon sur son visage et changea d’entretien de manière à empêcher Rubens d’insister davantage.
Le célèbre Flamand sortit du cloître avec son brillant cortège d’élèves, et tous retournèrent à Madrid, rêveurs et silencieux.
Le prieur, rentré dans sa cellule, se mit à genoux sur la natte de paille qui lui servait de lit, et fit à Dieu une fervente prière.
Ensuite il rassembla des pinceaux, des couleurs et un chevalet gisant dans sa cellule, et les jeta dans la rivière qui passait sous ses fenêtres. Il regarda quelque temps avec mélancolie l’eau qui entraînait ces objets avec elle.
Quand ils eurent disparu, il vint se remettre en oraison sur natte de paille et devant son crucifix de bois.
Перевод АНОНИМНЫЙ ШЕДЕВРОднажды Рубенс, прогуливаясь по пригородам Мадрида, забрел в монастырь, известный своим суровым уставом, и к своему изумлению обнаружил в бедной и весьма скромно украшенной монастырской капелле картину, написанную с высочайшим талантом. Полотно сие изображало смерть монаха. Подозвав учеников, Рубенс показал им картину, и все они разделили его восхищение.
«Но кто же автор сего творения?» – спросил Ван Дейк, любимый ученик Рубенса.