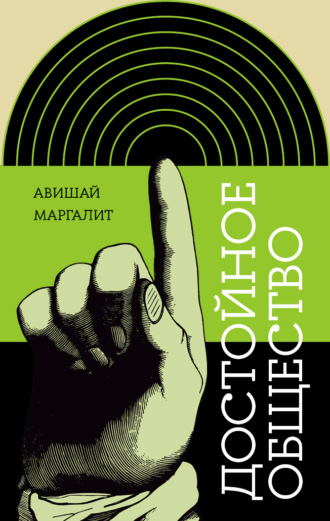
Полная версия
Достойное общество
Одной из таких альтернатив является общество, основанное на строгом понимании долга, но лишенное представления о правах. Тогда вопрос состоит в том, может ли подобное основанное на долге общество выработать понятие унижения. Такое общество могло бы осуждать те или иные формы поведения как унизительные. Оно также могло бы признавать другие типы поведения уважительными по отношению к человеку вообще и требовать от своих членов в качестве социального обязательства поступать друг с другом уважительно. Пока проблем нет. Принятая в обществе система обязанностей определяет то, какого рода поведение тех, кто ими связан, считается унижающим или заслуживающим уважения. Институты, которые не выполняют своих обязательств и не обеспечивают людям должного уважения, воспринимаются как унижающие людей, что исключает общество, в котором есть такие институты, из числа достойных.
Если все так просто, почему мы вообще задаемся вопросом о том, может ли общество, лишенное представления о правах, называться достойным? Трудность заключается в том, что, судя по всему, в обществе, основанном на долге, унижающее поведение не дает своим жертвам достаточного основания для того, чтобы чувствовать себя униженными. Следует предположить, что жертва в подобном случае не имеет права на защиту от унижения. Те люди, которые нарушают существующие в обществе запреты на унижение других людей, не совершают какого-то особого прегрешения в отношении своих жертв – по крайней мере большего, чем по отношению к кому-то другому. Их проступок представляет собой нарушение общественных норм, а не покушение на чьи-то личные права. Парадоксальным образом в обществе, основанном на долге, люди могут совершать действия, унижающие других людей, но никто не может быть унижен.
Представим себе общество, основанное на долге, которое предписывает молодым людям уважать стариков, – ну, скажем, вставать в их присутствии и уступать им место в автобусе. Сам по себе старик какого-то исключительного права на место в автобусе не имеет, но молодые обязаны уступать свои места старикам. А теперь представим, что водителю вменено в обязанность следить за тем, чтобы поведение пассажиров отвечало принятым в обществе нормам. В таком случае конкретный старик, указывающий водителю на то, что ему мешает с комфортом устроиться во время поездки какой-нибудь подросток, отказавшийся уступать место, не обладает привилегированным статусом по отношению к любому другому пассажиру, который укажет водителю на то же самое обстоятельство. Тот факт, что на борту автобуса выказано неуважение к старикам, неоспорим, но конкретного старика, которому никто не уступил места, счесть жертвой неуважения нельзя. Фраза «уважение-к-старости» представляет собой неделимое (синкатегорематическое) словосочетание, так же как слово «розовоперстая» нельзя разделить на розу и перст.
В таком случае можно ли утверждать, что общество, основанное на долге, не дает жертвам унижающего поведения со стороны других людей достаточных основания чувствовать себя униженными? Я так не считаю. Мы предположили, что в обществе, основанном на долге, унижение запрещено. Значит, каждый человек в таком обществе должен уметь распознавать унижающее поведение. Вопрос в том, есть ли у человека, ставшего жертвой подобного поведения, достаточные основания чувствовать себя униженным. Вне всякого сомнения, что-то может вызвать в нем это чувство, но есть ли у него резон для этого, если он даже не в состоянии помыслить, что его права нарушены? Сочетание резона счесть ту или иную форму поведения унижающей с тем фактом, что это поведение вызывает чувство унижения в том человеке, против которого оно направлено, дает жертве хороший резон, а не только причину чувствовать себя униженной. Чувство тогда резонно, когда имеется как основание испытывать подобное чувство вообще, так и причина испытывать его в данной ситуации. Старик, которому никто не уступил место, не просто один из множества пассажиров. Он не просто наблюдатель, в присутствии которого чье-то поведение нарушает необходимое уважение-к-старости. Поскольку речь идет о неподобающем отношении именно к его преклонному возрасту, тот подросток, который позволил себе подобную выходку по отношению к нему, дает ему не только причину, но и резон чувствовать себя униженным.
Может случиться, что этот старик на самом деле не почувствовал себя униженным – может быть, втайне ему даже польстило, что никто не обратил внимания на его истинный возраст и что он выглядит достаточно молодым, чтобы ехать в автобусе стоя, – но что ехавшая в том же автобусе старушка, у которой сидячее место было, не только обратила внимание на то, что подросток ведет себя вызывающе, но и ощутила неуважение по отношению к собственному возрастному статусу. Сможем ли мы в таком случае сказать, что и у нее была не только причина для того, чтобы почувствовать проявленное к ней неуважение, но и резон для этого? В конце концов, общие соображения почувствовать себя задетой здесь есть, и они же являются причиной, по которой старушка может ощутить неуважение к самой себе. Так не будет ли у нее в таком случае резонного основания почувствовать себя обиженной? И в самом деле, у старушки будет резон почувствовать, что то уважение, которым она должна пользоваться в силу преклонного возраста, не было ей оказано, поскольку подросток не уступил старику место, даже несмотря на то, что ей самой по-прежнему есть где сидеть. Но основание у нее не настолько резонное, как у прямой жертвы неподобающего поведения, поскольку она не жертва, а всего лишь возмущенный наблюдатель.
В самом описании этой ситуации, когда старушка чувствует себя задетой тем, что обидели старика, есть оттенок комического. Нарисованная картина может создать впечатление, что речь здесь, в общем-то, идет о пустяках. Однако в истории про обиженную старушку кроется весьма важная проблематика. Унижение, как и замешательство, заразительно. Эту эмоцию мы можем ощущать просто от того, что прониклись ситуацией другого человека, даже если нас самих напрямую никто не унижал. И если мы идентифицируемся с жертвой именно в том, что заставляет ее чувствовать унижение, тогда и у нас появляется резон для того, чтобы тоже ощутить это чувство. Позже мы вернемся к этой теме подробнее.
Этика долга исходит из того, что униженный или оскорбленный человек не находится по отношению к тому, кто его оскорбил, в каком-то особом положении. Обвинить оскорбляющего в том, что его действия нарушают прямое долженствование «Не унижай другого», может каждый. Вопрос состоит в том, может ли подобное долженствование существовать без того, чтобы вместе с ним, так сказать, через черный ход не проникло представление о правах человека. Конечно, можно утверждать, что подобное долженствование может быть обосновано одной только ссылкой на тот факт, что унижение наносит болезненный ущерб интересам жертвы. Невзирая на то, что этика долга адресует требования к моральным агентам только посредством языка долженствования, обоснование этих требований может предполагать понятие о правах, пусть даже понятие это и не будет эксплицитно выражено в самом языке.
Я отдаю себе отчет в том, насколько сильна позиция, согласно которой этика долга не может функционировать без скрыто заложенного в ней понятия о правах. Но вот утверждение о том, что это понятие непременно играет роль в обосновании долга не унижать другого человека, кажется мне сомнительным. Для ясности прибегнем к аналогии. Можно предположить, что гуманистическая этика долга будет включать в себя обязанность избегать жестокости по отношению к животным. Я не считаю, что для того, чтобы обосновать подобное требование, нужно понятие о правах животных. Достаточным основанием может быть уже то, чтó такого рода жестокость говорит о людях, к ней прибегающих, и об обществе, которое позволяет им так вести себя. Такое обоснование вовсе не нуждается в идее прав животных, хотя, возможно, и подразумевает представление о том, что животные могут испытывать боль. То же, видимо, можно сказать и об унижения в рамках этики долга. Основание, на котором покоится требование не унижать другого человека, вне всякого сомнения включает в себя тот факт, что унижение причиняет жертве боль и страдание. Кроме того, оно может включать в себя явственную заинтересованность жертвы в том, чтобы избежать унижения. Но для того чтобы утверждать, что это основание опирается на понятие о правах, недостаточно принимать во внимание интересы жертвы – необходимо также показать, что этот интерес является благом сам по себе. Этика долга может отталкиваться от представления о том, что той вещью, которая есть благо само по себе, является отсутствие унижения, притом что необходимость учитывать интересы жертвы есть всего лишь средство к достижению этой цели. В подобном случае долженствование «Не унижай!» в обществе, основанном на долге, не будет включать в себя понятия о правах.
Итак, мы приходим к выводу, что в обществе, основанном на долге и в то же время не имеющем понятия о правах, возможно не только понятие унижения, но и резонные основания унижение испытать.
Общество, основанное на этике целей, даже если оно не обладает ни понятием о долге, ни о правах, также может предложить нам некий фон, необходимый для того, чтобы выразить идею неунижения, необходимую, в свою очередь, как характеристика достойного общества. Следует с самого начала уяснить, что определение этики, присущей конкретному обществу, через одно понятие, будь то долг, цели или права, как правило, не предполагает, что в данном обществе отсутствуют все остальные понятия. Так, Кант считал, что мы можем достичь цели уважения человеческого в человеке через абсолютное требование категорического императива. Характеристика конкретной этики через некое базовое понятие необходимо для того, чтобы подчеркнуть объяснительный приоритет этого понятия перед всеми прочими. Так, к примеру, в рамках этики долга понятие долга играет существенную роль в объяснении понятия прав, но не наоборот. Однако в настоящем контексте, когда я даю характеристику конкретной этике через некое основное понятие, я действительно подразумеваю, что данная этика не содержит в себе каких-либо иных понятий. Так, если я употребляю выражение «этика долга», я имею в виду, что понятие долга является единственным этическим понятием в ее распоряжении и что эта этика в принципе не включает понятия о правах. А если я говорю об «этике целей», я имею в виду, что она не включает таких понятий, как права или обязанности.
Этика целей основывается на определенном представлении о том месте, которое каждое существо занимает в цепи бытия. Человек является «венцом творения», то есть существом, которое требует особого отношения к себе просто в силу того, каково оно. Любое отношение, которое не отводит Человеку особого места в цепи бытия, является унизительным. Данный тип этики основывается не на долге и не на заповедях, но на личном примере индивида, который воплощает в себе эту этику. В обществе, основанном на этике целей, человек, который унижает других людей, не становится объектом порицания из‐за того, что он нарушил права своих жертв или не выполнил взятые на себя обязательства. Скорее он может стать объектом порицания из‐за того, что вел себя не так, как должен себя вести примерный гражданин. Упрек, адресованный такому человеку, можно было бы сформулировать следующим образом: Альберт Швейцер9 так бы ни за что не поступил. Понятно, что подобное общество может обладать развитым понятием об унижении, а жертвы унижения могут иметь резоны чувствовать себя униженными. Еще раз замечу: все это будет являться следствием не каких-то особых закрепленных за ними прав, а того обстоятельства, что с ними обращались как с существами низшего порядка. Короче говоря, в обществе, основанном на этике целей, аргументы, касающиеся унижения, будут в точности параллельны таковым в обществе, основанном на долге.
Самоуважение: случай Дяди ТомаДядя Том – один из самых популярных примеров хорошего человека, лишенного чувства самоуважения10. Он стал отрицательным символом движения, цель которого – вернуть темнокожим людям человеческое достоинство. Для этого движения Дядя Том являет собой пример библейского раба, который говорит: «Люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю» – и которому следует проколоть ухо. Даже если в той верности, которой наделен Дядя Том, и есть что-то вызывающее в нас эмоциональный отклик, то эту его черту легко сравнить с той верностью, которую пес проявляет по отношению к своему хозяину. Чего здесь точно нет, так это чувства самоуважения. Историю Дяди Тома можно рассказать по-разному, в зависимости от тех целей, которые мы перед собой ставим. Если цель – прояснить отношения между самоуважением и правами, значение имеет различие между двумя проблемами, для каждой из которых эта история может послужить прекрасной иллюстрацией. Одна проблема – это полное отсутствие представления о правах; другая – неспособность эти права отстаивать. Возможный аргумент в пользу внутренней связи между правами и самоуважением состоит в том, что унижение отнюдь не обязательно подразумевает, что нарушены твои права, скорее что ты лишен возможности эти права отстаивать. Дядю Тома можно описать как человека, отдающего себе отчет в том, что его базовые права нарушены, но неспособного настоять на том, чтобы эти права уважались. Однако в его положении попытка настоять на соблюдении своих прав через прямое требование чревата опасностью как для него самого, так и для членов его семьи. И минимальное, что требуется, чтобы настоять на своих правах, – это чувство негодования по отношению к тем людям, которые эти права нарушают. Ожидается, что жертва по крайней мере не будет молча терпеть причиняемое ей зло и человека, который это зло причиняет. В этом смысле Дядя Том выглядит как человек, который терпит условия своего существования, даже отдавая себе отчет в том, что именно с ним происходит. Подобное молчаливое терпение есть психологическое принятие, и тезис заключается в том, что человек, который так себя ведет, лишен самоуважения.
Однако есть и другое прочтение истории Дядя Тома – религиозное. Дядя Том не имеет представления о правах, но у него есть глубокие религиозные убеждения, говорящие ему, что все люди, как черные, так и белые, произошли от Адама, который был создан по образу и подобию Божьему. Таким образом, внутреннее достоинство Тома обретает основание в семейном древе, восходящем к Адаму. Том не переводит сей факт в терминологию права, скажем, в отношении права наследования, закрепленного за каждым из детей Адама. Однако он совершенно уверен в том, что честь, присущая ему как потомку Адама, ничем не уступает той чести, что присуща любому другому человеческому существу. В то же время Дядя Том безропотно принимает все, чего требуют от него хозяева, ибо верит, что на все это есть Божья воля и что его таким образом испытывают. Попытка поставить существующее положение вещей под вопрос была бы проявлением гордыни, а это грех еще более тяжкий, нежели те грехи, что совершают его обидчики. Бунтовать неправильно, поскольку муки страждущих может искупить только Бог.
Следует ли нам заключить, что мировоззрение Тома, глубоко насыщенное искренней и наивной верой, лишено представлений о самоуважении? Есть ли это мировоззрение, в котором отсутствует представление об унижении? Я считаю, что обнаружить у Тома представление об унижении нетрудно. Хозяин обращается с ним так, как не должно делать потомку Адама, их общего предка. Том уверен, что ни с одним существом, созданным по образу и подобию Божьему, так обращаться нельзя. Вопрос, следовательно, состоит не в том, способен ли человек, у которого отсутствует представление о правах человека, выработать понятие об унижении. По-настоящему сложная проблема заключается в следующем: могут ли у Тома, несмотря на полное отсутствие понятия о правах, возникнуть резоны считать себя униженным, которые мы сочли бы достаточными? Более того, если мы не верим в то, что мир есть творение Бога, можем ли мы по-прежнему считать те резоны, по которым Том считает, что его унизили, достаточными?
Джоэл Файнберг полагает, что концепция самоуважения, которая не была бы связана с представлением о правах, попросту невозможна. Или же, скорее, он полагает, что без представления о правах невозможна идея самоуважения, удовлетворительная с нашей точки зрения, и, соответственно, невозможна концепция унижения, которую мы бы сочли здравой. Нас интересуют не те резоны, которые Дядя Том счел бы необходимыми и достаточными, но те, которые таковыми сочтем мы. «Мы» в данном случае включает каждого, чья концепция морали исходит из гуманистического допущения, что единственным основанием морали является человек. Таким образом, я понимаю проблему, поставленную Файнбергом, как вопрос о том, может ли человек, исходящий из гуманистической концепции морали, обладать представлением о самоуважении или об унижении, которое не основывалось бы при этом на понятии о правах, и на этот вопрос я уже ответил утвердительно. Как этика долга, так и этика целей могут дать почву для формирования представлений о самоуважении и унижении.
Но даже и в контексте этики прав Дядя Том являет собой проблему. Права суть интересы – пусть и особого рода, но тем не менее не перестающие от этого быть интересами. И какова бы ни была природа этих интересов, уважать другого человека – в любом случае значит придавать его интересам соответствующий вес, по крайней мере подобающим интересам. Озабоченность людей тем, чтобы их уважали, отчасти представляет собой беспокойство о том, чтобы уважали их интересы, чтобы их соблюдали и защищали. Интересами Дядя Том, несомненно, обладает, вот только совершенно о них не заботится. Вопрос, следовательно, состоит в том, может ли обладать чувством самоуважения человек, который не заботится о своих интересах.
На первый взгляд, здесь мы сталкиваемся с парадоксом. Если интерес есть предмет заботы со стороны индивида, то как (с чисто логической точки зрения) возможно, чтобы индивид не заботился о том, что его заботит? Но парадокс этот чисто внешний. Вопрос о том, как кто-то может не заботиться о том, что его заботит, является ложным, поскольку заботы суть вещи, которые должны заботить человека, но нет никакой необходимости в том, чтобы он в действительности был ими озабочен. Заботы не следует путать с предпочтениями, и когда между этими двумя понятиями мы полагаем логическую границу, парадокс исчезает сам собой. Остается только проблема, связанная с тем, как человек может испытывать уважение к себе, если он не заботится о тех вещах, которые должны его заботить. Представляется, что подобные люди пренебрегают самыми важными своими заботами, а именно тем, уважаются их интересы другими людьми или нет. Всякий индивид, лишенный такого вторичного интереса, лишен и самоуважения.
Если судить Дядю Тома с гуманистической точки зрения, мы вынуждены будем заключить, что самоуважением он не обладает. Но описав его как искренне верующего, мы получим портрет человека, наделенного весьма очевидным чувством собственного достоинства. Так от чего же нам следует отказаться: от гуманистических предпосылок или от идеи, что Дядя Том обладает чувством собственного достоинства несмотря на всю свою сервильность?
Попытка описать глубоко христианский внутренний мир Дяди Тома будет в чем-то похожа на попытку описать внутренний мир раба, который одновременно является мудрецом в стоическом смысле этого слова. Стоический «внутренний» мир, равно как и «внутренний» мир христианский, представляет собой часть стратегии по сохранению чувства собственного достоинства в тяжких внешних условиях. Однако все это суррогаты, которые не следует использовать как основание для достойного общества.
Права как необходимое условие для уваженияКакого рода права – если такие права вообще существуют – могут создать необходимые условия для самоуважения или для того, что может быть названо чувством собственного достоинства? Или, выражаясь иначе, нарушение каких прав дает достаточные условия для того, чтобы человек испытал чувство унижения?
Права человека суть естественные кандидаты на эту роль. Это права моральные, то есть права, основание которых имеет моральный характер. Права суть интересы, и в тех случаях, когда эти интересы являются благими в себе и по своей природе, права носят характер моральный. Права человека суть права, которыми в равной степени обладает любой человек по праву рождения. Обоснованием прав человека является то обстоятельство, что они предназначены защищать человеческое достоинство. Конечно, предпринимались попытки обосновать права человека и другими способами. Например, в них можно увидеть минимально необходимое условие человеческой свободы действия, без которой человека невозможно считать моральным агентом. Но если исходить из этого обоснования, то права человека перестают быть благом в себе и по своей природе и превращаются всего лишь в средство достижения чего-то другого, что действительно является благом, в данном случае способности быть моральным агентом. И наоборот, если права человека обосновать непосредственно как интерес, лежащий в основании человеческого достоинства, эти права превращаются в благо в себе и по своей природе. С представленной здесь точки зрения права человека рассматриваются как гарантия человеческого достоинства. Права человека суть «симптомы» в контексте этики, основанной на правах человека, по которым можно опознать чувство человеческого достоинства.
Что мы можем сказать относительно общества, которое уважает права человека, но нарушает другие права людей в обществе – скажем, права гражданские? Можно ли считать подобное общество достойным? Для того чтобы внести ясность, приведем пример из области гражданских прав. Общее право быть гражданином относится к правам человека, но это не обязательно означает право на то, чтобы быть гражданином в конкретном обществе, в котором человек существует в данный момент. Общество, которое отнимает гражданские права у индивида, имеющего право быть гражданином этого общества, нарушает его человеческие права. Наш вопрос, однако, касается такого общества, которое не отнимает у людей права на гражданство, но попирает их гражданские права. Примером гражданского права, которое не относится при этом к правам человека, является право голосовать. Если общество лишает женщин этого права (как то имело место в Швейцарии вплоть до недавнего времени), оно ведет себя недостойно. Не предоставляя женщинам права на голосование, оно демонстрирует, что считает их не вполне взрослыми людьми и, следовательно, людьми не вполне.
Разные общества предлагают разные способы быть человеком. Нарушение гражданских прав может нанести существенный ущерб способности людей к выражению собственной человечности в том виде, в каком она сформирована данным обществом, и тем самым унижает людей. Поэтому тот факт, что в данном конкретном обществе принято чтить права человека, нельзя счесть достаточным основанием для того, чтобы это общество можно было назвать достойным, поскольку это общество вполне в состоянии унижать своих членов именно в их гражданском статусе, не нарушая при этом прав человека.
Глава 3
Честь
Достойное общество есть общество, которое не унижает своих граждан. Но какой термин мы можем использовать в качестве антонима к унижению? До сих пор мы обозначали противоположный полюс этой дихотомии, пользуясь словом «самоуважение». Но этот термин достаточно расплывчатый, да и само по себе достойное общество можно описать разными способами. Давайте попытаемся вычленить из этого множества самое подходящее понятие, которое можно было противопоставить унижению.
Одно из таких понятий требует предварительного разъяснения. Это понятие чести в самом простом и привычном смысле слова. Имеет смысл предположить, что достойным обществом может называться такое общество, в котором каждому человеку оказывается подобающий ему почет. Поскольку я свожу понятие достойного общества к тому, как ведут себя институты, то достойным обществом здесь следует именовать такое общество, чьи институты оказывают всем людям подобающий им почет. Понятие чести (honor) я намереваюсь скорее реабилитировать и вернуть в политический дискурс, нежели полагать его неким пережитком прошлого. Но в таком случае почему бы не попытаться определить достойное общество непосредственно на языке чести?
Необходимо различать между собой два смысла, в которых может употребляться словосочетание «подобающий почет». Один связан с распределением почета, и вопрос состоит в том, достается ли каждому честно заслуженная доля почитания. Другой смысл словосочетания «подобающий почет» связан с тем, как мы сами оцениваем этот почет, и вопрос заключается в том, воздается ли он по делам. Так, например, общество воинов может воздавать должный почет всем воинам в том смысле, что никого из тех, кто внес свой вклад в войны, которые ведет это общество, не обошли почестями. Каждый боец награждается почетом соответственно вкладу в общее дело. Почет, причитающийся бойцам, не оказывается тем, кто в войнах не участвовал. Здесь не может быть увешанных медалями генералов, которые привыкли принимать парады, но никогда не нюхали пороху и не участвовали в настоящих боях. Такое общество каждому воздает подобающий ему почет, но это вовсе не означает, что свойственные этому обществу представления о чести обладают в наших глазах какой-то ценностью. Напротив, мы можем счесть их абсолютно извращенными. Общество, которое должным образом распределяет то, что не заслуживает доброго к себе отношения, подобно шайке бандитов, которые делят добычу по справедливости, в полном мире и согласии между собой. Распределение справедливо, но сама добыча морально неприемлема.






