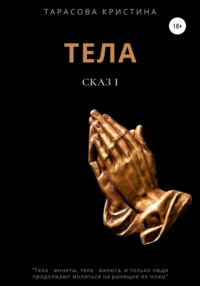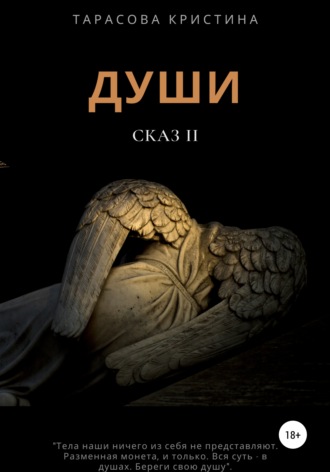
Полная версия
Души. Сказ 2

Кристина Тарасова
Души. Сказ 2
Девушка
Я счастливая.
Так утверждали встречаемые на жизненном пути лица, что в последующем огорчали, подтрунивая над невидимым счастьем. И только один из знакомых залатал на сердце разошедшиеся швы. Предпринял попытку того.
Девочка услужливо интересуется, не нужна ли мне помощь. Помощь! Отворачиваюсь, оставляя робкое лицо без ответа. И себя оставляя с тревогой. Волнение капиллярами расползается по телу – бьёт по коленям и сводит где-то под грудью. Что там?
Я боялась.
Не этого ли я хотела? Несколькими днями ранее не ощущала ничего кроме «ничего», а ещё ранее – ничего кроме обиды. Когда над тобой берёт власть равнодушная тоска, начинаешь опасаться собственных мыслей. И прислушиваться к ним же. Но они гладкие, вычурные, полые. Недосягаемые пустоты, что издеваются над носителем черт, присыпая былой эмоциональностью и выгружая поперёк неё зияющий крест. Тебя страшит отсутствие страха. Сейчас же я вновь боюсь обстоятельств внешних, позабыв об ударах собственного сердца и ещё недавно ласкающего равнодушия.
– Простите, но Хозяин не велел называть имена, – говорит девочка.
Отмечаю её вежливое обращение. За день до этого подобные речи не смели касаться меня, а пренебрежительно-животный взгляд иных упирался в спину.
– Я принадлежу к слугам господина, имя которого также не велено называть, – не унимается юная особа.
Должно быть, пытается утешить или снять с себя кройки вины. Да…так и есть: не желает вражды меж слугой и хозяйкой. Хозяин же… – змея! – напоследок решил извести. Впрыснул яд и оставил на солнце.
– А если я велю отвечать и немедленно? Ослушаешься наказа госпожи?
Об этом зыбкий девичий ум не позаботился (не стал себя утруждать).
– Можешь не отвечать, – подвожу я и окидываю девочку спесивым взглядом.
А сама погружаюсь в приведшие к тому обстоятельства и, готова поклясться, слышу царапающий стены вой. Собственный плач: ненасытный, глубокий, глупый. В коридоре, меж спальными комнатами и красным балдахином, где в ночь до этого оказалась впервой. Ян не обманул – всё было впереди: и ад включительно.
Ману склонилась надо мной и, встряхнув за плечи, велела посмотреть в глаза. Ласковое «птичка» отпружинило с бордовых губ, бордовый отпечаток прижёг щёку.
– Ну же, птичка, – промурлыкала женщина. – Еще секундочку и заканчивай. Что за беда?
– Слезам нужны минуты, трауру – вечность, – сказала я и послушно поднялась.
– Он обидел тебя? – воскликнула Ману (лицо её приняло боевые очертания: нос насупился, губы сжались).
Я хотела утаить все эти переживания, но – кольнув единой мыслью – разрыдалась. Этого и достаточно. Соринки, смещающей на весах незыблемости чашу в иную сторону. Ты выдерживаешь пласты гнёта, как вдруг является соринка.
– Он обидел тебя, Луна? – аккуратно спросила Ману и после того уверено хмыкнула. – Моя ты девочка…
Вместо ответа я слабо кивнула.
Некоторые слова не могут быть сказаны, некоторые мысли не могут быть озвучены; и ответы на них – робкие, постыдные – являются вечными заложниками грустно-сложенных век.
– Бо! ну конечно…! – затрепетала женщина и обняла меня ещё раз.
Колючие дреды пощекотали плечи, а разгорячённая от волнения (оказывается! хотя повадки её внешне отстранены и безучастны) щека прижалась к моей.
– Вот я ему устрою… – вздохнула Ману и вмиг отстранилась. – Да, Луночка? Зададим этому Божку! Ты говорила Папочке? Немедленно, в кабинет!
Команда посыпалась за командой, мысль посыпалась за мыслью, и вот я уже волоклась следом за фигуристым женским станом.
Взахлёб умоляла Ману остановиться, но женщина по обыкновению своему не давала сказать ни слова. У кабинета я врезалась меж напористой женской грудью и закрытой дверью. И ещё раз попросила усмирить пыл, кинув неловкое:
– Это и есть Ян.
Поначалу женщина глянула на меня отстранённо – без понимания, но с провокацией, после – с осознанием и скупым осуждением, ещё дальше – с жалостью и тоской. Возможно, её раздосадовало, что я назвала Хозяина по имени. Возможно, это подбило её только в первые секунды, а следом – неловкое осмысление моих действ.
Ян и только Ян явился причиной солёных щёк.
– Он не любит слёзы, Луна, – сказала Ману и сделала шаг в сторону. – Этим ты ничего не добьёшься.
– Я не пытаюсь. Слёзы – лишь импульс.
– Для мужчин, птичка, слёзы есть ужас, замешательство и смятение. А для Папочки – призыв к отчуждённости и последующему наказанию. Мужчины принимают слёзы только вместе с просьбами о защите. Если мужчины виновники слёз – давись ими самостоятельно, Луночка. Не рушь пирамиду отношений. Никогда не ной мужчине, птичка, ибо мужчин жутко расстраивает, когда в отношениях ноет кто-то помимо них. Не досаждай Папочке, если не хочешь, чтобы стало хуже.
– Куда уж хуже? – в шёпоте ответила я, а кабинетная дверь отворилась: на нас взглянул герой беседы.
– Слушаю вас, девочки… – недовольно вздохнул он.
Лицо его за пару ночей постарело на пару лет. Многочисленные изъяны на коже особо отчётливо прорисовались, ожог по части лба стёк ещё больше, углубления под глазами почти разрывались от собственного веса. Я осмелилась предположить, что сам Хозяин Монастыря не скупился на слёзы. А мужские слёзы – априори – означают вой до изнеможения, проклятия самого себя и самого же себя бичевания. Женщины приглаживают щёки влагой по причине и без, мужчины же – от невозможности возможностей, слов, действ и.. искупления.
– Вы хотели чем-то поинтересоваться или готовите заговор? – равнодушно спросил Ян и поочерёдно пригладил нас своим взглядом.
Ощутила терпкий запах питья. Истина прорисовалась: всё стало ясно. Алкоголь – славный провокатор на обострение чувств (всё, что потаено и укрыто под покладистой кожей, предстаёт взору в величайшем объёме). А если Ян пил – и не пригубил раз-другой, а безропотно вылизывал бутылочное дно – значит причина тому была важная. Я надеялась, что причина носила моё имя.
– Ничего, Папочка, – кольнула Ману – непослушно, задиристо, без опаски наказания (а ведь, кажется, привилегии её каждодневно сползали на уровень обыкновенных послушниц). – Мы уже всё выяснили.
И женщина, быстро глянув на меня, увязла в коридорной топи. Я засеменила следом, но рокочущий голос за спиной велел зайти в кабинет.
– Вынуждена отказаться, Отец, – ответила я. Не глядя. Награждая собеседника вычерченным в глупо-открытом платье позвоночником: пересчитывай, Ян. – У меня дела.
– Дела твои контролирую я, как и твою возможность/невозможность отказываться и принимать приглашения, – ритмично отбил мужчина и острым взглядом упёрся в лопатки.
– Сочувствую.
– А это, Луна, не приглашение. Я приказываю: зайди в кабинет.
– Вы пользуетесь своим положением, – хмыкнула я, однако послушалась.
– А кто бы не стал?
Плечом прижгла его грудь и не бросила ни единого взгляда.
И вот нас подбрасывает на дорожной выбоине. Смотрю через окно, едва отодвигая шторку, и препираюсь с высушенными клоками кустов. Некогда здесь произрастал величественный лес или не менее величественный сад, о чём говорят широкоплечие пни и змеями ползущие по сухой земле корни. Машина подпрыгивает вновь: чего ожидать от заросшей вьюнами и засыпанной песками тропы?
На горизонте наблюдаю неясный сгусток движений. Приглядываюсь: по рыжему песку сбегает разъярённая армия. На схожий улей зудящих человекоподобных. Люди бьют друг друга: наползают и ухватывают, убивают и насилуют. У них странные одежды и странные лица. У них страшные лица.
Я счастливая.
Так сказали родные и – в последующем – приобретённые сёстры. То оказалось правдой, потому что я оказалась отстранена от мира внешнего. Ужасного мира, где человек – губитель, прокаженный и урод, посмевший величайшее из своих же творений распять и умертвить. Человек не кусал яблоко, он и есть яблоко, а потому все мы пропащие. Яд и порок строчат по венам молитвы неистинным богам. Несуществующим богам. Кто и с кем вёл войну? Чьи Боги схлестнулись в кровопролитной схватке?
– Это Дикие, – объясняет девочка, уловив мой взгляд. – Они сражаются сколько себя помнят, но зачем сражаются уже не помнят. Дело привычки…
– Привычки – у обыкновенных людей, у отдающих приказы – исключительно мотивы, – пререкаюсь я.
– Дикие не имеют армии, – спорит ясная голова. – Это люди из деревень.
– Думаешь, в деревнях не находятся главные и вышестоящие? Думаешь, не находятся целые деревни под руководством армий?
– Аппарат правления отсутствует и…
– Хороша легенда, если ей подчиняются зрелые и её слушаются подрастающие. Но ты же не веришь в войны без причин и последствий…?
Девочка замолкает.
А я вспоминаю Яна: наша с ним борьба тоже не могла называться войной без причин и последствий.
Женщины слизывают с нанёсшего им удар лезвия собственную кровь и охотно просят добавки.
Мы пили. Он угощал – в очередной раз танцующим на дне стакана – напитком. Я в глоток утолила жажду и стаканом ударила по столу, отчего соседствующие бутыли вынужденно подпрыгнули. Ян посмотрел на меня – бегло и без желания; от привычки.
Он в шутку (как однажды: за аналогичную вольность) сказал, что разрешения не давал. Но алкоголь, кажется, в секунды ударивший по разбитому сердцу и недееспособной голове (а, может, то была причина или прикрытие), велел не без дерзости швырнуть словесный укол и.. стакан в окно.
– А это?.. – вскрикнула я. В ту же секунду пришли звук битого стекла и визг прибирающейся в саду прислуги. – О, просто добавь в список, Хозяин Монастыря. Отметим моё непослушание!
Ян замолк и чертыхнулся. Искажённо глянул на распахнутое окно, а затем на меня.
– Ещё раз так сделаешь…
– Что? – в очередной раз перебила. – Накажешь? Думаешь, почувствую?
– Убирайся.
И я встала.
Кажется, щёки мои побагровели, но от чего больше…? Мужской бас повторил слова гонения:
– Убирайся, Луна!
– Жаль, что я не могу сделать так же. Сказать тебе: «Уходи. Давай, Ян! Катись из моего сердца к чёрту».
Я ударила его в грудь и покинула стены кабинета.
Я взаправду была пьяна. Он тоже был пьян, но в этот раз не алкоголем.
Бурая пустыня окрашивается в ягодно-красные цвета, а сухие реки наполняются алыми водами. В воздух взмывает металлический запах. Голые поля усыпают засыпающие люди. Не люди – звери. Их покрывают рыжая пыль и наши взгляды.
– Госпожа, вам лучше не смотреть, – говорит девочка.
– Лучше? Лучше, чем что? – улыбаюсь я. – Думаю, Хозяин Монастыря не без причины избрал для меня этот путь, верно?
Он хотел, чтобы я видела мир в его действительных цветах: не в копоти отдалённого нефтяного городка, не в блеске величайшего блудливого дома, не в позолоте собственных грёз при взгляде на отдалённый Полис. А в его истинном цвете: оранжевом и красном.
Вскоре я вновь приползла к кабинетным дверям. Может, на следующий день, а, может, в тот же вечер; от переживаний счёт часов не заладился: в головах наших день и ночь перемешались, перемешались ссоры и примирения, перемешались проклятия и прощения. Сколько-то дней мы крутились в неясной субстанции. Липко. Чахло.
Дверь была открыта (что удивительно), и я разглядела силуэт Ману. Голос мамочки причитал, что Хозяин наш – редкостная дрянь, копытное и рогатое, злобное и глупое существо. И Хозяин отвечал, чтобы женщина впредь выбирала слова. И она выбрала:
– Ну и дерьмо же ты, Ян!
– Ты от дерьма, помнится, родила, – кольнул он.
Женщина растерянно отвернулась. Лицо её исказилось в непонятной гримасе. Что это было? горечь потери или стрекочущее воспоминание? Ян прижигал бедром собственный стол: бросил взгляд на закупоренную бутыль, поднял её и поигрался, перекидывая в руках, после чего замахом разнёс о край столешницы и крикнул что-то на старом наречии. Брызги и осколки разметались по полу и облизали ноги.
– Ты скучаешь по нему? Хоть иногда. Думаешь о нём? – аккуратно (в этот раз) подступила женщина и смахнула с дивана несколько стёкол, похожих на наконечники стрел.
– Нет, – ответил мужчина. – О нём думают другие люди.
Абсолютно спокойно и даже безучастно. Хотя речь, кажется, шла об их общем ребёнке.
– Иногда я представляю, как бы всё сложилось, не отдай ты его, – скулит – так на неё непохоже – Ману.
Укор или истина? С умыслом или без…? Они били друг друга – метко и уводя от изначальной темы беседы.
– Тогда бы он был мёртв, – отрезал Ян.
Ману нахмурилась и закурила. Во рту – красиво-слаженном – она сцепила острую сигаретную иглу.
– Ты бы не сделал того, – процедила женщина и пустила вдоль рабочего стола пару колец.
– Это я и собирался сделать, – хмыкнул Ян и – наконец – посмотрел в её глаза. – Зачем ты пришла, Ману? Выказать драгоценную (исключительно для тебя) точку зрения? Попытаться повлиять на уже принятые мной решения, которые вылились в слова и действия? Чего ты хочешь?
– Добавить, что ты поганец, которого не простят обе, важные для тебя, женщины, – ответила Мамочка и быстро поднялась. – Не ошибайся, как уже ошибался.
– Молчи.
– Благодарю, Отец, за потраченное время.
Она намеренно заменила «уделённое» на трату.
– Извиняться за него должен я, – без эмоций кинул мужчина и обдал женщину презрением. Не хотелось бы мне так же – в будущем – походить на оскалившихся гиен и без конца драть уже сгнивший кусок мяса. – Ты переоцениваешь себя, Ману.
Последнее он выдал уже ускользающему силуэту.
– Неужели ты ничего не понял? – вдруг вспыхнула Мамочка.
Она обернулась и свирепо махнула руками.
– Ничего, Ян? Пустая твоя голова! Ты отталкиваешь от себя единственно-принимающих тебя людей. Единственно-терпящих, потому что каждый твой грех я оправдываю, а эта девочка – да, Ян, всё дело в ней! – за каждый из них истинно молится.
– Это она сказала?
Недобрый прищур исказил часть лица. Кожа на месте ожогов наползла словно складка ткани.
Я ничего не говорила.
– Для того, чтобы оказаться услышанным, иногда достаточно смолчать. Для того, чтобы услышать – достаточно видеть, – ответила женщина и уже спокойно расправила плечи. – Я, право, думала, ты изменишься. Я думала, ты изменился.
– Не смог, – признался мужчина.
– А пытался?
– Она здесь, – перебил Ян. – Вот в чём дело, понимаешь? Она всё ещё здесь.
– Да-да, – рукой отмахнулась Мамочка. – «Женщины слизывают кровь с нанёсшего им удар лезвия», знаю я твои песни…! Поганец!
И в этот миг я решительно зашла в кабинет. Без стука, разрешения и приглашения. Чтобы воочию застать раскаявшиеся лица гиен, чтобы не сойти за подслушивающую, чтобы притушить накалившиеся между говорящими угли. Но иногда поток ветра или струя воды лишь добавляют огня.
– Не теряй моего расположения, Ману, – сказал мужчина и взгляд свой утаил в очередной порции бумаг на краю стола. О чём он вечно читал, над чем работал, что писал? – Неизменно в Монастыре одно – только Мы с тобой. Твои слова.
И то оказалось правдой, потому что за пределами Монастыря оказалась я. И сейчас наблюдала зияющий на горизонте Полис. О, чудо-город, он стоил затраченных на дорогу сил. Его красота стоила того, чтобы её увидели и оценили.
Девочка в кибитке говорит: через город мы проезжать не будем – то не требуется.
– Почему? – спрашиваю я (больше от расстройства и желания хоть с кем-то обмолвиться словом-другим, нежели от интереса).
– Таков маршрут Хозяина.
– Почему?
– Конвой едет по запланированному пути.
Съезжать с пустынных дорог – опасно, дурная…! Такие пояснения должна была принести девочка. Сходить с маршрута – гиблое дело; конвой разорят местные банды и дилеры, решив, что в город пребывает до изнеможения важный груз. Груз – взаправду-то – был важным, но не в кругах города.
И потому я наслаждаюсь видом Полиса издалека. Высотные – уцелевшие – здания смыкаются друг с другом острыми зубьями и хищный рот на фоне убегающего солнца отливает позолотой. Пыль обвивает основания, а грязный туман добавляет колец почти на верхушках. Город курит. Решаю закурить и я.
Девочка желает воспротивиться, но на мой едкий взгляд – свой притупляет и смущённо прячет в складках юбки.
– То-то же, – хмыкаю и сжимаю сигарету в зубах.
Что могло ожидать нас с Яном в эпилоге? жар или немая тишина? спокойствие или отсутствие интереса? грусть, печаль и сожаление о содеянном…? мы принимаем век таковым и не чувствуем абсурда или каемся друг перед другом?
Я зашла в кабинет. Хозяин Монастыря чертыхнулся в мою сторону, приговаривая, что пол усеян битым стеклом.
– Чувствую, – ответила я и переступила с пятки на пятку, а мельтешение это сопроводил нежнейший хруст.
– Может быть больно.
– Уже, – улыбнулась я.
Улыбнулась ему. Улыбнулась затаившейся и задержавшей дыхание Ману.
– Иди сюда, – бросил Ян, но губы его задрожали.
Сделала безропотный колючий шаг навстречу – в подтверждение его паскудной теории. Второму шагу случиться не позволил – под мужским ботинком лопнуло несколько пластин; присевши, подхватил за бедра и перенёс, усадил на стол. Сам же Ян припал на колени и сковал в ладонях щиколотки.
– Не шути с битым стеклом. Оно оставляет шрамы и вносит заразу.
– Что-то напоминает, – поиздевалась я, пока он доставал крошки из пят. – Смутно.
Ян поднял глаза и многозначно улыбнулся. Ману вздохнула и послала нас к чёрту, назвав ненормальными.
– Вам это нравится, и всё тут, – сказала она и быстро вышла из кабинета. – Бороться с вами за вас я не намерена!
Кровь скользнула по его пальцам, и меня – словно бы – обдало жаром.
«Будет больно?»
«Если ты захочешь, – усмехнулся голос».
«Ты понимаешь, о чём я, не издевайся»
«Если ты захочешь», – уже без нрава повторил голос.
«Ты боишься не боли, а неизвестности», – ещё ранее молвил он. Сказанное было равносильно просьбе довериться.
Кровь скользнула. Простынь окрасил почти невидимый штрих.
Смотрю на Хозяина Монастыря, послушно притаившегося в ногах и устраняющего последствия собственной вспыльчивости. Так будет всегда?
– Зачем ты сделала это, Луна? – спросил Ян. – Что пыталась доказать? К чему показательность? Будет шрам…
Я склонилась к нему и взяла пальцами за подбородок, подтянула к себе – к лицу – и процедила:
– Сочувствую, если ты не понимаешь.
После чего, прихлопнув по щеке, оттолкнула.
– Ненавидишь меня? – в какой-то из следующих дней спросил мужчина.
Импульс уже прошёл (разбитый стакан в кабинете заменили новым, а на ноге осталась запёкшаяся отметина) и потому я спокойно ответила:
– Это слишком сильное чувство.
– Ненавидишь в меньшей степени? – предположил Ян: в полу-шутке, в полу-травле.
– Не знаю, что я чувствую. Ничего.
– Так не бывает.
Я задумалась и наспех выдала:
– Наверное, страх.
– Не поздно ли…? – переспросил мужчина. – Самое ужасное, радость моя, ты пережила.
– И не за красным балдахином, – кольнула следом. – Страх, что ничего не чувствуется, и всё тут, – добавила я. – А ничего порождает страх, порождённый ничем. Безрассудство, не находишь?
– Твоё право.
Как просто.
Мужчина покинул рабочее место и подошёл к вечно-распахнутому окну. Ветер зашевелил отросшую шевелюру.
– Мне жаль… – едва слышно процедил сухой голос. Под нос. В окно. Даже не мне…
Я ожидала продолжения, но продолжение до адресата не добралось.
О чём он мог жалеть, если ни о чём и никогда не горевал? В этом его суть, его характер, его принципы – он сделал то по велению сердца (копчённого и вычурного), он сделал как сделал бы любой другой (мы не стали чем-то особенным). Он поступил правильно – и на свой лад, и на свой век. Тела наши, начала понимать я, всего лишь разменные монеты: и были, и есть, и будут. От года к году, от войны к войне, от мира к миру. Тела – лишь оболочка; расплаты и духовности в том нет. Мы оправдали привычный ход вещей, но не оправдали ожидания друг друга, ибо именно ожидания выходили из-под пера высокого. Однако…тогда бы мы не стали собой.
Сейчас я отмечаю, что извинения свои он так и не принёс – извиняться было не за что (как просить прощение за сделанное на трезвый ум и осознанно? за личное желание и убеждение…?). Он выплюнул «мне жаль» для утешения; жаль ему не было – он сделал, что хотел. А я выплюнула в ответ:
– Кто мы?
В мире Хаоса и друг для друга.
Ян велел подойти, и я послушалась. Осторожно касаясь талии, он пододвинул меня ближе к окну. На сухом горизонте танцевала рыжая пыль. Вихри песка обнимались и толкали друг друга, а пепел мрачных городов – вечно горящих коротышек – едва долетал до нас. В этот сезон крохотные деревни, направленные на производство, горели. Моя деревня – нефтяников, в нескольких днях пути – высыхала и трескалась, эти же – с остатками лесов и с домами из старого перегнившего дерева – танцевали в пепле.
Я смотрю и на пыль, и на песок, и на пепел.
– Вот мы, – сказал мужчина.
Вечно-танцующая образина. Безобразие. Оказывается, беда человечества заключалась в самом человечестве.
Я посмотрела на грустное лицо близ меня и – по воле одурманенной в очередной раз головы – приложилась ею же к груди. Руки сцепились у меня за спиной, а пальцы впились в несколько позвонков.
Ему не было жаль, потому что он ничего не терял.
Я была рядом.
Объезжаем Полис дугой. К вечеру город пестрит огнями: пыль оседает, поднимается туман. Возможно, идёт дождь: там он в действительности – далеко от иссушенных дочерних деревень – бывает.
Ману рассказывала, что городские – жестокие сквернословцы, обезумевшие дикари и безнаказанные убийцы. На улицах властвует произвол; дороги сжимают под собственным прессом контролирующие секторы города группировки, контрабанда проползает меж оголённых плеч, а люди рассыпаются под веществами и сношениями. Полис уродлив. Там живут нечестивые, там живут Люди. На мой вопрос, для чего построено это место, Ману отвечала: чтобы собрать зверинец воедино и – когда-нибудь – изничтожить его.
– Ковчег, который следует потопить, – говорила женщина.
Я думала, небесные боги живут в черте Полиса, а – оказалось – они живут на его окраинах (каждый на своём участке, отвечая за свои дела, неся определённые функции). Бог Воды, например, живёт близ дамбы, чтобы решать рабочие вопросы по мере их возникновения (да, Бог – лишь профессия; название, слог). Богиня Плодородия живёт на землях с устойчивыми посевами, дабы приезжие гости наслаждались видом царствующих колосьев пшеницы и кукурузы (хотя все знали, что она бесплодна и земли её – тоже).
А вот люди, живущие в Полисе (с рождения или однажды забредшие туда), Полис уже не покидали. В том была их вера. В отличие от деревенских послушников, читающих молитвы земным богам (Почве, Влаге, Зерну и прочим), они обращались к небесному пантеону и высоко почитали его звания, отчего не рвались на исследования и на чужие территории не забредали.
Неверующие в городе не встречались. Если в Полисе объявлялся неверующий – он моментально исчезал. Никаких движений – пропагандистских касательно религии – не было. Все верили в откровенно плюющих на них богов из небесного пантеона и презирали деревенских за их неразумность (ибо земные боги не были зримы; они – лишь понятия, плавающие в воздухе: несуществующая масса). Небесными же выступали важные господа. С ними можно говорить. Их можно увидеть.
И вот мы объезжаем упомянутый Полис. Конвой трясётся от гальки под колёсами, я трясусь от страха перед неизвестным.
– Продай меня, – умоляла я. – Отдай в жёны. Не хочу здесь находиться, не могу быть в Монастыре.
– Ты подписала договор.
– Со мной ты заключил ещё один, – настояла я. – Вот здесь. – И прикоснулась к его груди. Руки задержала на теле, а затем – впопыхах – утаила в карманах платья. – Я прошу тебя, Ян. И могу просить, потому что мы с тобой не чужие друг другу люди.
– Вот ты как заговорила. Кошка, – причитал мужчина. – Научилась…?
– Отдай меня в жёны. Продай ещё раз – контрольный.
– Зачем?
Действительно, Ян?!
– Не хочу находиться в Монастыре, – повторила я и следом пустилась в объяснения. – Не хочу быть с другими. Не хочу ломаться под иную норму. Не хочу быть в системе.
– Только поэтому?
Он знал истинное положение дел, так отчего не унимался и пылил? Нашей общей скорби было недостаточно?
– Давай, говори, – провоцировал мужчина. – Ведь мы не чужие друг другу люди.
На издевательство я закрыла глаза. И вместе с тем я закрыла их на признание:
– Не хочу видеть тебя. Вот так просто.
– Это ли просто? – бросил раздосадованный голос.
– Каждый раз, день ото дня, секунда к секунде мне, Ян, паршиво, когда мы встречаемся. И я не хочу тебя видеть, не хочу знать, не хочу даже помнить.