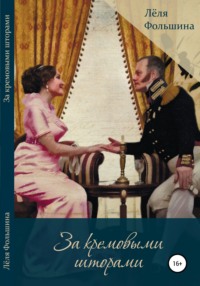Полная версия
Я к Вам пишу…

Лёля Фольшина
Я к Вам пишу…
Роман в письмах и дневниках
Он:
Роман Сергеевич Чернышев, граф, 1792 года рождения
отставной полковник, участник войны 1812 года
и заграничных походов, осужден «по делу 14 декабря»
Она:
Варвара Павловна Белокриницкая, 1800 года рождения
дочь помещика Павла Матвеевича Белокриницкого,
семья владеет домом в Москве на Мясницкой улице
и поместьем в Смоленской губернии

Пролог
Июль 1934 года. Подмосковье
Дачный дом, бывший когда-то флигелем барской усадьбы
– Варька, полезли на чердак. Там интересно.
– Не хочу, да и бабушка строго-настрого приказала платья не пачкать.
– Мы не испачкаемся, честное пионерское, зато там интересно.
– Сказала – не хочу, – Варя фыркнула, отошла от Андрея подальше и села в кресло с книгой.
– Трусиха, трусиха, трусиха.
– Я??? Да никогда в жизни, – девочка бросила книгу и решительно стала подниматься по шатким ступеням ведущей на чердак лестницы. Да, она боялась мышей, пауков и тараканов, но признаться в этом кузену, который и так доставал ее все лето, – ни за что на свете.
***
– Варя, смотри, чемодан. Огроменный какой. Наверное, там сокровища.
– Бумаги, – воскликнули одновременно два голоса, только мальчик – разочарованно, а девочка – с интересом.
– Андрей, посвети мне, – Варя стала смотреть пачки писем, перевязанные ленточками и старые тетради в сафьяновых переплетах. Бумага была пожелтевшей, чернила просматривались плохо, но это была живая история.
Девочка взяла наугад пачку листов и начала читать.
«…январь 1832 года
Друг мой, дорогая, родная моя Варенька, я, наверное, не имею права писать Вам так, но я так привык к нашей переписке, Вы стали мне близким другом. Самым близким на свете. Я пишу Вам письма, разговариваю с Вами в моем дневнике, словно Вы сидите рядом, я держу Вас за руку – милая, простите мне эту вольность – и рассказываю обо всем, что произошло за ночь…»
Дальше было несколько неразборчивых строчек и подпись тоже не очень разборчивая с таким залихватским росчерком.
– Андрей, помоги мне все это снести вниз, – Варя прижала к груди ту пачку, листочек из которой читала, и стала осторожно спускаться, словно нашла величайшую драгоценность и теперь боялась ее разбить.
– Варька, дура ты, зачем? Бумаги какие-то. Давай еще посмотрим, – заныл Андрей, но, тем не менее, безропотно потащил найденный чемодан вниз. Фанерный и достаточно тяжелый, он оттягивал парню руку, но показать себя слабаком перед девчонкой – нет, только не это.
Чемодан был поставлен на стол на террасе, Варя села в кресло и начала разбирать бумаги…
Письма удалось разложить по датам, хотя и не сразу – кое-где вместе дней и месяцев стояли церковные праздники, и девочке пришлось вспоминать все, чему учил ее когда-то дедушка-священник, а вот дневники… Тетради были разрозненные, некоторые буквально разваливались под руками, кое-где лежали просто отдельные листы. Сначала Варя хотела собрать дневниковые записи хотя бы по годам, но потом решила читать, как придется – так будет еще интереснее. Письма же она разложила в две разные стопки – по почерку и адресатам. Их было два – Роман Чернышев и Варвара Белокриницкая. Дневники тоже принадлежали Роману…
Письмо первое. К Ней
Март 1828 года. Березов.
Милый друг мой, Варвара Павловна. Вот и прошел год моего заключения, отправлен я теперь на поселение в Сибирь. Место мне выпало, можно сказать, шикарное – Березов. Помните, должно быть, сюда был сослан в свое время князь Меншиков, сподвижник Петра Великого. Даже дом сохранился, в котором он с семьей проживал. Хоромы. Нам такое и не снилось.
Живу я у одной доброй старушки, помогаю ей, чем могу, дрова наколоть, снег разгрести. Колодец у нас свой, так что воды натаскать не сложно.
Тоскливо тут до крайности. Особливо зимой. Как весна настанет, легше будет, но весна тут не скоро еще. И не такая она, как у Вас в Москве.
У нас тут холодно. Особенно по утрам. Пока хозяйка печку растопит – она к этому важному делу барина не допускает – из-под одеяла носу не высунешь. Зато потом хорошо. Марья Гавриловна женщина хозяйственная, с самого утра все что-то печет, стряпаем, в избе вкусный дух витает. Столуюсь я у нее, ясное дело, деньги, что перечисляют, ей и отдаю. Знаете, Варвара Павловна, до того непривычно все. Я ведь раньше никогда и не интересовался, сколько хлеб стоит или фунт сахару, ни к чему было, а теперь вот приходится. Вообще у меня такое ощущение странное, что того Романа, которым я был когда-то, более и нет на свете, даже того, который с Вами когда-то на постоялом дворе беседовал, тоже в общем-то нет. Другой я стал совсем, сам себя не узнаю.
Вот вышел сейчас на улицу, снег искрится, солнышко светит, хорошо так стало. Вспомнилось почему-то, как на 40 мучеников 1 маменька жаворонков пекла, с крылышками и глазками-изюминками. А однажды мы с братом по незнанию, али по озорству весь приготовленный маменькой изюм съели. Ох, и попало там тогда от отца. Он два дня с нами не разговаривал, и на службу идти не велел. А маменька только вздыхала, да смотрела укоризненно. И меня от этого ее взгляда аж переворачивало всего.
Я потом года два еще на жаворонков смотреть не мог. Как увижу, так вспомню проделку нашу глупую и маменькин взгляд укоризненный.
Теперь уж отца в живых нет, а она, бедная, по канцеляриям хлопочет обо мне, чтобы наказание смягчить. Да что поделаешь. Сам виноват. Ее только жалко. Совсем одна осталась.
Что-то я все о грустном, простите, Варвара Павловна. Расскажите, как поживаете. Какие балы были нынче на Святках, катались ли на каруселях на Масленой? А что каток на Патриарших прудах чистят ли, как и прежде? Мы юнкерами часто туда хаживали. Самый лучший был каток в Москве. Там оркестр играл, раздевалка была теплая, и чаем поили с бубликами. Вы кататься любите? Хотел написать, что приеду, и покатаемся, только вряд ли я когда вернусь в Москву-матушку, даже если маменька выхлопочет помилование.
Ну да ничего, я не унываю. Право, о чем унывать? Жив, и слава Богу. Утром проснулся и обрадовался – еще один день Господь даровал прожить. Совсем другие у меня тут радости, маленькие, ежедневные, даже ежеминутные. Птица на ветку вспорхнула – радость, лису увидел, когда за шишками ходил, тоже радость, книгу у местного священника нашел – еще какая радость. Пусть и на древнегреческом, коего я и не помню почти, но все равно это книга. Буду пытаться читать и вспоминать язык, хоть какое занятие для ума. Сын отца Петра из уезда вернется, может, еще книг каких привезет, а то томик Байрона, что был у меня с собой, я уже весь наизусть выучил, да и не лежит у меня душа к Байрону нынче, а почитать хочется. Еще нашел у батюшки литографию нашего городка, скопировал ее, как мог, чтобы Вы видели, где я проживаю. Город наш стоит на речке Сосьве. Сейчас она льдом покрыта, а летом тут, говорят, раздолье. Рыба водится разная, в тайге – клюква да морошка. Ягоду и листья сушат и зимой заваривают вместо чая. И верите ли, Варвара Павловна, я тоже к такому чаю пристрастился. Сначала поневоле, а сейчас кажется, вкуснее любого кофию и шоколаду. Знаете, о чем я иногда вспоминаю? Будете смеяться – о мороженом. Такого лакомства тут не делают, но если клюкву с сахаром помять и немного снегу добавить – мороженое и получится. Вот написал, и представилось мне, как Вы мое письмо читаете и улыбаетесь, и смех Ваш слышу. Вы так хорошо смеетесь, что и мне радостно становится.
Прошу Вас, ежели не в тягость, пишите мне чаще, я, Варвара Павловна, писем Ваших жду, очень. Они как глоток свежего воздуха.
Буду я, наверное, письмо свое заканчивать, а то сплошная меланхолия выходит, негоже.
Жду от Вас весточки, за сим остаюсь бывший полковник, а ныне ссыльный поселенец.
Роман Чернышев.
Из дневников Романа Чернышева
…августа 1808 года
Сегодня говорили с отцом о смысле жизни и о чести. Я никогда не видел его таким взволнованным. Я вообще никогда не видел, чтобы он волновался. Это маменька импульсивна. Она и накричать может и даже однажды пощечину отцу залепила. Они не знали, что я это видел, а я тогда поразился. Как поразился и нынче. Отец ходил по комнате, курил трубку и говорил, говорил, говорил. Громко и взволнованно.
Хотя, ну что я такого сделал. В конце концов, мне шестнадцать лет. Я взрослый. Да и Татьяна сама меня все лето по углам ловила… Я понимаю, что такое честь и достоинство будущего офицера. И отец не прав. Крайне не прав…
Только бы он не сказал маменьке…
…января 1815 года
Париж, Париж, Париж. Как тут красиво. Но как же я хочу домой. Приехать в Чернышевку, упасть лицом в траву и так лежать, вдыхая запах родной земли. Или пойти на реку… Господи, как давно я не купался в реке. Вспомнилось, как с Гришкой переплывали ее на спор…Эх, Гришка, Гришка, ну зачем ты полез в эту атаку… Адьютант-ординарец, ты не должен был погибнуть. Мне тебя так не хватает. Очень…
…марта 1819 года
Граф, конечно, прав, впрочем, как всегда, конституционная монархия спасет Россию, но я-то зачем в это ввязываюсь? Всегда был далек от политики…
…ноября 1813 года
Первый бой. Атака. Пули свистели так, словно каждая из них была предназначена мне. Спасибо, Алешка крикнул, и Вороной понес, иначе мы бы оба погибли. Я был в каком-то ступоре. Машинально скакал, так же машинально саблей махал. А потом меня выворачивало под кустом, и я почти час приходил в себя.
Зачем я все это пишу? Кому нужны записки хилого интеллигента, которым я оказался на поверку? Юнкер, а смерти боюсь.
Да, боюсь, и готов себе в этом признаться. Меня не сама смерть страшит, а то, что все это останется – это серое небо, березы, снег и проталина, птичьи голоса, Гриша, маменька, отец, а меня не будет. Не могу себе этого представить, не могу понять, оттого и страшно.
…июля 1807 года
Привет тебе, о мой дневник, давно в тебя я не писал…
Я влюблен, влюблен как мальчишка тринадцатилетний. Гришка, конечно, посмеется надо мной, но Зиночка, ma belle Зиночка… Эти локоны вокруг ее милого личика, как они забавно прыгали, когда она танцевала мазурку, ее глаза светящиеся. Нет, она определенно красавица, а я влюблен и счастлив. Хочется бегать и кричать от полноты жизни. Или броситься в реку, переплыть на тот берег, а потом сидеть с крестьянскими ребятами у костра, печь картошку и смотреть на звездное небо.
В такие минуты я чувствую себя песчинкой мироздания, маленькой крупицей какой-то большой жизни, винтиком какого-то механизма, которому я нужен, чтобы он правильно работал.
Господи, что я несу, какая несусветная чушь, кадет, приходит в вашу голову?! Но Зиночка, милая Зиночка…
Письмо второе. К Нему
Май 1828 года. Москва
Любезнейший Роман Сергеевич! Несказанно обрадовалась, получив от Вас весточку. Не ожидала, что письма будут идти так долго. Мы уже и Масленицу отгуляли, и Пост отговели, и Пасху справили. А вчера были на бале у кузины Элен по случаю ее тезоименитства2. Видела вашу матушку. Очень хотелось к ней подойти, спросить, не было ли весточки, но мы не знакомы, и я не решилась. А сегодня пришло письмо. Так что обрадовали Вы меня, Роман Сергеевич, благодарствую.
В Москве настала сушь и жара. Пыль такая, что хоть на улицу не выходи. Намедни маменька послала Прохора в имение наказать управляющему, чтобы все приготовил. На той неделе и переедем.
Спасибо за рисунок, теперь я хоть знаю, как выглядит Ваш Березов. Хотя, по письмам Вашим все очень хорошо представляла – и Читу, и острог, словно была там рядом с Вами – Вы так пишете, что картины сами перед глазами встают. Сейчас обязательно в папенькиной библиотеке посмотрю книги, может, найду что про Березов.
Почитала про жаворонки. Умилилась. Так живо себе это представила, и Вас с братом – озорников. У нас Степанида тоже жаворонки пекла, так мы, дети, все время около нее в кухне толклись – то орешков попробовать, то изюмчику. Она всегда давала, шумела только – «вы, барчата, осторожнее, маменька осерчает». Маменька и правда сердилась, что мы на кухне, считала, что там очень жарко, и боялась, чтоб кто не обжегся. Она в детстве по недосмотру няньки своей сильно руку обожгла о печку, вот и волновалась за нас.
Но мы со Степанидой дружили, она нам сказки рассказывала. Я уже в девушках была, сиживал у нее на кухне с пяльцами, сказки слушала или песни какие. Хорошо она пела. Голос такой нежный-нежный у нее был, и так душевно слова выводила. И все про любовь.
Вот, батюшка, Роман Сергеевич, открыла я Вам страшную тайну – чем девицы занимаются незамужние – вышивают, да о любви мечтают. И я мечтала, как без этого.
Матвей Иванович, жених мой покойный, хорошим человеком был, ничего не скажу, но мечты девичьи так мечтами и остались. В неделю лихоманка его скрутила, доктора ничего сделать не смогли. После как-то никто более и не сватался.
Про каток Вы спрашивали, Роман Сергеевич. И на Патриарших катаются по прежнему, и на Чистых. Только мне вроде на коньки вставать не годится – матрона, чай, уже по возрасту, да и не с кем выйти-то, но иногда так хочется.
Вот мечталось мне во сне давеча, что приехали Вы на Москву ко мне в гости, и пошли мы с Вами на каток, и катались, взявшись за руки, шагами голландскими – больше всего их люблю – а проснулась, поняла, что сон это, и взгрустнулось.
На пасхальном балу в Благородном собрании я в этом году все больше с тетушками сидела, сплетни городские слушала. Зато Полюшка, племянница моя, нарасхват была – шестнадцать лет, первый бал, чудо, как хороша. И на Москве кавалеры совсем другие. Мой-то первый бал был в Смоленске. Там все уездное дворянство. Самый молодой – предводитель, ему на ту пору едва тридцать минуло, а остальные все – или юнцы безусые, или папеньке моему ровесники. Но все равно, даже там я так волновалась – вдруг никто со мной танцевать не захочет, или я па перепутаю, или, не дай Бог на ногу кавалеру наступлю. Спасибо, Павел Николаевич, предводитель наш, пригласил меня на вальс, и страхи мои развеялись. А Полюшка, Полюшка и не волновалась будто совсем. Танцевала легко, смеялась весело, даже за пианино села и романс исполнила с графом Воронцовым. Какие они, молодые, нынче смелые. Я б ни за что не смогла так, помяните мое слово, ни за что.
Написали Вы про мороженое, и мне вдруг мороженого захотелось, сказала Дуняше, чтоб сделали к ужину. А для клюквы сейчас не сезон. У нас под Смоленском мы собирали клюкву, и чернику собирали. Варенье варили. Маменька сама всегда командовала. Тазы большие по всей кухне стояли, медные. Девушки ягоду перебирали и песни пели. Мы с сестрами помогали им, а братишки все норовили ягоду утащить. Такие озорники были, страсть.
Николенька все по заграницам ездит, уж, почитай, года два не виделись, а Ванечка… Ванечка на Кавказе. И писем давно не было, каждый день за него и за Вас молюсь, чтоб живыми вернулись.
Черемуха за окном цветет, пахнет так потрясающе, я Вам в следующем письме пошлю веточку, как засохнет совсем, чтобы в конверт вложить. А раз черемуха зацвела, может и похолодает – черемуховые холода. В прошлом году как черемуха цвела, как раз тоже на Константина и Елену, я к обедне в спенсере ходила, а нонешний год даже шали не взяла, такие погоды сейчас теплые. Надеюсь, и к Вам в Березов весна пришла, и уже снега таять начали. Или у Вас там снег до самого лета стоит? Простите, Роман Сергеевич, невежество мое или если смешное что написала, я, конечно, книги папенькины читала, но образование получила домашнее – читать, писать и считать умею, а остальное, как папА сказали – девице без надобности.
Думаю, и Вы, Роман Сергеевич, над моим письмом и улыбнетесь, и посмеетесь, и это даже хорошо, наверное, настроение поднимется. А то Вы все грустите и грустите. Не стоит. Как говорил мой дедушка, держите нос по ветру, и все плохое исчезнет. Конечно, его бы устами, да мед пить, но все когда-нибудь кончается, и ссылка Ваша кончится. Глядишь, амнистия выйдет к какому празднику, кто знает.
А пока пишите мне о своем житье-бытье. Ваши письма скрашивают мою, порой достаточно унылую жизнь. Надеюсь, мои скрасят Вашу.
Пишите мне, Роман Сергеевич, на московский адрес – судя по тому, как долго письма идут, раньше осени весточки от Вас ждать не стоит, а мы из имения к Пимену3, почитай, уж точно вернемся.
Надеюсь, у Вас там всего в достатке, но если я чем-нибудь могу способствовать Вашему благополучию, то во всякое время от всего сердца готова сделать все, что возможно, а потому Вы можете с полной уверенностью обращаться ко мне, пусть и просто всего лишь случайной знакомой
Варваре Павловне Белокриницкой.
Авторское отступление
Август 1934 года, дачный флигель в Подмосковье
Читая дневники и письма, Варя частенько ловила себя на мысли, что ей чего-то не хватает. Хотелось знать об этих людях больше, особенно о Варваре Павловне. Но ее дневников в чемодане не оказалось. То ли не вела их девушка, то ли они затерялись где-то за столько-то лет.
В один из дождливых дней Варя предприняла новый набег на чердак, и в стоящем в углу комоде ей попался под руку пузатый кожаный ридикюль. Примерно с таким ее бабушка Аглая Ильинична ходила в театр.
В ридикюле нашлась пара носовых платков, костяной веер, театральный бинокль, которому девочка была несказанно рада – ни у кого из ее подружек не было такой замечательной вещицы – и стопка писем. Посмотрев на адрес, Варя возликовала – почерк Варвары Павловны, правда, адресат другой, или вернее, адресаты. Два письма в Смоленскую губернию какой-то Агриппине Семеновне, три – в Санкт-Петербург княгине Ольге Львовой и целых пять ответов от нее, пара писем – от графа Михаила Боборыкина, записка от него же на неровном листке бумаги и с кляксой, и еще по одному – от нескольких других адресатов. Все письма были датированы 1828–1843 годами: именно к этому времени относилась переписка Варвары Павловны и Романа Чернышева.
Захватив ридикюль, Варя спустилась с чердака и села читать найденные письма. И они – как недостающие кусочки мозаики – дали ей полную картину всей истории.
Письмо княгине Львовой
Май 1828 года, Москва
Оленька, княгинюшка моя, как же я по тебе скучаю. Письма, письма, бесконечные письма. А так хочется свидеться. Посидеть вместе, как встарь сиживали, поплакаться. Мне столько нужно рассказать тебе. Вот ждала-ждала, думала – приедешь, или я к тебе выберусь, а оно все никак не складывается, и решила все-таки написать, нет мочи терпеть. Совет нужен, просто до смерти нужен, а больше мне рассказать некому. Влюбилась я, Оленька, кажется, давно уже, больше года. Вернее, поняла я это где-то с год назад, а началось все намного раньше.
Чую – ругать ты меня будешь по страшному, и не ведаю, за что больше – что молчала столько или что натворила все это.
Попробую по порядку, хотя, какая теперь разница…
Помнишь, может быть, – около двух лет назад, Ванечка еще только служить собирался, вышло ему наследство от дяди нашего, князя Пашутина. Да далеко где-то в Екатеринбургской губернии. Он сам-то поехать не мог, да и оттуда управляющий к нам на Москву ехать не пожелал. Сговорились на полдороге встретиться – бумаги передать. А потом вроде уже Ваня сам решать собирался – продать имение или что с ним делать дальше. И маменька наша не нашла ничего более умного кроме как меня на встречу эту отправить. К старости она вообще странная стала – и не возрази ни слова, себе дороже.
Снарядили меня с теткой Парашей – а ты знаешь, какой от нее прок. С другой-то стороны оно и лучше – развеяться хоть, а то маменька ж все болела, и я только в храм к обедне и выходила – боле никуда. Устала в четырех стенах сидеть.
Как снег сошел, тронулись мыв путь. Хорошо было. Раздолье. Тетушка все больше спала, а я в оконце любовалась.
Лошадей быстро меняли, ночевали в основном по знакомым, маменька на постоялых дворах останавливаться не велела. Но однажды пришлось – непогода застала – до имения знакомцев наших пару верст всего и не доехали. Но куда там – такой дождь, чисто Вселенский Потоп. Гостиница чистая, даже без клопов, и хозяйка опрятная, понравилась мне. Остановились, отужинали. Тетушка спать пошла, а мне не спалось что-то. Накинула капот и вышла вниз, чаю спросить. Да в зале и осталась, так тоскливо показалось в темную комнату возвращаться. А там тепло, печка, свет какой-никакой. И люди. Немного, правда. Пара семейная ужинала и барин молодой. Странный. В шинели солдатской, а как распахнул – там мундир внизу, как у Ванечки нашего, офицерский мундир-то. И барин, как я уже писала – по виду барин. Чай тоже пил. Офицер с ним был, но он сказал что-то барину и вышел, а тот остался. И все в окно смотрел, а потом случайно голову повернул в мою сторону – и такая тоска в глазах, вселенская. Мне аж страшно стало. А он вдруг встал и подошел ко мне. Поздоровался, представился и попросил присесть рядом. Я и разрешила. Не знаю, почему, это против всех правил, но не ругай меня, пожалуйста.
Крикнула полового, чтобы еще чаю принесли и бубликов. Предложила Роману Сергеевичу, так мой визави отрекомендовался. Он чаю взял, а есть не стал, думаю, постеснялся брать от девушки.
Говорили мы странно – о погоде, о балах, какие в Москве были, об общих знакомых, коих у нас множество нашлось. О Смоленске – у его папеньки тоже там имение от нашего недалеко, верстах в пятнадцати.
Я почему-то рассказала Роману Сергеевичу – куда еду и зачем, а он все больше молчал и только смотрел на меня грустно так. Долго мы сидели, наверное, заполночь, во всяком случае, стемнело порядком. Мне уже и спать захотелось, а все никак не могла встать и уйти. Словно держал он меня чем. Странно так, вот теперь думаю, что это было. Наваждение какое, или сразу я поняла, что по сердцу он мне. Не знаю, веришь ли, а только уйти просто так никакой мочи не было.
Потом офицер вернулся, подошел к нам, кивнул. Встал мой барин и пошел. Даже не попрощался. До двери было дошел, остановился и что-то сказал офицеру. Тихо они говорили, не слышала я, хотя, по всему выходило, ссорились. Но потом, видимо, тот уступил. Вдвоем они вернулись. Офицер у полового бумагу спросил, перо и чернильницу.
Принесли. Тут мой барин и говорит:
– Варвара Павловна, позвольте адрес ваш записать, я вам письмо отпишу, если разрешите.
А я ни жива, ни мертва сижу, и понять ничего не могу. Какое письмо, зачем, что маменька скажет? Странно мне все это показалось. Молчу. Ну тут офицер не выдержал.
– Барышня, – говорит, – пожалейте барина, ссыльный он, по делу 14-го декабря. Слыхали?
«Да как не слыхать-то», – у меня аж внутри все обмерло. И до того жалко его стало, мочи нет. Пусть, думаю, пишет, я отвечать буду. Что-то мне вот так ясно сказало, что не виноват он, в чужом пиру похмелье. Да и встреча эта странная. Словно нарочно мне так далеко ехать приспичило, чтоб с Романом этим повидаться.
Назвала я адрес. Московский и имения. Спросила, куда ему писать. Тут снова офицер вмешался, сказал – как можно будет, барин мне отпишет, а пока неизвестно ничего. Что да как, да куда. Ссылки ему год, потом поселение. Там, может, проще будет. А пока ехать пора.
Вышли они, и знаешь, Оленька, словно сила какая меня подняла, за ними выскочила, проводила, перекрестила на прощание. Роман уже от кареты обернулся, увидел, подбежал обратно, руки мне целовал, а я его по волосам погладила. Никогда себе такой вольности с мужчиной не позволяла, а тут, даже не знаю, что на меня нашло…
Тронулись они, а я так на крыльце и стояла, перекрестила вслед большим крестом и смотрела, пока за поворотом не скрылись. Ночь лунная была, и вызвездило, словно и природа нам помочь решила.
С тех пор и пишем друг другу. Не часто, долго больно письма идут. И не знаю я, что делать. Маменька его тут на Москве сейчас гостит, все хочу с ней познакомиться, да только как. Неловко вроде. Странно так получилось, что общих знакомых у нас много, а вот так, чтобы познакомил кто, ни о чем не спрашивая, – нет никого. И в одних домах бываем, вот у кузины Элен, к примеру, но ее просить все равно, что на всю Москву раззвонить.