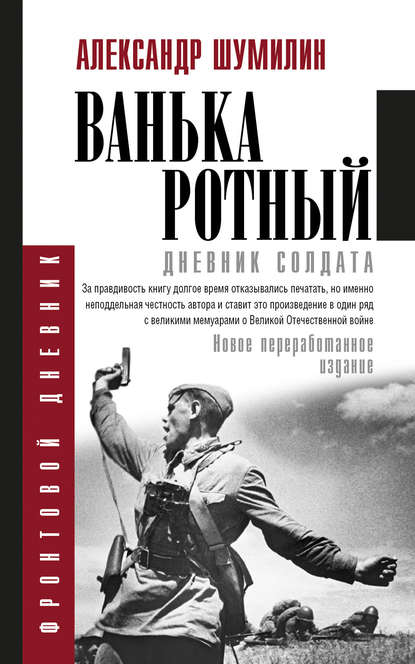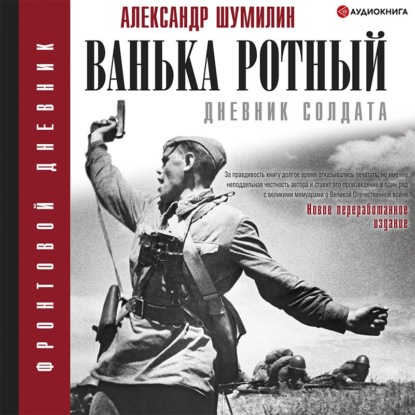Полная версия
Семь смертей доктора Марка
Ну всё, тронулась колонна, подняли плакаты и портреты. Оркестр звучит, так и хочется маршировать под него, да не просто маршировать, а где-нибудь в освобождённой Испании или Германии, да не просто так, а чтоб местное население приветствовало и вином угощало. Ничего, придёт час, не такие мы люди, чтоб братьев своих рабочих по всему миру бросать не произвол судьбы! Мы советские люди, а значит, до последней капли крови, желательно, конечно, не своей. Ой, что-то мысли путаются, видно, третья рюмка была немного преждевременной.
– А? Что? Вы мне?
– Да, Цалихин, вам! Поднимите уже свой край транспаранта! Скоро мимо трибун пойдём, вы что, хотите, чтоб там обратили внимание, кто криво несёт?
– Сейчас сделаем! Так ровно?
– Ровно, только не опускайте! Стыдно должно быть, комсомолец, а уже нализались с утра пораньше!
– Так я что, праздник же, сегодня трезвых быть не должно! Кто за революцию не пьёт, тот, ой, извините, профессор, вы ведь не пьёте, тот… ну да, тот за революцию ест!
– Цалихин, вы бы придержали язык!
– Всё молчу, молчу. Нет, извините, не молчу. Ура-а-а-а!
И все вместе подхватили и тянули сколько могли. Да и как тут не тянуть, ведь приветствовали студентов и преподавателей мединститута от имени партии, правительства и лично товарища Сталина! Ура-а-а-а! Всё, прошли своё, теперь сдать реквизит – и на гулянку! Ого, что это там позади? Ничего себе! Видали? Вот это молодцы, кто это за нами шёл, завод «Гидропресс»? Вот это выдали! Поезд из кумача, а на переднем плане портрет товарища Ежова. И правильно, товарищ Ежов – один из главных партийцев, с террором против советской власти борется. Молодцы, одним словом!
А у Тамарки дома ногу негде поставить. Родители – ответственные работники, а в единственной дочери души не чают и ждут не дождутся пристроить её замуж. Оттого и не жмутся и позволяют у себя дома праздник отмечать. Празднуем в складчину, чтоб каждый себя достойно чувствовал. Да какая там складчина – видимость одна! На столе такое, чего себе средняя семья никак позволить не может. Тут тебе и ветчина, и колбаска копчёная, и рыба какая-то нарезанная, вкуснющая до одурения. А водочка что твоя слеза, чистейшая, с такой и похмелья не будет. Ну это, конечно, если с вином с раннего утра не смешивать. А вино какое, а салаты, даже фрукты в ноябре! Живут же люди! Ну, кто в люди хочет? Всего-то и делов, на Тамарке жениться, и можно всю жизнь объедаться. Так, тосты начались. Сколько уже выпили? Три рюмки на демонстрации и четыре тоста здесь. Это получается семь тосторюмок или рюмкотостов? Кто знает, как правильно? Ага, вот и восьмой, за гениального товарища Сталина! Что, уже был за Сталина? Кто сказал, уже был? За Сталина можно пить вообще каждый раз! Ура, товарищи! Пьём за товарища Сталина! Да, а теперь на воздух. Что-то местность перед Тамаркиным домом неровная. Что же вы, товарищи дворники, у дома таких ответственных товарищей дорожки подровнять не можете? Стыдно, товарищи, вот эта дорожка совсем кривая, видите, как меня на ней уносит влево! А это троцкистский уклон! Ой, а здесь меня вообще занесло! А фонтана у вас перед домом нет? Как нет, вот, смотрите, я уже фонтанирую! Видите, как фонтанируют вместе и водка, и вино, и закуски. Закуски особенно жаль, каждый день так не поешь. Да уж, настоящий фонтан Дружбы Народов! Ура, товарищи! Всё, тихо, я в порядке, только посижу на воздухе, ага, идите. Всё, Марик, больше ты сегодня не пьёшь. Ого, дойти бы до вешалки, пальто взять и – домой. Непросто, очень всё непросто в этом мире. Не иначе как враги народа строили здесь лестницу и подъезд. Всё кривое и гнётся, а ступеньки в подъезде какие высокие! Всё, взял пальто и – домой, Томка простит, Томка свой парень! Ой, то есть девушка, конечно же, своя в доску, Томка не выдаст! А теперь спать, но сначала снять пальто, а чего его снимать, если можно прямо в нём плюхнуться, да и ботинки тоже потом. Да не качайте вы кровать, черти! Куда полетел, хвостатый? Кыш, революция чертей отменила! Всё, спать!
* * *Боже, что это было? Почему он на кровати в одежде и ботинках? Ого, пол ещё покачивается, хорошо же его вчера приложило, сколько он выпил? Ого, три рюмки вина, ну, считай стакан, да за восемь тостов по полста водочки, итого четыреста. На голодный студенческий желудок совсем неплохо. А что было вчера? Да, патефон он помнил, он пытался кого-то пригласить? Неужели он танцевал с Тамаркой? Вот это влип, а может нет, надо бы у Володьки Щеглова спросить. Он пьёт не пьянея, наверняка всё помнит. Так, что ещё было, ага, плохо ему было, это мы помним. Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. Стоп, а Блок с ними не пил? Тогда отставить ночь! Улица и фонарь были. Аптека, да, неплохо бы сейчас аспиринчику, да только где в праздник аптеку открытую найдёшь. Голову под кран с холодной водой. Уф-ф! Вот тебе и на аспи-ринчике сэкономили.
В первый же день после окончания праздников, когда все студенты опять встретились за учёбой, только и было разговоров о том, кто и как отметил праздник. Слава богу, о себе Марк ничего такого, о чём не было бы известно, не узнал. Нет, с Тамаркой не он танцевал, уже хорошо, поди дай ей повод. А Ирочка ушла с празднования со старшекурсником. Был ли у него шанс увести Ирочку, да и куда бы он её повёл, не в будку же киномеханика такую красавицу вести! А после того, как он так отличился со своим фонтаном на улице, она на него и не глянет.
Последняя декада ноября, белые мухи кружат по городу, ударяются о стекло и уже не тают как раньше. Пора осеннее пальто менять на зимнее. Что, что случилось? Нет, не может быть! Как так, Ежова отстранили от занимаемой должности? Лично Сталин распорядился? Да не может быть! Товарищи, это провокация! Да, действительно, да, в газете написано. Ну, разумеется, газета врать не будет. Это же центральный партийный рупор. Вот тебе на! За перегибы и за невинно осужденных! Ого, так и Мишка же невинно осужденным может оказаться! И дядя Евсей тоже! Скорей бы его уже отпустили, тогда бы и гора с плеч. Гудит аудитория. Что же это получается, кому теперь верить, если в самом Кремле да на такой должности вредитель окопался. Да нет, в товарище Сталине только круглый идиот сомневаться может, это ж и ежу понятно. Хм, ежу уже, стало быть, и непонятно. Арестовали ежа, теперь колючки состригут, и быть ему колобком. Как по сусекам соскребали, так и расскребут, сожрут теперь Ежова. Да туда ему и дорога, раз враг!
Смерть! Смерть! Смерть! Смерть!
Глава 6
Марк или Михаил
Их привели в это большое помещение, видимо, переоборудованное из какого-то складского. Тридцать шесть человек построенных в четыре ряда стояли под охраной четырёх солдат с ружьями наизготовку. Но, на самом деле, хватило бы и одного, даже без ружья, просто с каким-нибудь хлыстом в руках. Грязные и голодные люди, ещё какой-то месяц тому назад называвшиеся бойцами непобедимой Рабоче-Крестьянской Красной Армии, стояли перед настоящими победителями, вольными отнять их жизни в любой момент. Когда-то солдаты огромной страны, а сегодня разобщенная кучка людей, отчаянно борющихся за своё выживание. Общим, пожалуй, было только страшное чувство голода. Подкреплённое безысходностью, оно заставляло рыскать глазами по сторонам в поисках хоть крошки съестного, а ноздри жадно втягивать воздух в попытке уловить запах, напоминающий о еде. Страх – об этом чувстве можно было бы говорить бесконечно. Каждый бывший солдат непобедимой Красной армии, так внезапно и без особых военных усилий противоборствующей стороны ставший военнопленным, пребывал в постоянном состоянии страха. Все без исключения боялись любого приближающегося охранника или офицера, особенно, если он шёл в окружении группы солдат, они вполне могли начать очередную селекцию и поставить кого-то на краю расстрельного рва, который ежедневно на протяжении двух недель копали сами пленные под надзором охраны. Самые смелые или идейные до мозга костей, готовые не задумываясь отдать жизнь за Родину, партию и товарища Сталина, уже сделали это, а здесь, на этом открытом поле, огороженном колючкой в несколько рядов и с пулемётчиками по периметру, остались люди, обречённые своими бездарными командирами на попытку выжить. Бежать им было некуда, никто не знал наверняка, как далеко продвинулся фронт за те две с небольшим недели, которые они провели почти лёжа и сидя друг на друге из-за неимоверной тесноты. А даже и сбежав, пленный должен был прежде всего решить в каком направлении бежать. К тому же они совсем не понимали, куда их привезли в своих же родных и знакомых до боли теплушках, в которых ещё недавно они ехали разбить врага и возвратиться домой с победой. К тому же, советский солдат, попавший в плен, автоматически считался изменником Родины, а значит, по закону военного времени мог быть расстрелян без суда и следствия по приказу любого желторотого лейтенанта, возомнившего себя богом войны.
Бежать в леса, уповая на помощь местного населения, тоже было полным безумством. Лес не мог принять всех желающих и обеспечить их, пусть даже и при помощи части населения, всё ещё лояльной прежней советской власти. И лес понемногу выдавливал из себя ненужных ему новых жителей. Он гнал их, пугая ночами шорохом листвы, уханьем филина, похрюкиванием дикого кабанчика. А после бесплодной попытки изловить кабанчика или хотя бы самую малую особь его семейства, когда обессиленные погоней люди падали на землю в попытке отдышаться, он пугал их голодной смертью. И хотя были ещё в изобилии жёлуди, так любимые кабанами, люди отказывались верить, что эти лесные орехи вполне съедобны, а посему прибегали к их помощи в последнюю очередь. И выходы к ручьям и рекам, чтобы утолить жажду, больше напоминали сцены из какого-нибудь рассказа бывалого путешественника, вещающего своим слушателям, как у каждого водопоя поджидали наивных зверушек кровожадные хищники. Так и здесь, на берегу любого водоема бегущая живая мишень могла стать объектом нападения не только врага, одетого в чужую форму, что решил покуситься на их мирную жизнь. Опасаться следовало и своих, т. е. своими они считались по ряду признаков, их объединявших: одному языку, на котором им когда-то отдавались приказы, одной форме одежды, включавшей бесформенного покроя рубаху, называемую гимнастёркой, брюки-галифе да ботинки с обмотками, так странно и нелепо выглядевшие по сравнению с хорошими и удобными кожаными сапогами, в которые были обуты недавние союзники. В тридцать девятом с ними вместе маршировали на параде в Бресте. Никто не мог понять, что же произошло, ведь ещё вчера им рассказывали, что немецкие товарищи – лучшие друзья СССР. И вот нападение, такое подлое, диктор по радио так и объявил: без объявления войны. Ну ладно, они враги и обманщики и ещё, даст бог, ответят за свою подлость, а наши-то что ж проворонили? Неужели разведка не докладывала? Да быть такого не может, ведь любой отошедший с боями от границ и приграничных областей рассказывал и об огромном количестве живой силы и техники противника, сосредотачивавшихся накануне войны у наших границ, и об огромном запасе вооружения и боеприпасов, которые, не успев уничтожить, оставляли врагу. Стало быть, готовились и знали, а иначе зачем это всё гнать в таких количествах к границе? Те, кому довелось присоединиться к боевым частям чуть позже, картины этой сами не наблюдали, а потому рассказанное новыми товарищами, с которыми их свела судьба, вызывало сомнения. Не может того быть, чтобы самое современное оружие, да в таких количествах, не могло остановить врага. Налицо заговор, как в тридцать седьмом, когда Тухачевский хотел сместить Сталина, да поплатился за это. И сейчас как пить дать тоже заговор. Не могли наши командиры так бесславно бежать от врага, теряя технику и живую силу, ведь от тайги до Британских морей Красная армия всех сильней! Теперь небольшие группы солдат, отставшие от своих частей или похоронившие всех боевых товарищей, прятались по лесам, наблюдая, как по всем дорогам непрерывным потоком идут на Восток колонны техники и живой силы противника. Было бы полнейшим безумием пытаться встать на пути у этой армады. В лучшем случае на несколько солдат была одна винтовка и несколько патронов. В любой момент тот, кого ещё вчера можно было назвать своим, с кем вместе ты сидел в окопе, отбиваясь от напирающего врага, или драпал потом с позиций, чтобы спасти свою жизнь, которая уже и так стоила намного меньше обмоток с твоих ног, мог стать твоим главным врагом. Убить могли за любую кроху хлеба, за подозрение, что мог выдать, за намерение сдаться в плен, а потом и за то, что не захотел сдаться со всеми. Причин было множество, и все они были вескими в глазах того, кто мог это сделать.
Время неумолимо делало свою работу. Бродившие по лесам солдаты, истратившие все патроны для охоты на диких зверей, иногда попадавших в их поле зрения, теряли вместе с последними патронами и последнюю надежду на спасение. Иногда встречались одиночки, прибивающиеся к небольшим группам разных подразделений, некоторые рассказывали, что участвовали в боях, пытаясь прорвать кольцо окружения и выйти к своим. Удавалось это немногим, большинство гибло или попадало в плен. И уже начали выходить понемногу из леса с поднятыми руками, сдаваясь на милость победителя, споров предварительно знаки различия, а то и сняв с погибших рядовых их галифе и гимнастёрки, забросив подальше свои офицерские. И документы сжигались на кострах или закапывались до лучших времён. А немецкие колонны даже не сбавляли ход и продолжали двигаться вперёд, почти не обращая внимание на стоящих вдоль дороги чужих солдат с поднятыми руками. Скорее, их рассматривали с любопытством, столь свойственным детям, увидевшим в цирке пещерного человека, не такого как все.
Эти русские были другими. Они выходили из леса, заросшие щетиной, в грязных гимнастёрках или даже шинелях, в ботинках с обмотками. И они смотрели по-другому, исподлобья, с какой-то ненавистью и обречённостью. Иногда кто-то из них мог поплатиться за свой взгляд, если он не нравился победителю, и тогда одним будущим пленным становилось меньше, а одним трупом у дороги больше. Им приходилось стоять так с поднятыми руками довольно долго, они уставали и садились вдоль дороги. В какой-то момент появлялась военная жандармерия, пленных собирали в колонны и в сопровождении конвоя гнали в места сбора, загоняя на огороженные площадки, куда недавно пригнали выгруженных из вагонов солдат и офицеров, попавших в плен вместе с Марком. От вновь прибывших они узнали, что находятся в Гомеле. Это было довольно странным и непонятным. Никто не мог объяснить почему их решили пригнать именно сюда. Но, впрочем, это не имело никакого значения, вряд ли судьба находящихся в других местах могла сильно отличаться от их собственной. Было одно обстоятельство, дающее маленькую надежду – раз их привезли вглубь захваченной территории, значит, для чего-то это сделали, ведь уничтожить их могли ещё на месте пленения. Может быть, их хотели использовать на каких-то работах, но пока из всех каждый день трудились лишь копавшие длинный ров, к краю которого на колени ставили не прошедших немецкую фильтрацию. Офицеры, коммунисты и евреи расстреливались в первую очередь. Потом шли лица с непонятной внешностью, они могли быть выходцами с Кавказа, а могли оказаться евреями, поэтому таких тоже уничтожали, тем более, что в первые дни войны не набиралось много людей, которые могли бы с большой долей достоверности поручиться за кого-то, что он не еврей. Некоторых подозрительных заставляли снимать штаны – обрезанные евреи сразу выделялись на фоне остальных. Мусульмане тоже были обрезанными, но, видимо, этого никто не объяснил проводящим селекцию, и поэтому на всякий случай всех обрезанных тоже расстреливали. И черноглазых, и с горбатым носом, и не выговаривающих букву Р, рыжих и кудрявых – всех, кто хоть отдалённо мог напоминать еврея. Иногда кто-то из приведённых на селекцию начинал истошно вопить, показывая на своего соседа по колонне. Выдав еврея или командира, он старался купить себе лояльность новой власти. Но иногда эта лояльность выходила боком. Наутро находили труп добровольного помощника, внезапно заболевшего ночью и скончавшегося к утру. Но иногда желание услужить приносило свои плоды, немцы подыскивали себе помощников из числа прошедших селекцию. Их кормили лучше остальных, и они важно выхаживали среди вчерашних товарищей с белыми повязками на рукавах и деревянными дубинками, выискивая среди тысяч таких же солдат, какими были и они сами ещё вчера, командиров и комиссаров, евреев и цыган. И гнали их своими дубинками к выходу и строили в специальную колонну. Этим людям проходить селекцию уже не требовалось, путь у них был один – к расстрельному рву. Сил сопротивляться не было, и они покорно принимали свою участь. Они падали в ров или на край, и военнопленные из числа копающих стаскивали и сталкивали их вниз. Потом часть рва засыпалась по мере наполнения, превращаясь в братскую могилу.
Но не только расстрелянными наполнялся ров. Каждое утро к выходу огороженного пространства сносили умерших ночью. Специальные бригады под присмотром немецкого конвоя собирали погибших вдоль дорог и на полях. И приносили иногда уже прилично разложившиеся трупы и тоже сваливали их в один общий ров. И даже местных жителей, естественным образом умерших, хоронили в этих рвах, поскольку некому было заниматься организацией похорон. И уже появились откуда-то вши – вечные спутники обессиленных и немытых человеческих тел. И уже невозможно было не то что спать ночами, а даже спокойно сидеть днём. Стояла вонь, от которой некуда было деться. Человеческие организмы продолжали вырабатывать отходы жизнедеятельности, и их нужно было куда-то девать. Рыли ямы, куда сливали из огромных баков и вёдер нечистоты. И даже обильно посыпали хлоркой возле этих ям, но это не решало проблему.
Бесконечные селекции, из-за них на мгновение становилось чуть просторнее, но ненадолго. Освободившиеся места моментально заполнялись новыми пленными и арестованными местными жителями. Они-то и могли рассказать о положении дел. И по всему выходило, что немец силён и гонит Красную армию, что твою сидорову козу, куда Макар телят не гонял. Такими темпами к зиме, а может и раньше, возьмут Москву, и война, даст бог, закончится. И люди теряли последнюю волю к сопротивлению, и все помыслы были сосредоточены лишь на собственном выживании.
Марк был готов к тому, что его могут выдать в любую минуту, хотя и знал, что внешне не похож на еврея. Евреи удивительным образом растворялись среди тех народов, с кем им приходилось жить рядом. Он был похож на русского, украинца, белоруса, кого угодно, только не еврея. Но в свою очередь русский, украинец и белорус могли по своим, каким-то известным только им одним приметам опознать в нём чужака. Нет, говорил он по-русски чисто и не картавил нисколько. И даже те дефекты речи, которые могли его выдать, давно уже сгладились за годы, проведённые в Ленинграде и на учёбе в Саратове. Но взгляд, взгляд был другим. Какая-то затаённая тоска чувствовалась в нём, совершенно отличная от тысяч других взглядов. И была ещё какая-то непокорность, несвойственная другим, может быть, оттого, что славянская религия этих «других» призывала подчиняться начальству и покоряться своей судьбе, а евреям за своё выживание приходилось во все времена бороться. В общем, знающий человек без труда мог вычислить в нём инородца. Свой офицерский военный билет Марк уничтожил и вовремя переоделся в солдатское обмундирование. Когда немцы составляли списки пленных, он решил, чтобы не было лишних вопросов от бывших сослуживцев, назваться своей собственной фамилией, поскольку фамилия, заканчивающаяся на ин, не должна была вызвать лишних подозрений, изменив лишь имя и отчество. И теперь он значился не Марком Наумовичем, а Михаилом Николаевичем. Среди тех, с кем его привезли сюда в теплушке, были и солдаты из его части, знавшие его как врача. Вряд ли кто-то задумывался о его национальности, когда он оказывал им первую помощь или выдавал таблетки и микстуры, тем более, что прослужить вместе они успели совсем немного. Но тем не менее, когда в один из дней помощник с повязкой на руке указал на него своей дубинкой, он воспринял это как доносительство в связи с его национальностью.
Но всё оказалось совсем по-другому. Он попал в колонну из тридцати шести человек, по четыре в ряд, и вели их в сторону, противоположную от расстрельного рва. Среди идущих рядом с ним он узнал нескольких своих коллег-военврачей, с которыми успел познакомиться за время вынужденного пребывания в этом импровизированном лагере для военнопленных. Было непохоже, что немцы собирались уничтожить всех врачей сразу, сопровождавшие их немецкие помощники ничего не сообщали о цели сбора.
И вот сейчас они стояли в этом большом помещении, ожидая каждый своей очереди к письменному столу, за которым сидела молодая женщина в аккуратной чёрной форме и чёрной же пилотке с белыми вставками по краю внешней складки. По центру пилотки была кокарда с изображением черепа с костями серо-белого цвета. Женщина свободно говорила по-русски, задавала вопросы, отмечала что-то в своих списках и распределяла кого-то налево или направо. Если у неё возникал вопрос по внешности стоящего перед ней, она приказывала спустить штаны и проверяла обрезание. Ослушаться её приказов никто не смел. Она просто давала ясную и чёткую команду, и каждый понимал, что изображать непонимание себе дороже.
Марк стоял в последнем ряду, их осталось только двое. Он как мог оттягивал время и пропустил вперёд мужчину, стоящего рядом с ним. Всех остальных уже куда-то увели, разделив на две колонны. Марк подумал, что малую колонну, возможно, повели на расстрел. Наконец он остался один, и солдат сделал ему знак карабином, веля пройти к столу. Марка бил лёгкий озноб, который он как мог старался спрятать, крепко стиснув зубы и готовясь чётко и кратко отвечать на вопросы. Женщина за столом мельком глянула на подошедшего Марка, продолжая что-то записывать.
– Фамилия, имя, отчество.
– Цалихин Михаил Николаевич.
– Смотреть вниз!
Марк стоял перед ней, опустив глаза. Он чувствовал на себе пронизывающий взгляд, и тщательно скрываемый озноб готов был вырваться и выдать его. Может быть, она именно того и ждёт, что он затрясётся от страха?
– Опустите штаны и задерите гимнастёрку!
Всё, это конец, теперь ему уже ничего не поможет. Теперь он уже не мог справиться с ознобом. Трясущимися руками он расстёгивал пуговицы и стягивал штаны, а следом за ними и исподнее. Он так и стоял, опустив глаза вниз, со спущенными штанами, а женщина рассматривала его так, словно не насмотрелась на десяток мужчин до него, точно так же стоявших здесь до него.
– Наденьте штаны. Вы врач какой специализации?
– Я терапевт.
– Значит, на хирурга учиться передумали?
– Терапия у меня пошла лучше.
Женщина что-то писала в анкетах. Чёрт возьми, откуда она знает про него такие подробности, ведь он никому ничего не рассказывал, тем более про свою учёбу, что он действительно одно время хотел освоить специальность хирурга, но передумал, послушавшись питавшего к нему слабость профессора Черняева. Тот был просто уверен, что колоть и резать – это удел мясников, а ему, Марку, светит хорошая карьера врача терапевта. И Марк внял профессору, он даже одно время хотел, чтобы Черняев оставил его на кафедре по окончании института, и даже собирался вернуться в Саратов после небольшого отпуска в любимый город. Но война спутала все планы, и прямо в Ленинграде он сам явился в военкомат и призвался. Но откуда о нём могла знать эта женщина в немецкой униформе, свободно говорящая по-русски? Внезапно Марк начал догадываться, кто мог быть перед ним. Нет, это было бы слишком невероятно.
– А как ваша сестра, Михаил Николаевич, она тоже терапевт?
– Да.
– Вы хотите сообщить германскому командованию какие-либо сведения о себе, например, вашу национальность. Ну, что же вы молчите? Смелее.
– Русский. Я русский.
– Как здорово вы врёте, Михаил Николаевич. Вам следовало хотя бы исправить обрезание. Поднимите уже глаза.
Марк медленно поднял взгляд. Сомнений не было, перед ним сидела Ольга, та самая Ольга, в которую он был влюблён в первый год своего обучения в Саратовском мединституте. Да, именно ей он рассказывал о том, что хотел бы стать хирургом. Но как она очутилась здесь, ведь её же арестовали и депортировали куда-то далеко. Он долго хранил прощальное письмо от неё, оно и по сей день оставалось среди его вещей, оставленных у квартирной хозяйки на хранение.
«Мой любимый Марик, я не знаю, в чём мы виноваты, но нас не выпускают из нашего посёлка. Нам объявили, что дают два дня на сборы, и мы срочно пакуем чемоданы. Нам придётся оставить дома и скотину. Нас куда-то переселяют, вроде бы из-за симпатий к немецким фашистам, но никто ничего не понимает. Я надеюсь, что всё встанет на свои места после того, как власти разберутся в происходящем, и нас вернут обратно. Я очень хочу вновь быть с тобою вместе. Знай, что я очень тебя люблю и буду ждать нашей встречи. Но если от меня не будет вестей год, или два, или три, найди себе другую, а меня забудь. Я лишь хочу, чтобы ты был счастлив».