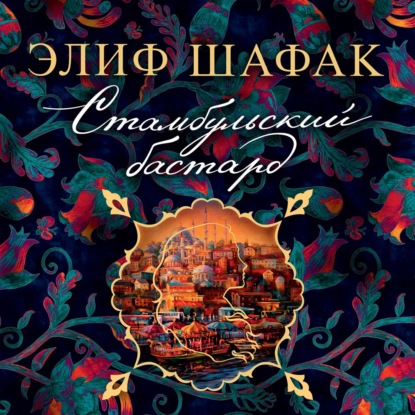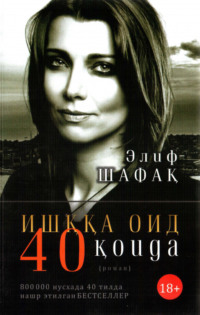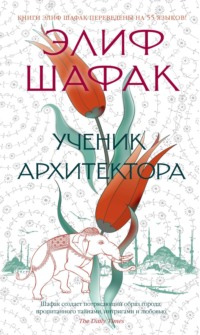Полная версия
Стамбульский бастард
– Сверток с бурмой? – предположил Кеворк.
– Нет, дюжину армян, выстроившихся в ожидании бесплатной стрижки.
– Ты намекаешь на то, что мы нация крохоборов? – спросил Кеворк.
– Нет, невежественный юноша, я просто хочу сказать, что мы, армяне, друг о друге заботимся и, если находим что-то хорошее, сразу делимся с родственниками. Именно этот коллективный дух и помог армянскому народу выжить.
– Да, но еще ведь говорят, стоит сойтись двум армянам, как они делятся на три церкви, – не отступал кузен Кеворк.
Дикран Стамбулян что-то проворчал по-армянски. Он всегда переходил на армянский, когда пытался вразумить молодежь, но в этот раз ничего у него не вышло.
Кеворк понимал только разговорный армянский, но никак не литературный язык, поэтому нервно захихикал, может быть, даже слишком нервно, чтобы никто не заметил, что он перевел только первую половину предложения.
– Не зли мальчика, – приподняв одну бровь, сказала бабушка по-турецки, как делала всегда, когда хотела, чтобы ее поняло только старшее поколение.
Услышав ее, дядя Дикран вздохнул, как мальчик, которого отчитала мать, и стал искать утешения в тарелке.
Воцарилась тишина. На улице только что зажегся фонарь, и в его сонном свете комната вдруг наполнилась сиянием. Все словно светилось изнутри, и люди, и вещи: трое мужчин, три поколения женщин, устилавшие пол коврики, старинное серебро в буфете, самовар на серванте, кассета с фильмом «Цвет граната»[3] в видеомагнитофоне, множество картин, икона святой Анны и плакат с изображением горы Арарат, увенчанной снежной шапкой. Казалось, с ними вместе здесь замерли призраки прошлого.
Перед домом остановилась машина. Ее фары, как софитом, прорезали внутреннее пространство комнаты, высветив висевшую на стене табличку в золотой рамке: «ИСТИННО ГОВОРЮ ВАМ: ВСЕ, ЧТО ВЫ СВЯЖЕТЕ НА ЗЕМЛЕ, ТО БУДЕТ СВЯЗАНО НА НЕБЕ, И ЧТО РАЗРЕШИТЕ НА ЗЕМЛЕ, ТО БУДЕТ РАЗРЕШЕНО НА НЕБЕ. МФ, 18: 18».
За окном снова прозвенел трамвай, на котором галдевшие дети и туристы перемещались из района Рашен-Хилл в аквапарк, морской музей и к рыбацкой пристани. Был час пик, шум города хлынул в комнату и заставил всех очнуться от забытья.
– Роуз в душе совсем не плохая, – набрался смелости сказать Барсам. – Ей было непросто к нам привыкнуть. Когда мы познакомились, она была такой робкой девочкой из Кентукки.
– Говорят, дорога в ад вымощена благими намерениями, – бросил дядя Дикран.
Но Барсам пропустил его слова мимо ушей и снова заговорил:
– Вы только подумайте: там даже спиртное не продают. Запрещено! Знаете, какое самое яркое событие в их Элизабеттауне? Это – ежегодный праздник, когда местные жители наряжаются в костюмы отцов-основателей. – Барсам воздел руки, то ли чтобы подтвердить свою правоту, то ли воззвать к Господу с отчаянной мольбой. – А потом они все шествуют в центр города, чтобы встретить там генерала Джорджа Армстронга Кастера.
– Вот именно поэтому тебе и не надо было на ней жениться, – пробормотал дядя Дикран.
Он уже выпустил всю злость и понимал, что не может больше сердиться на любимого племянника.
– Я должен донести до вас, что Роуз была с детства лишена мультикультурной среды, – заметил Барсам. – Единственная дочь типичной пары с Юга, державшей скобяную лавку, она выросла в маленьком городке, а потом вдруг – раз! – и оказалась посреди многочисленного дружного семейства армян-католиков, живущих диаспорой. Огромная семья, обремененная историческими травмами. Немудрено, что ей было трудно.
– Ну, нам тоже было нелегко… – возразила тетушка Варсениг, нацелив на брата зубья вилки, а потом вонзила их в котлетку.
Не в пример матери, она отличалась отменным аппетитом, но непостижимым образом умудрялась оставаться очень худой, хотя ежедневно поглощала огромное количество еды и к тому же совсем недавно произвела на свет близнецов.
– Да и вообще, она и готовить-то ничего не умела, кроме кошмарного барбекю из баранины с булочкой. Всякий раз, когда мы приезжали к вам в гости, она напяливала грязный фартук и жарила баранину.
Все, кроме Барсама, засмеялись.
– Но, надо отдать ей должное, – продолжила тетушка Варсениг, довольная, что все оценили ее сарказм, – она время от времени меняла соус. Бывало, нам подавали барбекю из баранины с острым соусом «Тeкс-мекс», а в другой раз – барбекю из баранины с соусом «Ранч». Кухня твоей жены была просто чудом разнообразия.
– Бывшей жены, – снова поправила ее тетушка Зарухи.
– Но вы ей тоже спуску не давали, – сказал Барсам, стараясь не глядеть ни на кого конкретно, словно обращаясь ко всем сразу. – Позвольте вам напомнить, что первое армянское слово, которое она узнала, было «отар».
– Но она и есть отар, – хлопнул племянника по спине дядюшка Дикран. – Если она чужая, почему бы ее так не называть?
Ошарашенный хлопком больше, чем вопросом, Барсам решился добавить:
– Кое-кто в этой семье даже называл ее колючкой.
– И что такого? – доедая чурек, обиженно возразила тетушка Варсениг, принявшая это замечание на свой счет. – Эта женщина должна была бы сменить имя с Розы на Колючку. Имя Роза ей совсем не подходит. Такое нежное для такой злючки. Если бы ее мама с папой хотя бы на секунду могли представить, какая она вырастет, они бы точно окрестили ее Колючкой, ты уж мне поверь, брат!
– Пошутили – и хватит! – велела Шушан Чахмахчян.
В ее словах не было ни упрека, ни угрозы, но на всех присутствующих они оказали именно такое действие. Сумерки сгустились, и в комнате стало почти темно. Бабушка Шушан встала и зажгла хрустальную люстру.
– Мы должны уберечь Армануш от беды, это единственное, что имеет значение, – сказала Шушан Чахмахчян тихим голосом; сетка морщин на ее лице и тонкие багровые вены на руках были словно высвечены ярким электрическим светом. – Мы нужны бедной овечке так же, как она нам. – Она медленно покачала головой, выражение непреклонной решимости сошло с ее лица, уступило место смирению. – Надо быть армянином, чтобы понять, каково это, когда вас становится все меньше и меньше. Мы как дерево, которому отрубили ветки. Пускай Роуз встречается с кем хочет, пускай выходит за него замуж, но ее дочь – армянка, и воспитать ее надо как армянку. – Шушан наклонилась к старшей дочери и сказала ей с улыбкой: – Дай-ка мне твою половину пирога. Диабет, не диабет, разве можно отказаться от бурмы?
Глава 4
Жареный фундук
Асия Казанчи никогда не понимала, почему некоторые люди так любят свой день рождения. Лично она его ненавидела. Всегда ненавидела. Может быть, дело в том, что с самого детства каждый день рождения ее заставляли есть один и тот же именинный торт: ужасно приторный трехслойный карамельно-яблочный бисквит, покрытый ужасно кислым кремом из взбитых сливок с лимоном. Непонятно, как это тетки вновь и вновь рассчитывали на то, что этот торт ее порадует, хотя она каждый раз отчаянно протестовала. Наверное, они забывали. Должно быть, все воспоминания о прошлогоднем дне рождения попросту стирались из их сознания. Такое возможно. В семействе Казанчи всегда помнили чужие истории, а вот собственные напрочь забывали.
В общем, каждый свой день рождения Асия ела все тот же торт и при этом понимала про себя что-то новое. Так, в три года она обнаружила, что можно добиться практически всего, если только закатить истерику. А три года спустя, в шестой день рождения, поняла, что с истериками пора завязывать, потому что взрослые хотя и выполняли ее желания, но продолжали относиться к ней как к маленькой. К восьми годам она осознала то, о чем прежде лишь смутно догадывалась: она незаконнорожденная. Теперь-то она понимала, что это открытие было вовсе не ее собственной заслугой, и она бы еще долго ничего не узнала, если бы не бабушка Гульсум.
Как-то раз волею случая бабушка и внучка остались вдвоем в гостиной. Они с головой ушли каждая в свое занятие: одна поливала цветы, другая раскрашивала клоуна в детском альбоме.
– А почему ты разговариваешь с растениями? – полюбопытствовала Асия.
– Потому что от этого они расцветают.
– Правда? – улыбнулась во весь рот девочка.
– Конечно! Надо им сказать, что земля – их мать, а вода – отец, и тогда они сразу воспрянут и расцветут.
Асия больше вопросов не задавала и снова принялась за клоуна. Костюм его она сделала оранжевым, зубы – зелеными и хотела уже раскрасить ботинки ярко-красным, но вдруг прервалась и стала подражать бабушке: «Ты моя милочка, ты моя лапочка, земля – твоя мамочка, водичка – твой папочка». Гульсум не подала виду, что слышит. И Асия – как это на нее не обращают внимания? – совсем раскуражилась, затянула громче одно и то же.
Гульсум собиралась поливать свою любимицу – африканскую фиалку.
– Как поживаешь, милая? – ворковала она с цветком.
Асия передразнила ее:
– Как поживаешь, милая?
Бабушка нахмурилась и прикусила губу, но все же не замолчала:
– Какая же ты красивая, такая пурпурная.
– Какая же ты красивая, такая пурпурная, – кривлялась Асия.
И тут Гульсум жестко сжала рот и тихо выдавила из себя:
– Приблудная.
Она произнесла это так спокойно, что Асия сначала даже не поняла, что слово адресовано ей, а не цветку.
Что это значит, Асия узнала только через год, ближе к девятому дню рождения, когда ее обозвали… в школе. Потом, в десять лет, до нее вдруг дошло, что, в отличие от одноклассниц, у нее дома нет ни одного мужчины. Еще три года ушло на то, чтобы осознать все последствия этого факта. В четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый дни рождения она сделала еще по открытию. Первое: другие семьи не похожи на ее семью, иногда они даже нормальные. Второе: у нее в роду как-то слишком много женщин, а с мужчинами связано как-то слишком много секретов, а еще они куда-то исчезали, как-то слишком рано и слишком уж странным образом. И наконец, третье. Она может хоть из кожи вон лезть, но никогда не станет красивой. К семнадцати годам Асия поняла еще, что ее связь со Стамбулом не глубже, чем у временно выставленных городскими властями знаков «РЕМОНТ ДОРОГИ» или «ВЕДЕТСЯ РЕСТАВРАЦИЯ» или чем у тумана, нависавшего над городом в ненастные ночи лишь для того, чтобы бесследно рассеяться на рассвете.
Уже на следующий год, за два дня до восемнадцатилетия, Асия ограбила домашнюю аптечку и проглотила все найденные таблетки. Она очнулась в постели, над ней стояли четыре тетки и обе бабушки – Гульсум и Петит-Ма. Сначала они заставили ее вытошнить все до последней капли, а потом отпаивали какими-то мутными вонючими травяными отварами. В восемнадцатый год своей жизни Асия вступила с осознанием, увенчавшим все ее прежние открытия: в этом дурацком мире право на самоубийство было редкой роскошью, и ты точно не войдешь в число счастливых обладателей этого права, если живешь в такой семейке, как у нее.
Не совсем понятно, было ли это умозаключение как-то связано с последующими событиями, но именно тогда началось ее страстное увлечение музыкой. Это была не абстрактная всеядная любовь к музыке вообще и даже не одержимость определенными жанрами, нет. Это была настоящая фиксация на одном-единственном певце – Джонни Кэше[4]. Она подробнейшим образом изучила и знала все, что его касалось: перемещения от Арканзаса до Мемфиса, взлеты и падения, собутыльников и жен, все фотографии, привычки и, конечно, тексты песен. В восемнадцать лет она избрала слова песни «Thirteen» девизом на всю оставшуюся жизнь и решила, что и ей на роду написано всюду приносить беду.
Сегодня ей исполнилось девятнадцать, то есть ровно столько, сколько было матери в момент ее рождения. Отметив это обстоятельство, Асия сразу почувствовала себя куда более взрослой, но еще не вполне понимала, что делать с этим открытием. Одно она знала наверняка: отныне никто не смеет обращаться с ней как с ребенком, и она фыркнула:
– Предупреждаю! В этом году никакого торта!
Она расправила плечи и подбоченилась, забыв на секунду, что так выпячивает огромную грудь, иначе сгорбилась бы снова. Асия ненавидела свой пышный бюст и тяготилась этим материнским наследством.
Иногда она сравнивала себя с упоминавшимся в Коране таинственным существом по имени Даббат аль-ард, чудовищным великаном, который явится в Судный день. Подобно этому фантастическому гибриду, состоящему из разных реальных животных, она унаследовала от родственниц отдельные части тела, кои странным образом в ней сочетались. Асия была очень высокая, гораздо выше большинства стамбульских женщин, этим она пошла в мать Зелиху, которую, кстати, тоже называла тетушкой. У нее были костлявые, в тонких жилках пальцы тетушки Севрие, дурацкий острый подбородок тетушки Фериде и слоновьи уши тетушки Бану. А нос у нее был до того горбатый, что даже неприлично. Такой нос имел лишь два аналога в истории: у султана Мехмеда Завоевателя и у тетушки Зелихи. Султан Мехмед покорил Константинополь; относиться к этому можно как угодно, но историческое значение данного факта поневоле заставляло забыть о форме носа. А у тетушки Зелихи была такая харизма и столь пленительное тело, что взиравшие на нее не видели никакого изъяна и все в ней, даже нос, считали совершенством. Но Асия не могла похвастать великодержавными победами и была начисто лишена природного очарования, поэтому просто не знала, как жить с таким носом.
Конечно, она унаследовала от родственниц и кое-что хорошее, хотя бы волосы. Они у нее были черные как смоль и вились буйными кудрями. По идее, такие волосы были у всех женщин в семье, а на деле – только у тетушки Зелихи. Строгая учительница Севрие, например, закалывала их в тугой пучок, а тетушка Бану вообще в счет не шла, потому что практически не снимала платка. Тетушка Фериде неистово меняла прически и цвет волос по настроению. Бабушка Гульсум считала, что старухе неприлично закрашивать седину, и ее голова напоминала ватный шарик. А Петит-Ma была ярой поклонницей рыжего цвета. Прогрессировавший «альцгеймер» приводил к тому, что она забывала множество вещей, включая имена родных, но еще ни разу не забыла покрасить волосы хной.
В списке положительных наследственных черт были также миндалевидные газельи глаза (от тетушки Бану), высокий лоб (от тетушки Севрие) и взрывной темперамент, который странным образом давал ей силы жить (от тетушки Фериде). И все же ей было тошно видеть, как она с каждым годом становится все больше похожа на них. Во всем, кроме одного – их склонности к безрассудству. Все женщины семейства Казанчи были совершенно непредсказуемы. Не желая им уподобляться, Асия какое-то время назад поклялась никогда не сворачивать с пути рационального аналитического мышления.
К девятнадцати годам страстное стремление отстоять свою индивидуальность придало Асии невиданные силы, чтобы бунтовать по самым необычным поводам. У нее действительно были серьезные основания гневаться, поэтому она запротестовала еще отчаяннее и яростнее:
– Больше никаких идиотских тортов!
– Поздно, милочка, он уже готов. – Тетушка Бану сверкнула на нее очами поверх только что перевернутой карты «Восьмерки пентаклей». Разложенная на столе колода Таро не предвещала ничего хорошего, разве что следующие три карты окажутся особенно счастливыми. – Только не подавай виду, что знаешь, а то твоя бедная мама расстроится, мы же хотели сделать тебе сюрприз.
– Сюрприз… Я думала, сюрприз – это что-то менее предсказуемое, – проворчала Асия.
Она уже успела понять, что быть членом семьи Казанчи значило, что ты, помимо всего прочего, должна уверовать в магическую силу абсурда и постоянно находить какую-то логику в самых несуразных вещах, логику, которая будет убеждать окружающих и, если немного постараться, даже тебя.
– В этом доме я отвечаю за предсказания и пророчества, – подмигнула тетушка Бану.
И в ее словах была известная доля правды. Тетушка Бану годами упражнялась и разрабатывала свои способности к ясновидению, а потом начала принимать посетителей и брать с них деньги. В одночасье гадалка стала стамбульской знаменитостью. Это вопрос везения: надо только удачно погадать кому-нибудь, а там не успеешь оглянуться – и это уже твоя главная клиентка. А с ее подачи ветер и чайки разнесут весть о тебе по всему городу, так что не пройдет и недели, как у крыльца выстроится целая шеренга клиентов. Таким образом, тетушка Бану окончательно посвятила себя искусству гадания и начала триумфальное восхождение по профессиональной лестнице, причем с каждой ступенью слава ее росла. Со всего города к ней спешили девицы и вдовы, юные девушки и беззубые старухи, бедные и богатые, каждая со своими тревогами. Всем им не терпелось узнать, что же уготовила им Фортуна, эта легкомысленная и непостоянная богиня. Они приходили с уймой вопросов и уходили домой с новыми вопросами. Иные щедро платили в надежде подкупить Фортуну, другие не давали ни гроша. Они были очень разные, но их объединяло главное: это были женщины. Официально объявив себя гадалкой, тетушка Бану зареклась принимать мужчин.
Между тем c самой тетушкой Бану произошли решительные перемены, и в первую очередь они коснулись ее внешности. Только вступив на поприще гадалки, она стала живописно драпироваться в ярко-алые пышно расшитые шали. Вскоре их сменили кашемировые платки, платки – пашминовые палантины, палантины – небрежно повязанные шелковые тюрбаны, причем все красных оттенков. Затем тетушка Бану вдруг сообщила, что решилась исполнить свое давнишнее тайное желание: отречься от всего земного и без остатка посвятить себя служению Всевышнему. Она торжественно объявила, что на пути к этой высокой цели намерена предаться покаянию и отрешиться от мирской суеты подобно дервишам и аскетам былых времен.
– Но ты не дервиш!
Ехидные сестры были как одна полны решимости отговорить ее от такого неслыханного во всей истории семейства Казанчи святотатства. И все три принялись перечислять аргументы против, причем каждая старалась говорить самым дружелюбным тоном.
– Ты только подумай, – ужаснулась самая чувствительная из сестер, тетушка Севрие, – дервиши носили жесткую дерюгу или рубище из грубой шерсти, а вовсе не кашемировые шали.
Тетушка Бану смущенно сглотнула, ей было явно не по себе, как-то неловко в собственной одежде и теле.
– А еще дервиши спали на соломе, а вовсе не на огромных пуховых перинах, – подхватила тетушка Фериде, главная чудачка.
Тетушка Бану стояла неподвижно, как на допросе, уставившись в противоположный угол комнаты и не смея поднять глаз на своих мучительниц. Разве она виновата, что у нее так ужасно болит спина и ей непременно нужно спать на особом матрасе?
– К тому же у дервишей не было эго. А у тебя? Ты только посмотри на себя! – заявила тетушка Зелиха, самая нетривиальная.
Но тетушка Бану решила защищаться и перешла в контрнаступление:
– У меня тоже нет эго. Больше нет. С этим покончено. – И добавила каким-то новым просветленным голосом: – Я вступлю в битву с моим эго, и я его одолею.
Если кто-нибудь из членов семейства Казанчи решался затеять что-то необычное, остальные всегда реагировали одинаково: они продолжали жить, как раньше, словно говорили: «Валяй, нам-то что, думаешь, нам это интересно?» Слова тетушки Бану тоже не восприняли всерьез. Убедившись во всеобщем скепсисе, она бросилась в свою комнату, со стуком захлопнула дверь и не открывала ее на протяжении следующих сорока дней, не считая коротких вылазок в туалет и на кухню. Еще она однажды приоткрыла дверь, чтобы повесить на нее картонный плакатик с надписью: «ОТРЕКИСЬ ОТ СЕБЯ ВСЯК СЮДА ВХОДЯЩИЙ».
Поначалу Бану думала взять к себе доживавшего последние дни Пашу Третьего. Наверное, надеялась обрести в нем товарища во время покаянного затворничества, хотя, вообще-то, дервиши не держали домашних животных. Но Паша Третий, пусть и бывал временами крайне необщительным, не осилил отшельнической жизни. Он был слишком привязан к мирским удовольствиям, взять хотя бы брынзу или электрические провода. Проведя в келье Бану не больше часа, Паша Третий истошно замяукал и принялся так отчаянно скрестись в дверь, что его немедленно выпустили. Лишившись единственного товарища, тетушка Бану целиком отдалась тоске и одиночеству, погрузилась в полное молчание, словно оглохла и онемела. Она перестала принимать душ, причесываться и даже не смотрела свою любимую мыльную оперу «Проклятие плюща любовной страсти», бразильский сериал про добросердечную красавицу-модель, которую постоянно предают самые дорогие ее сердцу люди.
Настоящим потрясением для всех стало то, что тетушка Бану, всегда отличавшаяся невероятным аппетитом, стала питаться лишь хлебом и водой. Конечно, она и раньше славилась любовью к углеводным продуктам, особенно к хлебу, но никто и представить себе не мог, что хлеб станет ее единственной пищей. Сестры всячески искушали ее, надеясь, что она уступит своей главной слабости, и постоянно что-то готовили, наполняя дом ароматами десертов, жаренной во фритюре рыбы, запеченного мяса, которое для пущего запаха щедро поливали топленым маслом.
Но тетушка Бану не дрогнула, напротив, она еще тверже хранила верность благочестивым упражнениям и сухарям. Сорок дней она оставалась полностью недоступна для домашних, хотя и продолжала жить с ними под одной крышей. Все эти обычные бытовые дела: мытье посуды, стирка, просмотр телевизора и болтовня с соседями – стали для нее источником скверны, и она не желала иметь к ним никакого касательства. Время от времени сестры приходили ее проведать и всегда видели одно и то же: Бану сидела и громко читала Коран. Она так глубоко погрузилась в бездну благодати, что стала совсем чужой тем, с кем прожила всю жизнь.
И вот наступило утро сорок первого дня. Все сидели за столом и завтракали яичницей и жаренными на гриле колбасками, когда Бану выплыла наконец из своей комнаты. Лицо ее светилось лучезарной улыбкой, глаза таинственно сверкали, а голову украшал шарф вишневого цвета.
– Что это за унылая тряпка у тебя на голове?! – воскликнула бабушка Гульсум, которая за все эти годы ни капли не смягчилась и все так же смахивала на Ивана Грозного.
– Я теперь буду покрывать голову, как велит моя вера.
– Что еще за бред! – нахмурилась бабушка. – Турецкие женщины уже девяносто лет как сняли платки. Ни одна из моих дочерей не поступится правами, которые великий генерал Ататюрк даровал женщинам этой страны.
– Конечно, – поддакнула тетушка Севрие, – в тысяча девятьсот тридцать четвертом году женщины получили избирательные права. На всякий случай напоминаю, что история движется вперед, а не назад, так что немедленно сними.
Но тетушка Бану не послушалась. Она продолжала ходить в платке и, пройдя испытание тремя «П»: Покаяние, Поклоны и Пост, – с полным правом объявила себя гадалкой. На протяжении этого духовного пути менялась не только внешность Бану, но и то, как она предсказывала будущее. Сначала она гадала исключительно на кофейной гуще, но с течением времени стала прибегать к новым и весьма оригинальным способам, таким как гадание на картах Таро, сушеных бобах, серебряных монетах, четках, дверных звонках, искусственном и настоящем жемчуге, морской гальке – на всем, что могло помочь связаться с иным миром. Иногда она вступала в оживленную беседу с собственными плечами, на которых, как она утверждала, сидели, болтая ножками, два невидимых джинна. На правом плече – добрый джинн, а на левом – злой. Она знала их имена, но не хотела произносить вслух и называла их просто мадам Милашка и мсье Стервец.
Однажды Асия спросила тетку:
– А почему ты не сбросишь с плеча злого джинна?
И получила ответ:
– Иногда и зло бывает нам полезно.
Асия попробовала было нахмуриться и закатить глаза, но это придало ее лицу совсем детское выражение. Она принялась насвистывать мотив из песни Джонни Кэша, которую часто вспоминала, когда имела дело с тетками: «Почему я, боже, что я такого сделал?..»
– Что ты там свистишь? – недоверчиво спросила тетушка Бану, совсем не знавшая английского и с подозрением относившаяся к непонятным языкам.
– Песню, в которой говорится, что ты, самая старшая из моих теток, должна бы подавать пример, учить меня отличать добро и зло, а ты рассказываешь мне о необходимости зла.
– Послушай-ка, – начала тетушка Бану, пристально глядя на племянницу, – в этом мире есть столь ужасные вещи, что добросердечные люди, благослови их Аллах, даже представить себе не могут. Но так, скажу я тебе, и должно быть. Правильно, что они живут в неведении, это только подтверждает, какие они хорошие. В противном случае, знай они об этих вещах, они бы уже не смогли оставаться такими хорошими.
Асии ничего не оставалось, кроме как кивнуть. К тому же она чувствовала, что Джонни Кэш согласился бы с этим.
– Но если ты вдруг попадешь в ловушку злых козней, то обратишься за помощью вовсе не к этим добрым людям.
– И ты думаешь, я попрошу помощи у злых джиннов! – воскликнула Асия.
– Может быть, и да, дорогая, – покачала головой тетушка Бану. – Но будем надеяться, тебе не придется.
Вот и все. Впредь они никогда не говорили больше о том, что добро не всемогуще и иногда не обойтись без злых сил.