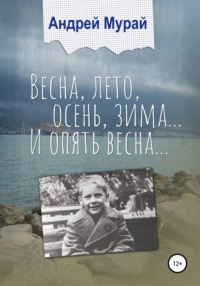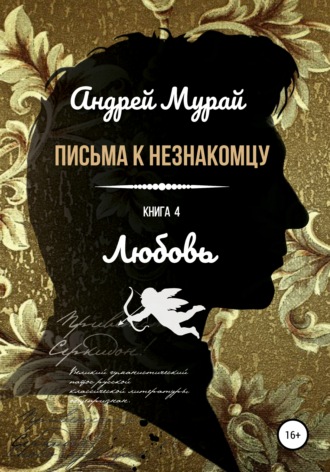 полная версия
полная версияПисьма к незнакомцу. Книга 4. Любовь
Лика встречала, стоя под лестницей, «с вопрошающими и готовыми к ужасу глазами…»
Эх, не было там же под лестницей вокально-инструментального ансамбля моей молодости, чтобы спели «Весёлые ребята»84:
Пусть говорят что мы не пара,
А ты не верь, не верь,
Приятель, этой песне старой,
А ты люби её свою девчонку,
А ты люби её такую тонкую…85
Ну, не такую уж и тонкую. Видел я фотографию Варвары Пащенко. Плотная, коренастая девица с пенсне, с короткой шеей, с длинными ушками. Чтобы влюбиться в такую без памяти, воистину нужно быть поэтом с богатым воображением. Или Варвара Пащенко была роковой женщиной? Тогда фотографии рассматривать бесполезно, не глазами любят таких женщин, а сразу всеми органами чувств…
И пусть никто не спел молодым людям бодрой песни, они свою любовь в утиль сдавать не спешили. Стали жить невенчанными, сбежали в благословенную Малороссию, к брату Юлию, который заведовал в полтавском земстве статистическим бюро.
В Полтаве Ваня работал рядовым статистом, потом библиотекарем, и случайных заработков не гнушался. Попробовал было открыть книжный магазин. Но если бы все полтавчане читали так, как молодой Бунин, дело бы и закрутилось, и завертелось, а так…
Ну и, конечно, Иван работал над собой: под руководством старшего брата самостоятельно закончил гимназический курс, начал изучать университетскую программу, читал классиков, мечтал сам стать классиком, для чего писал и рассылал свои литературные произведения, знакомился с толстовцами, распространял их литературу, ездил в Ясную Поляну ко Льву Николаевичу. Толстой посоветовал Бунину толстовством не слишком увлекаться. Верно, великий писатель и сам не рад был, что увлёкся толстовством…
Но всё равно паломничество к Учителю стало для молодого писателя определяющим: он причастился, припал к стопам, сотворил себе кумира до конца жизни. Последняя книга, которую вынимали из уже холодных рук Ивана Алексеевича, был роман «Воскресение»…
Но до этого посмертного «Воскресения» было почти шестьдесят лет! С тёплыми и нетерпеливыми руками, а главное с горячим сердцем вернулся Ваня в Полтаву, продолжил, толкаясь сильными ногами, носиться по самым верхним этажам человеческих самовыражений: музыка, философия, стихи…
Ваня, бывало, пьянел от роскошного образа. Взахлёб читал:
Какая грусть! Конец аллеи
Опять с утра исчез в пыли,
Опять серебряные змеи
Через сугробы поползли…86
«Какие змеи?» – спрашивала Варя87… Она не понимала, зачем нужны змеи, которых нет. Ей нужен был дом и достаток, который есть. Вернее сказать, имеется в наличии. Она жила на нижних этажах человеческого бытования. Встречалась с Ваней только по ночам, в остальное время они часто ссорились, не понимая друг друга. Варя измучилась в неопределённости, в своём женском гамлетовском раздумье: быть с ним или не быть? Надолго ли это у нас? Вот мы вдвоём, и то еле концы с концами сводим, а будет ребёнок? А как же он будет, если мы не венчаны? А не вернуться ли мне домой к папеньке?
И она уезжала к папеньке, Ваня бросался вслед. Прибегал к её дому, с глазами полными слёз, возвращал беглянку мольбами жаркими. Они опять ехали в Полтаву, и тень отца Пащенко летела вслед за поездом, бросая обидные слова, обзывая похитителя дочки пустельгой, недоучкой, неудачником. Не знала тень (да и кто же тогда знал!), что будет эта пустельга академиком по разряду изящной словесности, Нобелевским лауреатом в области литературы, последним русским классиком, что поставят дочкиному сожителю памятник в городе Орле и напишут на памятнике отнюдь не пустельга, а – писатель Иван Бунин…
Всё же было что-то мистическое, притягивающее мужчин в докторской дочке. Иначе не стал бы подбивать к ней колья знакомый Бунина – Арсений Бибиков. Перспективный молодой человек, за которым было именьице и двести десятин земли. И застыла девица в неподвижности, как то буриданово животное: между любящим, но неимущим Ваней и двумястами десятинами землицы…
Ситуация разрешилась парадоксально. Пришло письмо от отца. Доктор давал благословение на венчание с Буниным. Раз уж никак тебе не бросить тебе Ванечку, Бог с Вами – венчайтесь, не живи в грехе.
Странным образом подействовало на Варвару родительское благословение. Она поняла, что решать надо самой и сейчас. То ли монетку подкинула, то ли что-то в голове её щёлкнуло, но – четвёртого ноября 1894 года, воспользовавшись тем, что все мужчины отправились в храмы присягать новому царю88, Варвара Пащенко от привычного мужчины отреклась, написав ему прощальную записку. «И тем я начал свой рассказ»89. В следующем году стала она Бибиковой…
Интересно, что с Арсением Бибиковым, мужем Варвары и своим оскорбителем, Бунин отношений не порвал. Они продолжали приятельствовать. Как для себя оправдал Иван Алексеевич поступок Бибикова – непонятно. Может быть, он посчитал, что есть влечения, которым воля мужчины и порядочность противостоять не могут. Они встречались семьями. Вера Николаевна Муромцева-Бунина90 вспоминает:
«А в 1909 году, – через пятнадцать лет после того рокового дня, – Бибиковы обедали у нас, как раз в час, когда пришла телеграмма с поздравлениями Ивану Алексеевичу в связи с избранием его в академики по разряду изящной словесности. Бибикова встала из-за стола, была бледна, но спокойна. Через минуту раздельно и сухо сказала: “Поздравляю Вас”».
Поняла – не угадала.
Но Ивану Алексеевичу было уже глубоко фиолетово, стоит ли она, сидит ли, что и как она говорит. Даже, когда в 1918 году рыдающий Бибиков сообщил по телефону о смерти Варвары Николаевны, Бунин поразился безразличию своему: не почувствовал он ни жалости, ни сожаления, ни сострадания. Это Доминанта. Она выжгла область мозга, ответственную за мысли и чувства к когда-то любимому человеку, и уже ничего к этому человеку почувствовать было нельзя.
Вот это, Серкидон, первая история, и не ждите, что вторая будет веселей. Для плавного перехода к ней Вам тоже неплохо бы прочитать «Разговоры с Гёте» литератора Эккермана91, о котором Ваня Бунин упомянул вскользь.
Крепко жму Вашу руку, и до следующего письма.
-19-
Приветствую Вас, Серкидон!
Без малого девять веков просуществовала Священная Римская империя, что не помешало насмешнику Вольтеру поглумиться и над ней: «Государственное образование, именовавшееся Священной Римской империей, не было ни священной, ни римской, ни империей».
К 1772 году странная и непрочная конфедерация, именуемая теперь Священной Римской империей германской нации, ещё значилась на картах, но уже клонилась к своему закату… Зато восходил, готовясь засиять, щедрый гений молодого немца. О нём наша вторая поучительная история.
Иоганн Вольфганг Гёте.
В мае 1772 года по настоянию отца Гёте приехал в город Вецлар и поступил адвокатом-практикантом в имперский апелляционный суд. Ныне это юридическое учреждение, несомненно, попало бы в книгу Гиннеса благодаря тому, что иные тяжбы и процессы между различными германскими княжествами тянулись там не годами, не десятилетиями, но столетиями. Рекорд – 150 годков!
Во времена благословенной молодости человек с радостью открывает сердце новым впечатлениям, распахивает объятия новым знакомствам. Гёте быстро сдружился с молодыми людьми, усердно трудившимися на ниве юриспруденции. Ближе других сошёлся с Иоганном Кристианом Кёстнером, секретарём ганноверского посольства, которого за глаза называли «женихом», и Карлом Вильгельмом Иерузалемом, сыном известного богослова, секретарём брауншвейгского посольства. Иерузелем был благовоспитанный светловолосый юноша в синем фраке, усидчивый, рассудительный и, казалось бы, не способный на отчаянные поступки…
Тут бы написать по-советски: молодые люди с жаром делились мнениями о просмотренных кинофильмах, о прочитанных книгах, ходили вместе на футбольные матчи с участием команд бундеслиги… Но нет и ещё раз нет. Всё не так. Футбол ещё не придумали, вместо кино – волшебный фонарь, а художественную литературу читал только Гёте.
Молодые юристы, озабоченные карьерой, на такие глупости не разменивались, душой и телом они были на работе. То ли дело Гёте, он, решил, что осуществлять надо собственные мечты, а не мечты своего родителя, и, как положено поэту, предпочитал судебным палатам – свод небес…
Но был, был у молодых людей один общий интерес. Это интерес к прекрасному полу. К таким приятным увеселениям, как балы, пляски, деревенские гуляния и ярмарки.
На один из балов Гёте волею судеб сопроводил милое молодое создание по имени Шарлотта Буфф92. Гёте был очарован простотой и непринуждённостью суждений девятнадцатилетней девушки.
«Как я любовался во время разговора её глазами! Как тянулся душой к выразительным губам, к свежим упругим щекам, как, проникаясь смыслом её речей, я порой не слышал самих слов… я вышел из кареты, точно во сне, и так замечтался, что не слышал музыки, гремевшей нам навстречу сверху, из освещённой залы…»
Они протанцевали весь вечер, и поэт (а много ли надо впечатлительной душе?!) тут же влюбился-пленился. Пленился тем, что чаровница Лотта была легка, тем, что была жизнерадостна, тем что «свежим, радостным воздухом веяло вблизи неё»93.
Увлечение было так велико, что в бурном порыве Гёте, изловчившись, поцеловал девушке руку. В ответ на эту дерзость Лотта обмолвилась, что она помолвлена.
Слова девушки не сразу осели в мозгу возбуждённом и взбаламученном мечтаниями, музыкой, надеждами, вихрем танца… Но на следующий день Гёте осознал: Лотта – наречённая невеста. Не сложно было узнать – кого. Кёстнера. Невеста «жениха»…
Они продолжали встречаться, приходы Гёте, человека понимающего, о положении дел осведомлённого, Лотта не считала за волокитство. И Кёстнер никак не препятствовал новому знакомству Лотты. Видимо, считал, что, раз он занят на службе, пусть его невесту развлекает начитанный и благоречивый Гёте, хотя, конечно, «такое серьёзное дело нельзя доверять никому»94.
Из мемуаров Гёте: «Ей нравилось, что он повсюду сопровождает её, а он вскоре уже не мог существовать без её близости, она как бы посредничала между ним и обыденной жизнью; при её обширном хозяйстве они стали неразлучными товарищами в поле и на лугах, в огороде и в саду. Жених, когда дела ему позволяли, присоединялся к ним. Все трое привыкли друг к другу и вскоре, сами того не зная и не желая, уже не могли друг без друга обходится. Так провели они дивно прекрасное лето; то была настоящая немецкая идиллия; прозаической её частью являлся плодородный край, поэтической – невинная любовь. Бродя среди спелых хлебов, они наслаждались свежестью росистого утра; песнь жаворонка, крик перепела веселили их души; затем наступали жаркие часы, разражались страшные грозы, но они лишь теснее льнули друг к другу, и постоянство чувств мгновенно тушило мелкие семейные недоразумения».
Долго такая тройственная идиллия продолжаться не могла. Гёте влюблялся всё больше, Лотта всё больше попадала под влияние его горячего чувства, под обаяние любви молодого поэта, и Кёстнер стал подумывать, а не является ли лишним он…
Кому-то из троих надо было разрушить мнимое тройственное благоденствие. Решился – Гёте. Не топором, но пером разрубил он гордиев узел противоестественных взаимоотношений.
В сентябре Гёте пишет записку.
«Вещи мои уложены, скоро рассвет. Когда вы получите эти строки, знайте, что я ушёл… Теперь я один и вправе плакать. Я решил уехать по доброй воле, прежде чем меня прогнали бы невыносимо сложившиеся обстоятельства. Будьте всегда радостной и бодрой, дорогая Лотта. Прощай, тысячу раз прощай!»
Так он убегал от Фредерики Брион, от своей Хлои. От деревенской девушки, дочери пастора. Какая была любовь! Какие стихи! Молодые люди встречались, расставались, гуляли по холмам, помолвились… а потом жених сбежал. И остались его амурные проделки без последствий.
Другое дело нынешние страсти к дочери амтмана, управляющего обширной территорией. Махни он рукой – и Гёте разыскивали бы все рыцари тевтонского ордена.
А Кёстнер вот-вот мог вернуть слово Лотте («Вижу… Понимаю… Не хочу мешать счастью… С болью в душе…»). И что тогда? Когтистые лапы Гименея нависли бы над молодым романтиком. Прощайте, гуляния по лугам, отдых в дубравах, питие винишка с друзьями-приятелями – здравствуйте, семейные заботы. Прощайте, все белокурые девушки Германии, здравствуй, одна голубоглазая.
И, что особенно печально, прощай литературные занятия, а ведь горько-сладкий привкус этой медовой каторги уже изведан… Гений чувствует своё предназначение, а судьба и вовсе знает предназначение гения. Именно поэтому дана была Гёте возлюбленная не для женитьбы, но для страдания. Ибо мера страдания – мера истины! Вокруг было полным-полно свободных, симпатичных, стройных девушек. Бери любую, женись, плодись, размножайся… Но Гёте полюбил чужую невесту. Судьба сберегла его для литературы. По итогу Лотта родила Кёстнеру одиннадцать детей. Гёте с его нежной душой взвыл бы уже после третьего. И потом, зачем Гёте детские крики? Он и так «и звуков, и сомнений полн»95.
Если Варя Пащенко писала свою записку сама, то невольник гения своего Гёте, писал под диктовку свыше.
На этом простимся. Жму Вашу руку, и до следующего письма.
-20-
Приветствую Вас, Серкидон!
Гёте уехал, но:
Как затопляет камыши
Волненье после шторма
Ушли на дно его души
Её черты и формы.
Или, тоже из Пастернака, «Разрыв»:
Я не держу. Иди, благотвори.
Ступай к другим. Уже написан Вертер…
Но в том-то и беда, что «Вертер» ещё не был написан…
Гёте вернулся под отчий кров, а «безумная душа поэта»96 продолжала витать в окрестностях Вецлара. Отступник чувствовал тепло руки любимой девушки, слышал её шаги. На него смотрели голубые глаза Лотты.
Тут бы Вам воскликнуть, Серкидон: «Это Доминанта!» Конечно, это она. Доминанта сформировалась, удобно устроилась и весело каруселила чёрные мысли вокруг заветного имени – Лотта. Любой звук, любой запах, любое явление возвращали к счастью, которое не случилось…
«Я на свадьбу тебя приглашу,//А на большое ты не рассчитывай…» – поётся в забытой песне97. Но на свадьбу Иоганна Кёстнера и Шарлотты Буфф третий лишний приглашён не был. Даже в этой малости ему было отказано. И правильно. А то гадал бы: ехать – не ехать. А кабы приехал, то и сидел бы мрачный, как Рогдай на свадьбе у Руслана и Людмилы…
Замужество Лотты усугубило страдания молодого Гёте. Любимая стала чужой женой, а в чужих руках женщина становится в два раза прекрасней. Читаем в мемуарах пожилого Гёте: «В имевшемся у меня солидном собрании оружия находился драгоценный, остро отточенный кинжал. Каждый вечер я клал его рядом со своей кроватью и, прежде чем потушить свечу, пробовал, не удастся ли мне вонзить его остриё на дюйм-другой себе в грудь…»
На радость всем поклонникам Гёте это была лишь игра красивым предметом. Покончить с жизнью не хватало решимости, выйти из порочного круга чёрных мыслей не хватало мудрости…
Внезапно прошёл слух о смерти Иерузалема, а вскоре после этого Гёте получил письмо от Кёстнера с подробным описанием трагического события. Безнадёжно влюблённый в замужнюю женщину Иерузалем взял утром у Кёстнера пистолеты и тем же днём разрешил все противоречия жизни одним выстрелом.
«Несчастный! Но эти дьяволы, эти подлые люди, не умеющие наслаждаться ничем, кроме отбросов суеты, воздвигшие в своём сердце кумирни сластолюбию, идолопоклонствующие, препятствующие добрым начинаниям, ни в чём не знающие меры и подтачивающие наши силы! Они виноваты в этом несчастье, в нашем несчастье. Убирались бы они к чёрту, своему собрату!» – воскликнул, Гёте, потрясённый смертью приятеля.
Это крик был протестом против замшелости, невежества и средневековой тупости в немецком обществе. Против его отсталой и замкнутой, на себя приземлённой части.
Выстрел Иерузалема снял оцепение с Гёте. «Иерузалем решился, а я перед сном с кинжальчиком играю… » Энергия стыда подтолкнула к действию – решиться хотя бы на бумаге, хотя бы в художественной форме примерить на себя трагические события.
Молодой гений решительно собрался в кучку, и в ту же кучку собрал: вецларские мысли и состояния, споры и разговоры, события и ситуации, собственные уже написанные письма, назвал себя Вертером, обрядился в платье Иерузалема (синий фрак, жёлто-коричневый жилет, жёлто-коричневый панталоны и сапоги с коричневыми отворотами), превратил Кёстнера в Альберта, возлюбленная была приукрашена достоинствами прежних красоток – голубые глаза (для конспирации) заменены чёрными, тыква стала каретой, мыши – лошадьми, а большая крыса – кучером. Одним словом – волшебная сила искусства!
Впрочем, для написания художественного произведения одного взмаха волшебной палочкой мало: четыре недели Гёте размахивал гусиными перьями. Дойдя до финала, долго мудрить не стал, закончил роман последними словами из скорбного письма Кёстнера: «Гроб несли мастеровые. Никто из духовенства не сопровождал его».
Написанное автор назвал – «Страдания молодого Вертера…»
Пардон, Серкидон. Мысль моя с одной нейронной дорожки перескочила на другую: написал «Вертер», а вспомнил Векслера и его четверостишие:
Известный графоман
Пять лет писал роман.
И на роман ушло
Гусиное крыло.
Молодой Гёте написал быстро, энергично и, конечно, не одно гусиное перо излохматил… Так что же мы имеем с гуся, кроме, разумеется, перьев? Имеем чистосердечно и подробно рассказанную историю несчастной любви. Уязвлённому сочинителю ещё нет и двадцати пяти лет, на прозаическое произведение крупной формы, называемое романом, он посягнул впервые. Как правило, в подобных случаях (и до Гёте и после него) всё написанное остаётся личным опытом автора: полегчало – и слава Богу…
Но, наверное, в руке молодого и малоискушённого жизнью автора было волшебное гусиное перо. Или было оно – с гуся-колдуна, который в прошлой жизни был волшебником. Так это или иначе, но произошло чудо!
Публикация романа стала молнией, разделившей немецкую литературу на два периода: до «Вертера» и после «Вертера». Как и положено после молнии, грянул гром…
Служители церкви усмотрели в романе злостные грехи заглавного героя: «праздность», «безмерное самолюбие» и «любовь к замужней женщине». Помимо этого обвинили автора в безбожии и нарушении христианских заповедей. Изругав вдоволь, отцы церкви вопрошали: «Почему же никакая цензура не воспрепятствует печатанию подобных сатанинских соблазнов?»98
Отцов-священнослужителей можно понять. Веками они призывали к смирению и покорности. Внушали, что жизнь мирянина есть долина скорби. И что Бог терпел и нам велел. И что жизнь твоя Богом дадена, и только Ему разрешено её забрать. А ты жди терпеливо, когда это случится.
Страстная душа Вертера не утерпела и нарушила всё сразу. За что и была подвергнута преследованиям.
Против книги решительно высказался лейпцигский теологический факультет. В январе 1775 года в городской совет было направлено прошение о запрете «Вертера». Незамедлительно последовал ответ: «Высшая комиссия категорически запрещает всем книжным лавкам и типографиям продажу вышедшего сочинения под названием «Страдания юного Вертера» под угрозой штрафа в десять талеров».
Щепетильный праведник Лихтенберг резюмировал: «Кто не направляет свои таланты на поучение и улучшение другого, тот либо плохой, либо в высшей степени ограниченный человек. Одним из них, должно быть, является автор страдающего Вертера».
Заметим в скобках – диагноз не подтвердился.
Ну, что взять, Серкидон, с этих, скажем по-пушкински, зоилов99, хорошо отшлифованных обществом, на все пуговицы (чтобы ничего не дай бог не выскочило) застёгнутых? Они отпылали, они скучны, дистиллированы страхом, и поэтому не способны на эмоциональный отклик.
Но не все немцы были таковы! Роман-молния разделил не только немецкую литературу, но и немецкое общество. Выявил бунтарей, не желающих жить по канонам полусонных бюргеров, жить в полнакала, в полголоса и по штатному расписанию от церковников, якобы получивших мандат от Самого. Люди, полные страстей, восприняли роман как долгожданный «луч света в тёмном царстве»100.
Самые восторженные отзывы Гёте получил от товарищей по литобъединению «Буря и натиск» (Sturm und Drang ).
Литературный критик Кристиан Шубарт101 писал: «Я сижу с сердцем, облитым слезами, с тревожным чувством в груди, из глаз моих струится сладостная боль, и говорю тебе, читатель, что я только что – прочёл? – «Страдания юного Вертера» моего любимого Гёте. Нет, проглотил. Критиковать эту вещь? Если бы я мог это, у меня не было бы сердца. Купи книгу и прочти сам! Но не забудь при чтении своего сердца!»
Молодой граф Фридрих Штольберг102 (автор слов к несравненной Баркароле103):
«Вертер! Вертер! Вертер! О, что за книжка! Так ещё ни один роман не трогал моего сердца. Гёте просто замечательный человек, я бы с удовольствием обнял его во время чтения!»
У многих, ой у многих появилось такое желание: обнять автора. Если не обнять, то хотя бы пожать руку… познакомиться… увидеть, издалека. Гёте вошёл в моду ( Ой, знаешь, кто это пошёл… Смотри, смотри: Гёте, тот самый Гёте… Ты что, не читал?! Гретхен, ты глянь, опять синий фрак, опять серая шляпа, вот придурки, «Вертера» начитались…)
Да-да, «вертеровский костюм» (Werthertracht) стал моден и во Франкфурте, и по всей Германии. Поклонники романа ходили в синих фраках с жёлтыми жилетами и в круглых серых шляпах. Дамы заказывали наряд Лотты – «простенькое белое платье с розовыми бантами на груди и рукавах».
Остановить «Вертера» уже было невозможно. Роман печатали «пиратским» образом, распространяли из-под полы.
А что же семейство Кёстнеров, которому автор прислал дарственную книжку? Легко предположить, что всеобщих восторгов Кёстнеры не разделили. Оно и понятно. Представим себе семейное прочтение, к примеру, данного места:
«Мне быть её мужем! О господи боже, меня сотворивший, если бы ты даровал мне это счастье, вся жизнь моя была бы беспрерывной молитвой. Я не ропщу, прости мне эти слёзы, прости мне тщетные мечты! Ей быть моей женой! Если бы я заключил в свои объятия прекраснейшее создание на земле… Я содрогаюсь всем телом, Вильгельм, когда Альберт обнимает её стройный стан… Сказать ли правду? А почему бы не сказать, Вильгельм? Со мной она была бы счастливей, чем с ним! Такой человек, как он, не способен удовлетворить все запросы её сердца. В нём нет чуткости… Как бы это объяснить? Он не способен всем сердцем откликнуться, ну, скажем, на то место любимой книги, где наши с Лоттой сердца бьются согласно…»
На этом месте глава семейства прервал чтение и мрачно сказал:
« – Гёте свихнулся.
– Но, Ганс, там речь идёт о чёрных глазах, а у меня….
– Причём тут глаза, – и обиженный прототип зашвырнул книжку в угол…»
Действительно, причём тут глаза, когда предельно ясно, что Вертер не что иное, как alter ego104 Гёте, у них сходны мысли, характеры и даже дни рождения совпадают – 28 августа. Среди бела дня в доме Кёстнеров настала полночь. А полночь всё возвращает на места: ясно, где тыква, где мыши и кто та крыса, которая в подробностях выставила на всеобщее обозрение и сугубо доверительные беседы, и весьма интимные ситуации…
Но что для мира семейство Кёстнеров? Всего лишь два недовольных читателя. Мир продолжал рукоплескать, роман продолжал потрясать умы, очаровать души и пленять сердца.
Крепко жму Вашу руку, и до следующего письма.
-21-
Приветствую Вас, Серкидон!
Проходил я мимо Музея Арктики и Антарктики105, что на улице Марата, и, грешным делом, чуть было не перекрестился. Мало кто знает, что это бывшая Единоверческая церковь, и уж вовсе позабылось то, что богослужения тут проводил Алексей Алексеевич Ухтомский – староста этой обители Божей.
Когда большевики начали национализацию (грабёж, иными словами), прихожане что смогли – попрятали. Старосту по подозрению в укрытии церковных ценностей арестовали, но добиться от него ничего не смогли – выпустили. Так во второй раз вышел Алексей Ухтомский из большевистской тюрьмы. Первый раз вышел из Лубянской ВЧК, куда попал за вольные разговорчики в строгом революционном строю. В застенках читал учёный сокамерникам лекции по физиологии.
Большинству слушателей эти знания не пригодились, поскольку дело было в 1921 году, выпускали тогда из Лубянки неохотно. Охотней расстреливали. Чекисты и «лектора» с лёгкой душой шлёпнули бы, но учёная братия всполошилась, нашлись заступники из высших кругов, и пришлось «контру» выпустить…
Алексей Алексеевич из рода князей Ухтомских, богослов по первому образованию, защитил диссертацию – «Космогоническое доказательство Бытия Божия». Работа над диссертацией привела начинающего богослова к мысли о безграничных, космических способностях человеческого разума. Носитель разума – мозг – изучал Алексей Ухтомский, уже будучи молодым учёным, под руководством профессора Введенского. В 1922 году, после смерти учителя, Ухтомский продолжил его дело и принял под своё начало кафедру физиологии человека и животных Петроградского университета.