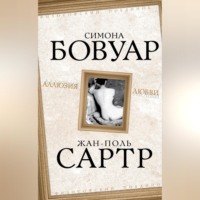Полная версия
Неразлучные

Симона де Бовуар
Неразлучные
© Éditions de L’Herne, 2020
ALL RIGHTS RESERVED
© И. Кузнецова, перевод на русский язык, 2021
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2021
© ООО “Издательство Аст ”, 2021
Издательство CORPUS ®
* * *Зазе
Почему у меня слезы на глазах сегодня вечером – потому что вы умерли или потому что я жива? Эту историю я, конечно, должна посвятить вам – но я знаю, что вас больше нет нигде, а то, что я разговариваю с вами сейчас, – литературная условность. К тому же эта история не совсем ваша, она лишь навеяна нашей с вами историей. Андре – это не вы, а я не Сильви, которая говорит здесь от моего имени.
Часть первая
В девять лет я была очень послушной девочкой; я не всегда была такой, в раннем детстве тирания взрослых доводила меня до припадков настоящего бешенства, одна из моих теток даже заявила как-то раз на полном серьезе: “В Сильви вселился черт!” Война и религия укротили меня. Я сразу же совершила акт образцового патриотизма, растоптав целлулоидную куклу made in Germany, которую, кстати сказать, не любила. Мне сообщили, что от моего благочестия и хорошего поведения зависит, спасет ли Бог Францию, – деваться мне было некуда. Вместе с другими девочками я вышагивала по базилике Сакре-Кёр, распевая и потрясая хоругвями. Я стала много молиться и вошла во вкус. Аббат Доминик, капеллан в Коллеже Аделаиды, поощрял мое рвение. В газовом платье и капоре из ирландского кружева я приняла первое причастие – готовый пример для младших сестер. Я выхлопотала у неба, чтобы моего отца из-за слабого сердца перевели из действующей армии на службу в военное министерство.
В то утро я была в невероятном возбуждении: начинался новый учебный год, мне не терпелось скорее попасть в коллеж, на уроки, торжественные, как месса, в безмолвие коридоров, увидеть умильные улыбки наших монашек. Они носили длинные юбки, блузки с высоким воротником, а с тех пор, как часть здания отошла под госпиталь, одевались иногда как сестры милосердия. В белых косынках с красным крестом они были похожи на святых, и я трепетала, когда они прижимали меня к груди.
Я поспешно проглотила суп и серый хлеб, сменившие довоенный шоколад с бриошами, и нетерпеливо ждала, когда мама наконец оденет моих сестер. Мы все трое носили серо-голубые пальто из настоящего офицерского сукна, скроенные как шинели. “Смотрите, тут даже есть маленький хлястик”, – говорила мама своим восхищенным или удивленным приятельницам.
На улице мама взяла младших за руки. Мы хмуро миновали кафе “Ротонда”, недавно с большим шумом открывшееся под нашей квартирой, – папа называл его притоном пораженцев. Слово “пораженцы” меня заинтересовало. “Эти люди верят, что Франция может проиграть войну, – объяснил папа. – Всех их надо расстрелять”. Я не поняла. Человек же не нарочно верит в то, во что верит. Можно ли карать человека за то, что ему приходят в голову какие-то мысли? Шпионы, которые раздают детям ядовитые конфеты или колют в метро французских женщин отравленными иголками, бесспорно, заслуживали смертной казни, но насчет пораженцев я осталась в недоумении. Маму я расспрашивать не пыталась: она всегда отвечала то же самое, что и папа.
Сестры мои шли небыстро, решетка Люксембургского сада показалась мне бесконечной. Наконец я вошла в коллеж, поднялась по лестнице, радостно размахивая портфелем, набитым новыми книгами; я узнала слабый запах больницы, смешанный с запахом мастики в коридоре со свеженатертыми полами; надзирательницы поцеловали меня. В раздевалке я встретилась со своими прошлогодними одноклассницами – ни с одной из них я особенно не дружила, но мне нравилось, как мы все вместе шумим. Я задержалась в просторном холле у стеклянных витрин со старыми мертвыми экспонатами, умиравшими здесь во второй раз: чучела птиц теряли перья, засушенные растения осыпались, ракушки тускнели. Прозвенел звонок, и я вошла в класс Святой Маргариты. Все классные комнаты были похожи одна на другую: ученицы рассаживались вокруг овального стола, покрытого черным молескином, а во главе восседала учительница; наши мамы устраивались сзади и, приглядывая за нами, вязали подшлемники для фронта. Я подошла к своему табурету и увидела, что соседнее сиденье занято незнакомой девочкой – брюнеткой с впалыми щеками. Она казалась намного младше, чем я, ее темные блестящие глаза напряженно в меня вглядывались.
– Это вы – лучшая ученица?
– Я Сильви Лепаж, – сказала я. – Как вас зовут?
– Андре Галлар. Мне девять лет, я кажусь маленькой, потому что я горела заживо и не успела вырасти. Мне пришлось прервать учебу на год, но мама хочет, чтобы я догнала моих ровесников. Не могли бы вы дать мне посмотреть ваши прошлогодние тетради?
– Хорошо, – сказала я.
Уверенный тон Андре, ее быстрая, четкая манера говорить меня смутили. Она настороженно наблюдала за мной.
– Моя соседка, – она кивнула на Лизетт, – говорит, что вы лучшая ученица в классе. Это так?
– Я часто бываю первой, – ответила я скромно.
Я разглядывала Андре: прямые черные волосы, на подбородке чернильное пятно. Не каждый день встретишь девочку, которая горела заживо, мне хотелось задать ей кучу вопросов, но мадемуазель Дюбуа уже входила в класс, ее длинное платье мело пол; это была проворная усатая женщина, я относилась к ней с большим почтением. Мадемуазель села и начала перекличку. Дойдя до Андре, она подняла голову:
– Ну как, дитя мое, мы не слишком робеем?
– Я не робкая, – сказала Андре спокойно и учтиво прибавила: – К тому же вы не внушаете робость.
Мадемуазель Дюбуа на миг застыла, потом улыбнулась в свои усы и продолжила перекличку.
Выход из класса в конце уроков подчинялся неизменному ритуалу: мадемуазель стояла в дверях, по очереди пожимала руки матерям и целовала в лоб каждую ученицу. Она положила руку на плечо Андре:
– Вы никогда раньше не ходили в школу?
– Нет, до сих пор я занималась дома, но теперь я уже большая.
– Надеюсь, вы будете брать пример со старшей сестры, – сказала мадемуазель Дюбуа.
– О, мы с ней совсем разные, – ответила Андре. – Малу вся в папу, она обожает математику, а я больше всего люблю литературу.
Лизетт толкнула меня локтем: не то чтобы Андре вела себя дерзко, но все-таки с учителями так не разговаривают.
– Вы знаете, где комната экстернов? Если за вами придут не сразу, вы можете там расположиться и подождать, – предложила мадемуазель.
– За мной не придут, я буду ходить домой сама, – быстро сказала Андре. – Моя мама предупредила…
– Одна? – переспросила мадемуазель Дюбуа. Она пожала плечами: – Ну, раз ваша мама предупредила…
Меня она потом тоже поцеловала в лоб, и я пошла следом за Андре в вестибюль. Она надела пальто – менее оригинальное, чем мое, но очень красивое – из красного ратина с золотыми пуговицами; это не уличная девчонка, как же ей позволяют ходить одной по городу? Разве ее мать не знает об отравленных конфетах и ядовитых иголках?
– Где вы живете, Андре, деточка? – спросила мама, когда мы вместе с сестрами спускались по лестнице.
– На улице Гренель.
– Вот и хорошо, мы проводим вас до бульвара Сен-Жермен, – сказала мама. – Нам по пути.
– Спасибо, – ответила Андре, – но не утруждайтесь ради меня. – Она серьезно посмотрела на маму. – Понимаете, мадам, нас семеро детей, мама говорит, что мы должны научиться быть самостоятельными.
Моя мама кивнула, но она явно этого не одобряла.
Едва выйдя на улицу, я набросилась на Андре с вопросами:
– Как же вы горели заживо?
– Когда пекла картошку в костре. У меня загорелось платье, и я сожгла правую ляжку до кости. – Андре нетерпеливо махнула рукой, ей явно надоела эта история. – Когда можно будет посмотреть ваши тетрадки? Мне нужно знать, что вы проходили в прошлом году. Скажите, где вы живете, и я зайду к вам сегодня после обеда. Или завтра.
Я вопросительно посмотрела на маму – в Люксембургском саду мне не разрешали играть с незнакомыми девочками.
– На этой неделе не получится, – сказала мама, замявшись. – Давайте отложим до субботы.
– Хорошо, подожду до субботы, – согласилась Андре.
Я смотрела, как она переходит бульвар в своем красном ратиновом пальто; Андре была и правда очень маленькая, но шагала уверенно, как взрослая.
– Твой дядя Жак был знаком с некими Галларами, состоявшими в родстве с Лавернями, кузенами Бланшаров, – задумчиво проговорила мама. – Интересно, это те Галлары или не те? Но мне кажется, порядочные люди не позволили бы девятилетней крошке разгуливать одной по улицам.
Мои родители долго обсуждали разные ветви семейства Галларов, о которых они что-то слышали от близких или далеких знакомых. Мама расспросила наших монашек. Родственные связи родителей Андре с Галларами дяди Жака прослеживались весьма туманно, но это были в высшей степени достойные люди. Месье Галлар, окончивший в свое время Политехническую школу, занимал хорошее положение в компании “Ситроен” и возглавлял Лигу отцов многодетных семей; его жена, урожденная Ривьер де Бонней, принадлежала к известному роду воинствующих католиков и пользовалась всяческим уважением у прихожанок церкви Святого Фомы Аквинского.
Догадавшись, очевидно, о колебаниях моей матери, мадам Галлар в субботу пришла в школу встретить Андре после уроков. Она оказалась красивой женщиной с карими глазами, на шее у нее была черная бархотка со старинным украшением; она покорила маму, сказав, что та кажется моей старшей сестрой, и называя ее “моя маленькая мадам”. А мне не понравилась ее бархотка.
Не скупясь на подробности, она поведала маме о страданиях, выпавших на долю ее дочери: обуглившееся до кости бедро, огромные волдыри вокруг, бесконечные повязки с амбрином, тяжелый бред и поразительное мужество девочки – во время игры один мальчик случайно ударил ее ногой, раны открылись, и Андре так старалась не закричать от боли, что потеряла сознание.
Когда она пришла к нам изучать мои тетрадки, я смотрела на нее с почтением; Андре делала записи красивым, уже сформировавшимся почерком, а я думала об ее распухшем бедре под короткой плиссированной юбкой. Никогда со мной не случалось ничего настолько интересного. Мне вдруг показалось, что со мной вообще никогда ничего не случалось.
Со всеми знакомыми детьми мне было скучно, а Андре смешила меня, когда мы гуляли с ней на переменах в школьном дворе; она замечательно изображала порывистые жесты мадемуазель Дюбуа, елейный голос мадемуазель Вандру, директрисы; от старшей сестры Андре знала массу школьных секретов: наши учительницы принадлежали к ордену иезуитов, они носили косой пробор, пока были послушницами, и прямой – после того как принимали постриг. Тридцатилетняя мадемуазель Дюбуа была из них самой молодой: она сдала экзамен на бакалавра в прошлом году, девочки из старших классов видели ее в Сорбонне, краснеющую и стесняющуюся своих юбок. Меня слегка коробила непочтительность Андре, но с ней было весело, и я подыгрывала ей, когда она сочиняла на ходу какой-нибудь диалог между нашими монашками. Ее пародии были настолько точными, что часто на уроке мы толкали друг друга в бок, глядя, как мадемуазель Дюбуа резко распахивает журнал или захлопывает книгу. Однажды на меня напал такой дикий хохот, что меня бы наверняка выставили из класса, если бы в целом мое поведение не было столь примерным.
Первое время, когда я бывала в гостях у Андре, у меня голова шла кругом: помимо ее братьев и сестер, у них на улице Гренель вечно толпилась масса друзей и кузенов; они носились, кричали, распевали во все горло, наряжались невесть в кого, прыгали по столам, опрокидывали мебель; иногда Малу – ей было уже пятнадцать, и она строила из себя взрослую – пыталась вмешаться, но тут же раздавался голос мадам Галлар: “Оставь их, пусть дети играют”. Как ни странно, болячки, синяки, испачканная одежда и разбитые тарелки нисколько ее не волновали. “Мама никогда не сердится”, – говорила мне в таких случаях Андре, победоносно улыбаясь. Ближе к вечеру мадам Галлар заходила в разгромленную нами комнату, с улыбкой поднимала упавший стул и вытирала лоб Андре: “Ты опять вся потная!” Андре прижималась к ней, и на мгновение ее лицо преображалось: я отводила глаза, испытывая неловкость, к которой, несомненно, примешивалась ревность плюс, вероятно, зависть и еще тот особый страх, какой внушает тайна.
Меня научили, что надо одинаково любить папу и маму – Андре не скрывала, что предпочитает мать. “Папа слишком серьезный”, – сказала она мне однажды совершенно спокойно. Месье Галлар оставался для меня загадкой, потому что был не похож на моего папу. Мой отец не ходил в церковь и улыбался, если при нем заходила речь о чудесах Лурда[1]. Я слышала, как он говорил, что его единственная религия – любовь к Франции. Меня не смущало его безбожие, и мама, глубоко верующая, вроде бы находила это нормальным; у человека высшего порядка, каковым являлся мой папа, отношения с Богом неизбежно должны были складываться сложнее, чем у женщин и девочек. Месье Галлар, напротив, причащался каждое воскресенье вместе со всей семьей, у него была длинная борода, пенсне, а в свободное время он занимался общественной деятельностью. В его христианских добродетелях и шелковистой растительности на лице мне виделось нечто женственное, ронявшее его в моих глазах. Впрочем, он появлялся только в исключительных случаях. Домом управляла мадам Галлар. Я завидовала той свободе, которую она предоставляла Андре, и хотя она всегда была со мной чрезвычайно приветлива, я чувствовала себя в ее присутствии неуютно.
Иногда Андре говорила: “Мне надоело играть”. Тогда мы шли посидеть в кабинет месье Галлара; свет мы не зажигали, чтобы нас там не обнаружили, и беседовали. Это удовольствие было для меня новым. Мои родители говорили со мной, и я с ними говорила, но мы не беседовали; с Андре у нас были настоящие разговоры, как у папы с мамой по вечерам. Андре, пока болела, прочла массу книг и, к моему удивлению, судя по всему, верила, будто то, что в них рассказывается, происходило на самом деле: она терпеть не могла Горация и Полиевкта[2], восхищалась Дон Кихотом и Сирано де Бержераком, словно это были люди из плоти и крови. Имелись у нее отчетливые пристрастия и в истории человечества. Она любила древних греков, римляне нагоняли на нее скуку, равнодушная к страданиям Людовика XVII, она бурно переживала смерть Наполеона.
Многие из ее взглядов были, бесспорно, предосудительными, но ввиду юного возраста наши монашки ей их прощали. “У этой девочки есть индивидуальность”, – говорили в коллеже. Андре быстро наверстывала отставание, я с трудом побеждала ее по результатам письменных работ; она удостоилась чести переписать два своих сочинения в Золотую книгу. Андре так хорошо играла на фортепьяно, что ее сразу же определили в группу к старшим девочкам; вдобавок она еще начала брать уроки скрипки. Шить она не любила, но получалось у нее хорошо; она прекрасно готовила крем-брюле, песочное печенье, шоколадные трюфели, при всей своей хрупкости ловко делала колесо, шпагат и всякие кульбиты. Но что окружало Андре особым ореолом в моих глазах, это некие загадочные свойства ее натуры, их суть так никогда мне и не открылась: если она видела персик или орхидею или кто-то произносил при ней эти слова, Андре вздрагивала, и руки у нее покрывались гусиной кожей. В такие моменты самым волнующим образом проявлялся доставшийся ей от неба дар, который так меня завораживал, – индивидуальность. В глубине души я считала, что Андре, несомненно, из тех вундеркиндов, чью жизнь потом описывают в книгах.
* * *Почти все ученицы нашего коллежа уехали из Парижа в середине июня из-за бомбежек и “Большой Берты”[3].
Галлары поехали в Лурд, они каждый год отправлялись туда в длительное паломничество; сын работал санитаром, таскал носилки, а старшие дочери вместе с матерью мыли посуду в каком-то приюте; меня восхищало, что Андре доверяют такое взрослое дело, я за это уважала ее еще больше.
Я, со своей стороны, гордилась героическим упрямством моих родителей: не покидая Париж, мы демонстрировали нашим храбрым фронтовикам, что гражданские “держатся”. Я осталась в нашем классе вдвоем с большой двенадцатилетней дурой и важничала. Однажды утром я пришла в коллеж и обнаружила, что все – и учителя, и ученицы – прячутся в подвале. Дома мы над этим долго смеялись. Когда случалась воздушная тревога, мы в подвал не спускались, жильцы верхних этажей искали убежища у нас и ночевали на диванчиках в передней. Вся эта суматоха мне страшно нравилась.
В конце июля мы с мамой и сестрами поехали в Садернак. Дедушка, помнивший осаду Парижа 1871 года, считал, что мы там все это время ели крыс; два месяца он откармливал нас курятиной и пирогами с вишней. Для меня это были счастливые дни. В гостиной стоял книжный шкаф, полный старых книг с рыжеватыми пятнами на страницах. Запретные книги упрятали на самый верх, и мне разрешалось свободно рыться на нижних полках. Я читала, играла с сестрами, гуляла. Я много гуляла в то лето. Бродила по каштановым рощам, царапая руки о колючие папоротники, собирала в ложбинах вдоль дорог букеты жимолости и бересклета, ела ежевику, ягоды земляничного дерева, кизил, кисленький барбарис, вдыхала волны ароматов цветущей гречихи, ложилась на землю, чтобы уловить тайный запах вереска. Потом усаживалась на поляне под серебристыми тополями и открывала роман Фенимора Купера. Когда дул ветер, тополя шелестели. Ветер меня окрылял. Мне казалось, что деревья от края до края земли говорят друг с другом и с Богом; это были музыка и молитва, они пронизывали мое сердце, поднимаясь к небу.
Каждый день в Садернаке приносил мне бесчисленные радости, но о них трудно было рассказать; я посылала Андре лишь короткие открытки, она тоже почти не писала мне. Она проводила каникулы в Ландах у бабушки по материнской линии, каталась на лошадях, развлекалась и должна была вернуться в Париж только к середине октября. Я вспоминала о ней редко. На каникулах о своей парижской жизни я почти никогда не думала.
Я всплакнула, прощаясь с тополями, – годы делали меня сентиментальной. Но в поезде вспомнила, как люблю первый день в коллеже. Папа встретил нас на перроне в своей серо-голубой форме, он сказал, что война скоро кончится. Учебники показались мне еще более новенькими, чем в прошлом году: они были толще, красивее, похрустывали в руках, приятно пахли; в Люксембургском саду стоял упоительный запах палой листвы и выгоревшей травы. Наши монашки порывисто меня расцеловали, мои летние задания удостоились высоких похвал. Почему же я чувствовала себя такой несчастной? Вечером, после ужина, я устраивалась в передней, читала или записывала в тетрадь разные истории; сестры спали, в глубине квартиры папа читал маме вслух – это был один из лучших моментов дня. А я лежала на красном ковре, ничего не делая, в каком-то отупении. Смотрела на нормандский шкаф и деревянные резные часы, таившие в своей утробе две медные шишки и тьму времен; в стене зияла отдушина отопления: сквозь позолоченную решетку сочилось тепло тошнотворного дыхания, поднимавшегося из неведомых бездн. От этого полумрака и всех этих безмолвных предметов мне вдруг стало страшно. Я слышала папин голос, знала, как называется книга – “Опыт о неравенстве человеческих рас” графа Гобино; в прошлом году это было “Происхождение современной Франции” Ипполита Тэна. На будущий год он начнет новую книгу, а я по-прежнему буду лежать тут, между шкафом и часами. Сколько лет? Сколько вечеров? Это и значит жить – убивать один день за другим? Неужели мне будет так скучно до самой смерти? Я решила, что тоскую по Садернаку, и перед тем как уснуть, пролила еще несколько слезинок по тополям.
Два дня спустя мне во внезапном озарении открылась разгадка. Я вошла в класс Святой Екатерины, и мне улыбнулась Андре. Я тоже улыбнулась ей и протянула руку:
– Когда вы вернулись?
– Вчера вечером. – Андре посмотрела на меня с некоторым лукавством. – А вы, конечно, были здесь к первому дню занятий?
– Да, – сказала я. – Как вы провели каникулы?
– Очень хорошо.
Мы обменивались банальными фразами, как взрослые, но я вдруг с изумлением и радостью поняла, что пустота у меня в душе, томительное уныние последних дней имели одну-единственную причину – отсутствие Андре. Жить без нее было все равно что больше не жить. Мадемуазель де Вильнёв уже села на свой трон, а я все повторяла про себя: “Без Андре я больше не живу”. Моя радость сменилась тревогой: но раз так, спросила я себя, что со мной станется, если она умрет? Я буду сидеть на этом табурете, войдет директриса и скажет скорбным голосом: “Помолимся, дети мои! Вашу одноклассницу Андре Галлар сегодня ночью призвал Господь”. Что ж, решила я, все просто: я соскользну с табурета и тоже упаду замертво. Эта мысль меня не пугала, ведь мы сразу же встретимся у врат небесных.
Одиннадцатого ноября праздновали перемирие, люди обнимались на улицах. Четыре года я молилась, чтобы этот великий день настал, и ждала от него каких-то потрясающих перемен, в моем сердце оживали смутные воспоминания о прежних временах. Папа снова стал ходить в штатском, но больше не произошло ничего; он постоянно говорил о каком-то крупном вложении, которое у него отняли большевики; эти чужие, далекие люди, чье название подозрительно напоминало опасное слово “боши”, обладали, судя по всему, колоссальным могуществом; и потом, Фош[4], конечно, сплоховал, позволил обвести себя вокруг пальца, – надо было идти дальше, на Берлин. Будущее виделось папе таким мрачным, что он не решился снова открыть свою юридическую контору. Он нашел место в страховом агентстве, но объявил, что нужно сократить траты. Мама уволила Элизу – она, кстати, вела себя плохо, гуляла по вечерам с пожарниками – и взяла все заботы по хозяйству на себя; по вечерам она бывала раздражительна, папа тоже, сестры часто плакали. Но я ничего этого не замечала, потому что у меня была Андре.
Андре подросла и окрепла; я перестала думать, что она может умереть, но меня подстерегала другая опасность: в коллеже к нашей дружбе стали относиться неодобрительно. Андре училась блестяще, я сохраняла место первой ученицы только потому, что она не снисходила до того, чтобы его занять; я восхищалась ее раскованностью, но не способна была вести себя так же. Между тем она утратила расположение наших монашек. Они находили ее непредсказуемой, насмешливой, высокомерной, обвиняли в том, что она себе на уме; им не удавалось поймать ее на дерзости – Андре всегда была неукоснительно вежлива, и, вероятно, именно это их особенно раздражало.
Они отыгрались в день фортепианного концерта. Актовый зал был полон: в первых рядах ученицы в пышных платьях, с завитыми локонами и бантами, за ними учительницы и надзирательницы в шелковых блузках и белых перчатках, сзади родители и приглашенные. Андре, наряженная в платье из синей тафты, исполнила вещь, которую ее мать считала слишком для нее трудной и где Андре обычно немного сбивалась. Я волновалась, чувствуя, как в нее впились все эти недобрые взгляды, когда начался коварный пассаж; она сыграла его без единой ошибки и, бросив на мать торжествующий взгляд, показала ей язык. Девочки все как одна вздрогнули, тряхнув буклями; шокированные мамаши с негодованием закашлялись, наши монашки переглянулись, а директриса стала пунцовой. Когда Андре спустилась со сцены, она подбежала к матери, и та расцеловала дочь с таким искренним смехом, что мадемуазель Вандру не посмела ее отругать. Но через несколько дней она пожаловалась моей маме, что Андре плохо на меня влияет: мы болтаем на уроках, я хихикаю, отвлекаюсь, сказала, что подумывает, не рассадить ли нас на время занятий, и я неделю прожила в страхе. Мадам Галлар, ценившая мою страсть к учению, без труда убедила маму, что нас лучше оставить в покое, и поскольку они обе были для нашего заведения весьма выгодными клиентками – у мамы три дочери, у мадам Галлар шесть плюс связи в обществе, – то мы продолжали сидеть вместе, как и прежде.
Грустила бы Андре, если бы нас разлучили? Наверняка меньше, чем я. Нас называли неразлучными, и она предпочитала меня другим одноклассницам. Но она так обожала свою мать, что перед этим обожанием, как я догадывалась, меркли все остальные чувства. Семья была для нее необычайно важна. Андре подолгу возилась с новорожденными близнецами, купала, одевала эти бесформенные тельца, считала, что понимает их лепет, их невнятную мимику, нежно баюкала их. Кроме того, в ее жизни огромное место занимала музыка. Когда она садилась за рояль, когда пристраивала скрипку под подбородком и сосредоточенно слушала пение инструмента под своими пальцами, мне казалось, что она ведет разговор с самой собой – по сравнению с этим долгим диалогом, тайно происходившим в ее сердце, наши с ней беседы представлялись мне детской болтовней. Иногда мадам Галлар, которая прекрасно играла на фортепьяно, аккомпанировала Андре, игравшей на скрипке, и в такие минуты я чувствовала себя совсем лишней. Нет, наша дружба не значила для Андре так много, как для меня, но я слишком восхищалась ею, чтобы страдать от этого.