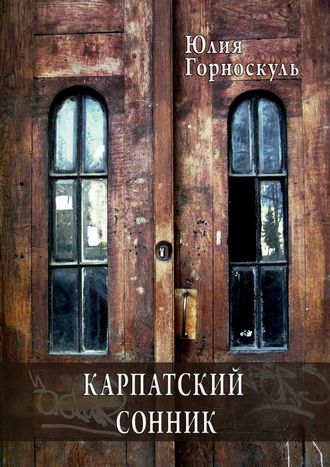
Полная версия
Карпатский сонник
В принципе, Анджей мог оказаться там на двадцать минут раньше нее, если бы его не обслуживали так медленно в кафе. Но официантку, еще не знавшую о своей беременности, мучила накатывающая тошнота, и она то и дело убегала на задний двор покурить или ополоснуть лицо холодной водой.
Так все это – и венгерский орсагхаз25 из лакрицы и марципана, и хроническая подагра пожилого господина, и третья неделя беременности официантки, и ремонт брусчатки к 1 ноября – Дню Листопадового Чина, и слабые сосуды в изящном носике Евы – сошлось в один потрясающий узор, видимый лишь свыше, узор, все нити которого стягивались в одну точку, где звучало «Пшепрашем, пани», и протягивалась рука с платком, и встречались глаза, и сердце нежно замирало в карцере ребер…
8
Осмотрев Одеонсплац, мы отправились на Терезиенвизе, где я намеревалась посетить Старую пинакотеку. Мне безумно хотелось окунуться в ту неземную атмосферу старинных полотен и леденящего бессмертия их творцов, чья энергетика, излучаемая картинами, подчас образует бурную розу ветров. Это была одна из причин, почему после Берлина мы рванули именно в Мюнхен.
– Терпеть не могу эти картинные галереи, такая скукота! Глаз и сил не хватит все осмотреть, да и желания! – противился Морсус.
Он просто не знал, что в любой галерее из тысячи произведений обязательно найдется та жемчужина, к которой тебя потом вновь и вновь будет тянуть вернуться – но делать этого нельзя. Ты увидишь ее издалека и тут же почувствуешь ледяную дрожь, по коже побегут мурашки, будто ты встретился взглядом с самим художником, который смотрит на тебя оттуда… и ты встанешь перед ней – и она будет затягивать тебя, словно в водоворот.
Помнится, в Будапеште меня так заворожило полотно Виктора Мадараса «Оплакивание Ласло Хуньяди». Это была не картина, а черная дыра – в прямом и переносном смысле, поскольку в ней преобладали темные краски. А в нижней части длинным светлым пятном было изображено тело Ласло Хуньяди, покрытое саваном, и сквозь желтоватые складки угадывались очертания лица. Сам гроб был изображен так, что возникало неловкое чувство: либо покойник сейчас вывалится прямо к ногам зрителя, либо он уже наполовину лежит на черных плитах пола. И две женщины под траурными покрывалами, с лицами, искаженными священным ужасом, таились в полумраке у его стоп. Никогда еще художественное произведение не вызывало у меня такого темного страха и желания безотрывно смотреть и впитывать каждый штрих…
Я просто жаждала встретить в Старой пинакотеке нечто подобное. Или того жаждали мои демоны? Но музей оказался закрыт. Угрюмый день скис окончательно, заморосил дождь. Сфотографировавшись у писсуаров с дивной надписью «Abort! Herren», мы подошли к восемнадцатиметровой статуе Баварии, изображавшей величественную женщину с покорным львом у ног. Пустыми глазами она взирала на окрестности с высокого каменного пьедестала.
Надо сказать, в то лето Морсус открыл для себя творчество Борхеса. В частности, его поразил рассказ «Алеф».
– Внутри этой статуи есть лестница, по ней можно забраться наверх и посмотреть на Мюнхен из ее головы! Только представь себе! Лестница с шестьюдесятью шестью ступенями! А вдруг там мы откроем свой Алеф?!
– Какой еще Алеф?
– Уца, тебе обязательно надо будет почитать Борхеса. Алеф – это маленький шарик на девятнадцатой ступеньке лестницы, в котором одновременно видны со всех сторон все предметы и явления Вселенной, все, что происходит снаружи и изнутри, – тут Морсус призвал на помощь все свое красноречие, конфликтующее с его английским вокабуляром. Но общую суть я поняла. Естественно, это был масштабный художественный вымысел, но Морсус был так взбудоражен неуемной фантазией Хорхе Луиса и этими шестьюдесятью шестью ступеньками, под каждой из которых мог таиться Алеф, и мы оба знали, что в кармане у него еще с тату-феста лежит пакетик с волшебными Psilocybe26. Да при таких обстоятельствах можно было поверить хоть в бред Котара27 и решиться на любую авантюру, что уж говорить о невинной смотровой площадке в голове Баварии?
– К тому же, тут лев. Интересно, как все это устроено изнутри? – предъявил последний аргумент Морсус. Всякий раз, когда мне попадались львы, я принимала это за знак свыше, что мне стоит уехать с ним во Львов. И в то лето архитектура вокруг меня кишела львами…
Итак, мы купили билеты за право наслаждаться панорамой со столь экстравагантной позиции, и смотритель запустил нас внутрь…
Ажиотаж бушевал, пока мы шли по лестнице в каменном мешке, но, как только вошли в саму статую, меня охватила паника. Узкая винтовая лестница вилась вверх, в черную железную утробу, и мне было уже не до Алефа. Кое-где горели лампочки, отчего провалы мрака были еще гуще и зловещей. И то, что снаружи выглядело имитацией человеческого тела и одежды, изнутри оказалось грандиозным причудливым уродством. Когда мы вошли в полость, где была морда льва, я буквально задохнулась от ужаса – теперь это был исполинский демонический оскал, реявший в высоте, – и мимо него надо было пройти, все выше и выше. Парализованная животным страхом, я еле ползла вперед, проклиная наш чертов авантюризм. Морсус был сосредоточен на лестнице, макабрический театр теней его не впечатлял ни секунды. Наконец, мы добрались до горла статуи – в саму голову вела отдельная узенькая лесенка. Чуть ли не на коленях мы заползли по ней внутрь. La dracu28, стоило ли ради такого мучиться! В черепе и шагу нельзя было ступить, все пространство занимали два отлитых вдоль висков железных дивана с импровизированной бахромой. В изголовье зияли чудовищными провалами исполинские глаза, а еще ниже чернела яма носовой полости. Чтобы успокоиться и вознаградить себя за восхождение, я прильнула к крошечному окошку. Вид на Терезиенвизе был исполнен уныния и обреченности, отсыревшее поле сливалось с пеленой тумана, небо было подернуто паутиной сумерек.
Морсус ликовал.
– Это обалдеть как круто! Смотри, как здесь все удобно сделали. Я клянусь (он так и сказал в новоприобретенной немецкой манере – «ich schwöre»), надо просто лечь и внимательно глядеть, и тогда все увидишь! – он уютно, насколько это было возможно, устроился на скользкой лавке и уставился в волнообразные железные борозды на потолке.
– Разве ты ничего не увидел на лестнице?
– Как я мог что-то увидеть, когда ты так летела вперед и всю дорогу хныкала!
Я молча прилегла на соседнюю лавку. Дикая мысль – Мюнхен, вечер, идет дождь, а мы лежим вдвоем в черепной коробке статуи Баварии, и под нами – восемнадцать с половиной метров железного ада, огни которого плещутся у нас в изножье, в узкой глотке бронзовой девы. И, чтобы оказаться на земле, надо опять через все это пройти. Я была точно замурована в карцер своих кошмаров. Казалось, что статуя слегка пошатывается, и был слышен легкий гул, то ли от ветра, то ли от вентиляции…
9
…но если бы все дело было только в этих губах с кровавыми бороздками и в ее строгой молчаливости, переходящей в искреннюю радость из-за всякой мелочи (тут Анджей вспомнил, как по пути в Высокий замок перед ними пролетела красивая птица с нежно-рыжим оперением и сапфировыми погонами на крыльях. «Сойка! Sojka!» – воскликнули они одновременно, и она так прелестно рассмеялась), да, если бы дело было только во всем этом, или в ее искусстве возводить эти марципановые крепости (он уже наставил уйму лайков в ее десертном «Инстаграме»), если бы!
Но, помимо всего, Ева была так похожа, невероятно похожа на ту, другую женщину, на женщину, чьих губ он никогда не целовал, чьих рук он никогда не касался… на женщину, которая никогда не присутствовала в его жизни физически, но незримо влияла на его судьбу.
Их первая встреча произошла на старой квартире в Кракове, теперь уже и не вспомнить, сколько лет назад, и какая погода была в тот день за окном, и насколько накалилась внутриполитическая обстановка. Пока взрослые звякали чайными принадлежностями в гостиной, он, томясь от скуки, изучал корешки книг в шкафу с пожелтевшими стеклами. И до сих пор тот запах – запах старой мебели, пыли, книг, глянцевых страниц альбома со старопольской живописью – словно касался его ноздрей. Анджеек разглядывал гордых шляхтичей, их сабли и перначи, зажатые в кулаках, их бороды, грозные взгляды и красивые орлиные носы, их надменных жен, их гербы, четко прописанные в уголках портретов, по которым через много лет ему суждено было расшифровывать тайны шляхетских фамилий. Он уже пролистал Владислава Доминика Заславского, сияющего упитанным лицом и золотым камзолом, прошел мимо четы Веселовских и открыл альбом на том развороте, где Она коротала вечность в компании своей прелестной младшей сестры. Темный взгляд, устремленный сквозь века, запечатанные кровавым сургучом войн, вонзился в его зрачки, и едва заметная усмешка зазмеилась по ее губам при виде этого мальчишеского лица с нежными сиреневатыми тенями в подглазьях, смотрящего на нее по ту сторону вечности – ясновельможная панна безошибочно узнала в нем своего будущего обожателя. С неожиданным любопытством он разглядывал ее великолепно расшитое платье, зажатый в руке полупрозрачный шлейф, жемчужный венец на зачесанных волосах, но постоянно возвращался взглядом к блеклому пятну ее лица. Оно ничего не говорило, это безжизненное лицо, замкнутое в ледяном высокомерии, поданное на блюде гофрированного воротника, и лишь острый взгляд темных глаз да слабая усмешка взывали к нему, цепляясь рыболовными крючьями за тонкую изнанку где-то в грудной клетке.
Он успел прочесть ее имя перед тем, как в комнату вошла мать и позвала его к чаю. «Portret Katarzyny z Lubomirskich Ostrogskiej»29.
10
…гул исходил из трубы, уходящей ввысь, в средокрестие, куда-то в башню собора и сквозь ее купол, все выше и выше. Он доносился словно из иного пространства – ледяного, межзвездного – вырываясь из трубы матово-белым свечением, точно звук был соткан из световых частиц. Домнишоара Ликуца разрывалась между сверхъестественным ужасом и желанием заглянуть в нее, встав под отвороты из начищенной меди.
«Гул в трубе – душа покойного пришла» – всплыла в моей памяти одна из сотен темных деревенских примет. Вздрогнув и перекрестившись, я заскользила дальше по сумрачному залу, в конце которого скалился черный орган и вздыхали голоса усопших менестрелей. Я шла, задрав голову, глядя на нервюрные своды30, которые выпирали цепью пожелтевших костей – казалось, я ступаю по трубчатому скелету исполинской змеи, сквозь колоннаду ребер, считая ее позвонки. И стараясь не оглядываться по сторонам.
– …trei… patru… şapte… opt31…
Потому что вокруг возвышались надгробия. Слишком много надгробий. Они загромождали весь неф32 цоколями из черного мрамора, множась взлетающими ангелами, эпитафиями и черепами. На каменных саркофагах возлежали рыцари, они дремали с оружием в руках, оплетенные лернейской гидрой колючего орнамента. Иные покойники, изваянные из алебастра, замерли с молитвой на верхних этажах своих погребальных камер. Преклонив колена и сложив ладони, они творили посмертный «Te Deum»33 Господу Богу, и аметистовый отсвет витражей лежал на их лицах синюшными пятнами.
В глубине нефа уже не было слышно торжественного трубного гуда, зато до меня донесся едва слышный стеклянный перезвон. За крестильной купелью виднелся очередной памятник. Высеченные из светлого камня пилястры мягко обрамляли плиту красного мрамора, а на ней был выгравирован спящий полководец в доспехах. Его надгробие отличалось аскетизмом от остальных, как будто было воздвигнуто в честь простого воителя, но я-то подспудно знала, что этот мужчина был самым высокородным и прославленным из всех тех черных рыцарей и их жен, что следили сейчас за мной пустыми глазницами.
Из середины надгробного цоколя била струя воды, растекаясь по плитам зеленоватым пятном. «Фонтан с мертвой водой…» – подумалось мне, и я стала рассеянно вспоминать про мертвую и живую воду, но мысль ускользала, гонимая тихим журчащим плеском. Брызги разлетались во все стороны; опустив голову, я увидела, что стою в луже, а вода расползается все дальше по проходу. Тогда я решила обойти надгробие, и среди лаконичного орнамента мне на глаза попался герб – три острых зуба на красном поле. Я еще раз внимательно взглянула на спящего, словно требуя представиться, но человек в латах мирно почивал, опершись на правую руку, с зажатыми в ладонях регалиями. Его высеченные из камня веки слегка подрагивали во сне.
– Невозможно понять эстетику сарматского портрета, не постигнув красоты надгробной скульптуры, – раздался мужской голос.
– Cine eşti34?.. – пробормотала домнишоара Ликуца. Призрачное касание по волосам заставило ее обернуться. Позади нее стоял мужчина с желтоватым лицом, будто обкапанным воском.
– Ты узнала его? – спросил он и продолжил, не дожидаясь ответа: – Как ты думаешь, что он видит в своем посмертном сне: свою любовницу в Гродно или осаду Пскова?
Домнишоара Ликуца прижала руку к груди, чувствуя тошнотворные спазмы. Ужас втекал в вены неотвратимо, как вода, что захлестывала ее ноги.
– Ce35?!
– Я говорю, давай лучше зайдем в «Löwenbräu». В этой пивной слишком воняет тушеной капустой.
Из правого притвора вышла фройляйн с невнятным лицом, облаченная в черно-белый дирндль36. Она сделала пригласительный жест, но Морсус уже подталкивал домнишоару Ликуцу к выходу, к дверям, над которыми нависал величественный орган, сотни труб которого образовывали змеиную челюсть. Ее ноги были вымочены по щиколотку, она едва переступала обледеневшими ступнями, оставляя за собой мокрый след. Черные громады надгробий оставались позади, и по ее спине пробегала дрожь от пристальных взглядов, провожавших ее.
– Весь Мюнхен провонял этим капустным духом, – он выругался. – Уца, что ты там стрекочешь?
– Как хорошо, что такое бывает только во сне37… – услышала домнишоара Ликуца свой ответ.
11
К концу XVI века Речь Посполитая стала крупнейшим государством Европы, распростертым «od morza do morza»38, по землям Польши, Прибалтики, Белоруссии и Украины. Там, на границе между Западом и Востоком, в пожаре неугасающих войн, царила шляхетская aura libertas – «золотая вольность». Иными словами, королевская власть напрямую зависела от господствующего военного сословия – шляхты. Слово это пришло в польский язык из немецкого, в котором Geschlecht означает «род»; в Речи Посполитой так стало зваться дворянство – люди, имевшие за плечами аристократическую родословную, люди, к чьим именам прибавлялись рыцарский герб и знатная фамилия на «-ский». Они крепко держали в руках оружие и бразды правления, не знали преклонения ни перед кем, кроме Господа Бога, и поговаривали, что «Польша держится беспорядком», а она держалась их самовластием. Сами раздавали милости и выбирали монарха, сами же и устраивали в случае его неповиновения вооруженный мятеж. Грезили идеалами римской республики, претворяли их в жизнь и превыше всего ценили свободу личности. Гражданские и политические права этого многочисленного класса поражали дворян остальных государств. От могущественной магнатерии, с интересами которой приходилось считаться королю, до чиншевой шляхты, скромных тружеников, – все они обладали равными привилегиями, каждый из них был другому «пан брат». Католическая вера таинством святого причастия объединяла их в помыслах и на поле брани.
Род Любомирских герба Шренява достиг процветания при правлении Стефана Батория. В 1581 году король передал под начало магната Себастьяна Любомирского соляные копи в окрестностях Краковского воеводства, назначив его краковским жупником. Добыча соли и ее продажа позволили стремительно приумножить богатство и расширить сферы влияния. Волевой и целеустремленный, Себастьян Любомирский спустя десять лет прибавит к своим многочисленным званиям титулы сенатора Речи Посполитой и графа Священной Римской империи. Портрет из родовой галереи изображает этого дворянина в возрасте шестидесяти семи лет. Вся его фигура излучает спокойную уверенность человека, привыкшего повелевать. Суровый взгляд из-под нахмуренного чела выдает крупного государственного деятеля – от его решений зависит судьба королевской Польши.
В том же знаменательном 1581 году Любомирский женился на Анне, урожденной Браницкой. Она родила ему шестерых детей: двоих сыновей, которых ожидала военная слава, и четырех дочерей, чьим уделом было через династический брак продолжить линию знатных семейств. Старшей дочерью Себастьяна Любомирского была Катажина. Ее супругом стал один из богатейших магнатов Речи Посполитой – представитель старинного западнорусского рода Януш Острожский, каштелян краковский, воевода волынский, староста белоцерковский, богуславский, каневский, черкасский и переяславский. К их бракосочетанию приурочен единственный портрет, на котором юная Катажина представлена в подвенечном убранстве. Ее тяжелое златотканое платье расшито причудливыми узорами и аллегорическими фигурами. Будто пестрый летний сад распустился на белизне свадебного одеяния, он полон диковинных зверей – их преследуют охотники с гончими. Амуры символизируют любовь, виноградные грозди и фонтаны – изобилие, цветы – невинность, копья в руках егерей – мужское начало, псы – верность. Талию невесты опоясывает кордельер из золотых бусин; его она будет перебирать в молитвенном молчании. Резной венец с жемчугом сверкает на ее темных волосах. Это роскошное облачение и картуш с четырьмя гербами – Шренява, Гриф, Леварт и Котвич – сообщают о ней гораздо больше, нежели лаконичная латинская подпись в углу «Katarzyna z Lubomierz Xiężna Ostrowska Kasztelanka Krakowska». Наследница золотоносных соляных шахт и обширных земель, простертых с востока на юг, истовая католичка, гордая и исполненная холодного величия, Катажина заключает в своих венах драгоценную кровь княжеских поколений. Она стоит, зажав в руке ниспадающий с ее венца шлейф и меховые перчатки – свадьбу играли в холодное время года. Другой рукой она касается стола с заводными часами. Они же изображены на портретах ее родителей. Золотые часы символизируют богатство, но могут ли они также означать безжалостную летучесть времени? Время… Катажина – его заложница. От ее союза с Янушем Острожским с нетерпением ожидают потомства, но мучительно тянутся бесплодные годы, а ей не удается исполнить свое предназначение. Только через десять лет она родит ребенка. Ее замужняя жизнь проходит в крупном фольварке Прокоцим под Краковом, истекает сквозь пальцы, унизанные перстнями. Спустя еще четыре года Катажина умрет, не дожив до своего тридцатилетия. Ее уже не потрясет последующая гибель собственного сына – а ведь мальчик должен был унаследовать Острожскую Ординацию39, но теперь с его смертью род Острожских прервется, и майорат перейдет к потомкам по дочерней линии. Она уже не застанет ни взятия Москвы Жолкевским, ни последующих поражений, ни восстания Хмельницкого. История будет двигаться дальше, и в ней будут принимать участие ее братья, ставшие воеводами, ее сестры, выданные за гетманов и полковников, их дети – все они, и многие другие, чьи судьбы образуют плоть и кровь шляхты.
Все это Анджей узнал в подробностях, поступив в Ягеллонский университет на факультет полонистики.
Однако предоставленная информация казалась слишком скудной. Жизнеописания мужчин полнились деталями: они вели многочисленные войны, закладывали храмы и вершили дела государственного масштаба. Женщины же упоминались лишь в связи с браками и родовитыми наследниками. Между тем, ведь было интересно, в каком настрое Катажина шла под венец с краковским каштеляном, который был старше ее на двадцать семь лет? О чем думала, позируя придворному живописцу в своем тяжелом парадном платье? Как шелестела подолом по шахматным плитам сквозь залы замка в Старом Сонче? Как приняла своих падчериц, дочерей Острожского от первого брака с венгерской графиней, которые были с ней одного возраста? Чем она занималась в Прокоциме, любила ли охоту, пиршества и общество обходительных шляхтичей или же, наоборот, посвящала дни молитве? И от чего она умерла – от запущенной простуды или от жестокого недуга, разрушившего ее изнутри?
Ответов на эти вопросы не существовало. И жизнь Анджея текла спокойно, пока на него не находило какое-то умопомрачение. Тогда он начинал рыскать по архивам, среди латинской трухи и змеями шипящих шляхетских фамилий, в надежде постичь тайну жизни этой женщины.
12
Ляне всегда было жутковато подходить к «паучьей многоэтажке», образованной из стеклянных ящиков, где обитали эти странные существа, похожие на пестрые ядовитые цветы. Они беззвучно передвигались наощупь или сидели неподвижно, в мертвом оцепенении, глухие и немые («Глухие? Они слышат лучше нас! Ты просто не представляешь, как пауки любят звучание скрипки!» – высказал ей как-то Морсус). Оживление охватывало их, лишь когда он доставал лоток, кишащий какой-то крылатой дрянью, и принимался их кормить. Тогда пауки показывали свой характер: прятались в нору или, воинственно лязгая хелицерами40, вставали в боевую стойку, а после молниеносным прыжком бросались на добычу. Затаив дыхание, Морсус следил, как они моментально наносят смертельный укус бьющемуся таракану, как разрывают хитиновые покровы изогнутыми клыками, как исполняют «danse macabre»41 с жертвой в лапках, как плетут скатерть из паутины, чтобы завернуть в нее останки. Haplopelma Vonwirthi, Lasiodora Parahybana, Acantoscurria Geniculata, Brachypelma Auratum и еще двадцать три различных вида составляли его коллекцию – предмет люциферианской гордости и такой же страсти. Для посторонних наблюдателей они отличались лишь разноцветными коленками, для Морсуса же каждый птицеед был индивидуумом с рядом правил, установленных раз и навсегда в маленьком стеклянном мирке. Кто-то проводил дни в засаде, кто-то заплетал паутиной весь террариум, кто-то неутомимо возводил баррикады из субстрата. Но всех их объединяло одно – с острия напоенных ядом хелицер и до последнего стрекательного волоска они были хищниками, способными по малейшей вибрации настичь свою жертву.
Ляна пришла в тот момент, когда Морсус по локоть залез в террариум и протягивал сверчка хроматопельме. Оба они были расстроены: паук – своей немощью, а владелец – грустным осознанием того, что прежде опасный зверь стремительно стареет и больше не противится вторжению в свое царство.
– Старикан мой совсем расклеился, забросил охоту. Приходится кормить буквально с ложки… – сетовал он.
Паук деликатно взял лапками свой обед и занялся приготовлениям к трапезе, что, по наблюдениям Ляны, составляло весьма сложный церемониал.
– А мы ждем пополнения! – гордо объявил Морсус, переходя к следующему ящику. Она невольно метнула взгляд на живот домнишоары Ликуцы, но та даже не отреагировала, вперив зрачки в монитор ноутбука.
– Да нет, вот же!
Ляна заглянула в террариум. Там, на обрубке дерева, устланного шелками паутины, восседала Агарта42 – любимица Морсуса, первая обитательница «многоэтажки» и несомненная красавица – птицеед Avicularia Versicolor. В своей ярко-бирюзовой шубке с металлическим отливом Агарта выглядела настолько великолепно, что даже вызывала у Ляны восхищение и желание ее потрогать. В минуты благодушия Морсус иногда обещал подарить ей чучело паука, сделанного из экзувия43 Агарты. Эти посулы были ложью от начала до конца, поскольку его коллекция тогда лишилась бы ценного экземпляра. К тому же Морсус вел счет годам своих подопечных в линьках и ревностно хранил их шкурки.
В верхнем углу среди облаков паутины мутно белел кокон. Ляну не впечатлило это радостное событие, но она сделала заинтересованный вид.
– А где самец? Агарта сожрала его?
– Кровожадная женщина! Нет, я разнял их. Вон он сидит в своей хатке.
– Зачем ты вмешался в природный процесс? – спросила Ляна, выходя вслед за Морсусом на кухню. Он с силой рванул заедающие оконные створки. Их треск надрывно отозвался в колодце двора, пересеченного бельевыми веревками. Ляне нравились эти квартиры в старых домах Львова, где окна выходили в узкие дворики с крошащимися стенами и сохнущим бельем, которое сейчас впитывало в себя осенние заморозки. На улице Княгини Ольги, где она снимала квартиру, такого не водилось.
Морсус закурил свой «Парламент».
– Я держу их для размножения, а не ради научного интереса.
– Думаешь, Агарта действительно убила бы его?
– Скорее всего, да. У самца мало шансов спастись, он же намного меньше.
– Значит, у пауков царит матриархат?
– Если хочешь, называй это так, – усмехнулся Морсус. – В любом случае, у них доминирует самка. Это логично, ведь она дает потомство, она – великая мать, а самец – осеменитель, не более. Примечательно даже то, как они спариваются. У животных и птиц самец всегда занимает доминирующую позицию, покрывая самку сзади. Конечно, к паучихам так не подберешься, у них и половое строение другое, подойти можно лишь спереди. Дай Бог удачно зажать ей клыки, быстро спариться и убежать, пока цел!

