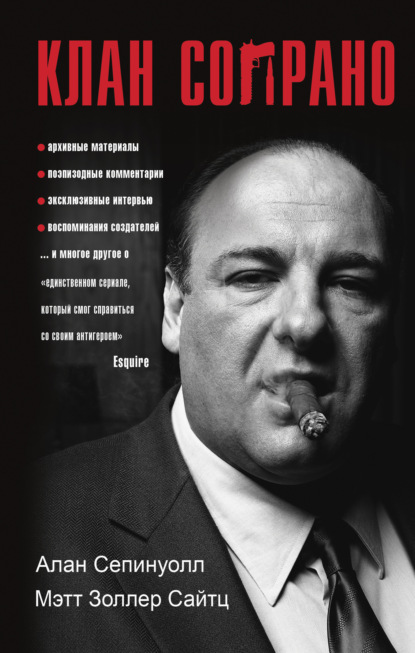Полная версия
Клиника «Божий дом»
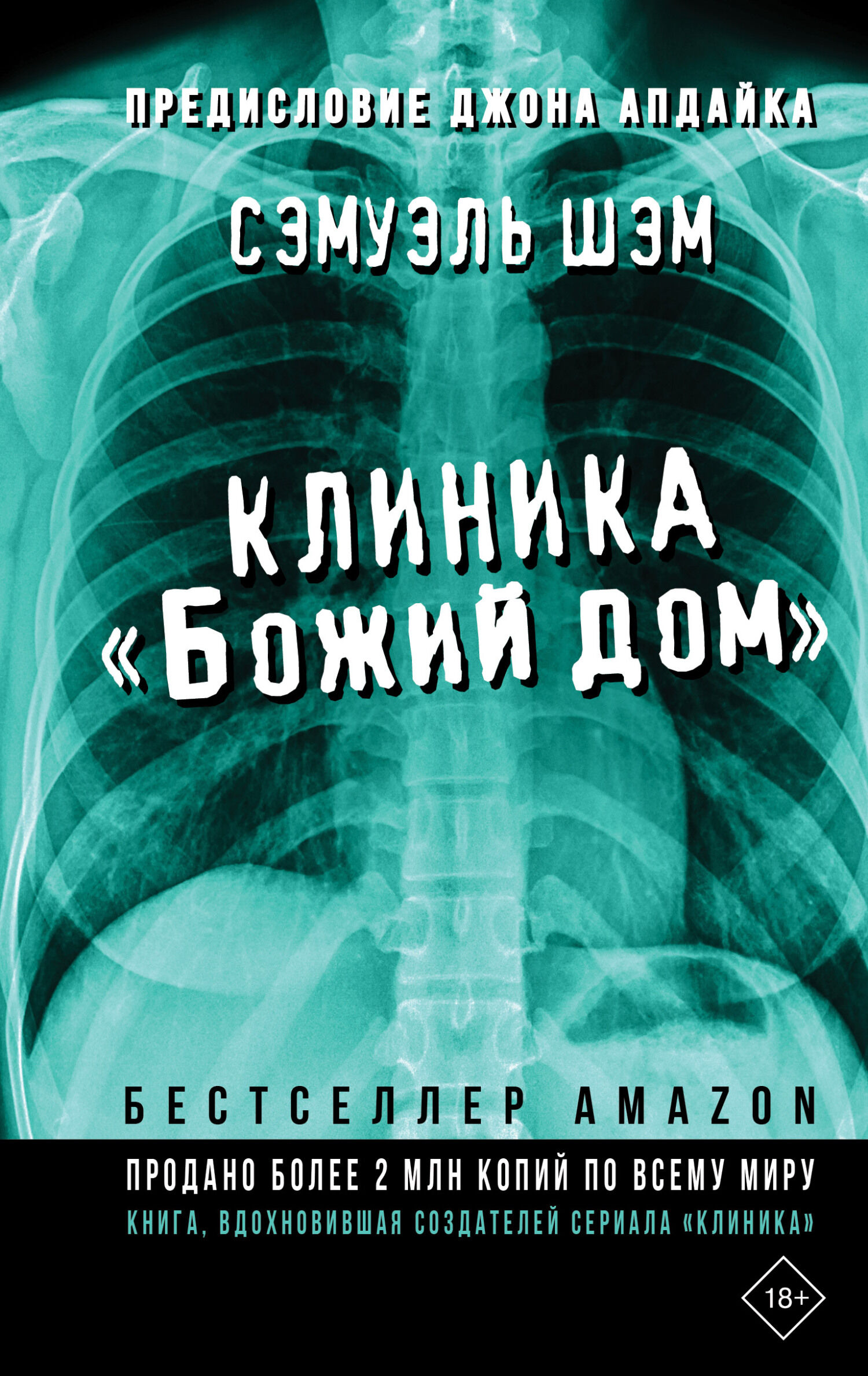
Сэмуэль Шэм
Клиника «Божий дом»
Предисловие
От врачей мы ожидаем невероятно многого. Нуждаясь в них, мы поклоняемся им; нам представляется, что их опыт и знания, а также то, что они полностью посвятили себя избранному пути, позволяет им избавиться от неопределенности, неуверенности и отвращения, неизбежных для нас, окажись мы на их месте, увидев то, что видят они. Кровь, рвота, гной не вызывают в них отвращения; старческое слабоумие и деменция не вызывают в них ужаса; им не страшно погрузиться в склизкий клубок внутренностей или же заниматься инфекциями и инфицированными. Плоть и болезни для них – абстракция, описанная в бесстрастных схемах лечения, ведущих к безошибочному диагнозу и выздоровлению. «Клиника “Божий дом”» – книга, которая избавит вас от этих иллюзий. Для медицинского мира она стала тем же, чем для армейской действительности – «Уловка-22», изобразившая этот мир в виде фарса, нагромождения ошибок и нелепостей, путешествия к туманной цели под руководством бесчестных и не вызывающих энтузиазма начальников. В каком-то смысле «Божий дом» даже скандальней «Уловки-22», ведь армия всегда привлекала (а иногда и призывала в свои ряды силой) критиков и высмеивателей, в то время как практикующие медики в художественной литературе представлены в основном людьми добропорядочными, иногда героическими, в худшем случае – фанатичными материалистами и экспериментаторами, как полный энтузиазма знахарь Гофрат Беренс из «Волшебной горы» Томаса Манна.
Нельзя сказать, что интерны, резиденты и медсестры, представленные Сэмуэлем Шэмом, не вызывают сочувствия; все они все приносят в безумный мир госпитальной медицины остатки своей преданности медицине, а самый циничный из них – Толстяк – отличается опытностью и способностью добиваться желаемого результата. Наш герой, Рой Баш, отсылает своей жизнелюбивой наивностью и – невзирая на ипохондричность его сумбурной исповеди – крепким здоровьем к Кандиду Вольтера. В клаустрофобии больничного сумасшедшего дома окнами в окружающий мир, излучающий солнечный свет здоровья, для него становятся секс, ностальгия и баскетбол. Секс является наиболее очевидным выходом, и в оргиях с Энджел и Молли приобретает поистине порнографическую четкость. Мимолетный взгляд – и нижнее белье Молли становится в одном из спонтанных, разрастающихся, построенных на потоке образов абзацев, нередко встречающихся в книге, парусом, наполненным дыханием жизни:
«… в то мгновенье, когда она, сев, закидывала ногу на ногу, перед моими глазами вспыхивал этот фантастический вожделенный треугольник светлых волос, над которым, как парус под мягким и светлым ветром, трепетало французское белье. И хотя с медицинской точки зрения я знал о тайных женских органах все и мне приходилось осматривать и ощупывать их у больных, но здесь все было совсем другое, здоровое и прекрасное, молодое и свежее, мягкое и светловолосое, влажное, пушистое, резко пахнущее, манящее, недоступное, воображаемое…»
В мире, где преобладают болезненные ощущения, вспышки похоти провоцируют даже такие далекие от этого мира вещи, как письма отца Баша с их лишенными логики речевыми оборотами. Секс между врачом-мужчиной и медсестрой становится для них обоих взаимным утешением, убежищем от окружающих их повсюду болезней и смерти, от всего трагичного, отвратительного, безнадежного, что может быть в человеческом теле. Это разнополый вариант товарищества, сходного с тем, что появляется у усталых и потерянных интернов, которые «разделяли друг с другом что-то огромное, великое и убийственное».
Героические ноты звучат намного реже насмешливых, но все-таки слышны и они, возможно, намного ценнее для тысяч интернов, взявших на вооружение отчетливо педагогичный и дидактичный роман Шэма: тринадцать законов от Толстяка; доктрина бессмертия гомеров и минималистский подход к лечению; использующиеся в больницах практики СПИХИВАНИЯ пациентов и ПОЛИРОВКИ историй болезни, СТЕНЫ и РЕШЕТА; психоанализ неуравновешенных докторов вроде Потса и Джо; множество медицинских ситуаций с объяснениями, как надо и не надо действовать. Я с трудом представляю себе ситуацию, в которой интерн не найдет для себя в этой Библии медицинских реалий ничего полезного. Несмотря на прямолинейность вокабуляра, «Божий дом» празднично сияет тем, что, по мнению Генри Джеймса, является сутью каждого романа – «дыханием жизни». Он наполнен жизнью. В своем первом романе Шэм не боится обжечься об английский язык.
«Отбойные молотки крыла Зока расшатывали мои слуховые косточки двенадцать часов подряд».
«Расстегнутая до ключиц блузка, идеальная грудь, и вся она – от выкрашенных алым губ и ноготков, от голубых век и длиннющих черных ресниц до золотой искорки крестика католической школы медсестер – вся она сияла как радуга внутри водопада».
«Было ужасно осознавать, что человек нашего возраста, только что игравший с шестилетним сынишкой летним вечером, стал овощем, и хирурги уже готовятся вскрывать его наполненную кровью голову».
Это роман воспитания тридцатилетнего Роя Баша. Его путешествие в долину смерти и правды о человеческой плоти заканчивается возвращением к разумной и чувствительной Берри. Ричард Никсон – наиболее противоречивый и представляющий огромный интерес как минимум для писателей президент XX века – и вздымающийся над ним Уотергейтский скандал – помещают действие романа в 1973–1974 годы. Эту книгу невозможно представить написанной сейчас. Как минимум не в таком бескомпромиссном виде: свободное использование многочисленных этнических карикатур в эпоху активного употребления таких терминов, как «расист», «сексист» и «эйджист», было бы невозможно. В 70-х годах не было безопасней: среди многочисленных заболеваний, ярко и подробно описанных в книге, не фигурирует СПИД; в арсенале хирургов с тех пор появился целый ряд операций по трансплантации различных органов. Тем не менее книга актуальна как никогда, поскольку американская система здравоохранения движется к кризису: она слишком дорого обходится, она устала, обременена ужасной репутацией, а гротескные истории фатальных ошибок и ужасных решений, о которых мы читаем в средствах массовой информации, превосходят то, что способна породить даже самая изобретательная писательская фантазия. Приближаясь ко второму миллиону проданных экземпляров, «Божий дом» продолжает шокировать студентов-медиков узнаваемостью тех мучений, которые испытывают они, идя по пути Гиппократа, – и в то же время дарит им утешение и развлечение.
Джон Апдайк, апрель 1995Предисловие переводчика
Начинать предисловие с предупреждения читателя о том, что с этим романом надо обращаться осторожно, – наверное, не совсем обычный ход. Но сделать это я считаю своим переводческим и врачебным долгом. Великий американский писатель Джон Апдайк в своем предисловии к этой книге, написанном в 2003 году, отметил, что «Божий дом» не мог бы появиться в наши дни. Сложно сказать, прав ли он. Роман впервые был издан в 1978 году, неоднократно переиздавался и остается на полках книжных магазинов вот уже больше сорока лет. Апдайк писал, что в современном мире книгу обвинят в сексизме, расизме и эйджизме. И действительно, во многих отзывах о романе можно встретить многочисленные «-измы». Эти критические отзывы небезосновательны: за сорок с лишним лет, прошедших с момента написания этой книги, мир сильно изменился, и Америка второго десятилетия XXI века очень сильно отличается от Америки времен Уотергейтского скандала и войны во Вьетнаме.
Читателя стоит предупредить не только о вопиющей по нынешним меркам неполиткорректности, но и о том, что книгу нельзя воспринимать как производственную драму в стиле Артура Хейли. Врачебный мир здесь совсем не такой, как в «Клинике: анатомии жизни» Хейли или в «Коллегах» Василия Аксенова. И главный герой, тридцатилетний интерн Рой Баш, не испытывает особого пиетета перед подаренной отцом-дантистом книгой «Как я спас мир, не запачкав халата».
«Клиника “Божий дом”» – гротескная, местами трагическая, местами убийственно смешная, переполненная благоприобретенным врачебным цинизмом сатира в стиле «Уловки-22» Джозефа Хеллера. Здесь действуют яркие, нелепые, зачастую очень неприятные персонажи, которые не менее ярко выглядели бы и на страницах «Уловки-22», а зашкаливающая абсурдность больничной жизни порой превосходит абсурдность армейской. В отличие от романа Хеллера, который был достаточно тепло принят в относительно мирном 1961 году, и лишь существенно позже, во времена войны во Вьетнаме (к большому неудовольствию автора) стал восприниматься как антивоенный манифест, роман Шэма скандалы преследовали с самого начала. Книга, в которой описывались современники – легко узнаваемые, имевшие немалый вес в медицинской среде Бостона персонажи, – немедленно вызвала возмущение. Многие врачи отказывали ей в праве на существование, а тысячи студентов, прочитав «Божий дом», к неудовольствию деканов звали Стивена Бергмана (таково настоящее имя Сэмуэля Шэма) на встречи в кампусе.
Что же такое американская интернатура? И почему книга, описывающая превращение студента Лучшего медицинского института (практически не завуалированный медицинский факультет Гарварда) в интерна Божьего дома (еще менее завуалированная больница «Бет Израиль» в Бостоне, университетская клиника, входящая в гарвардскую систему), остается актуальной до сих пор? Дело в том, что этот невероятно резкий переход от учебы в старых университетских аудиториях, от радости познания к работе интерна, к изматывающим, обесчеловечивающим часам в отделениях, наполненных мерцающими лампами дневного света и запахом продуктов человеческой жизнедеятельности, замаскированных антисептиками, по-прежнему остается очень травмирующим. И эта книга не только подарила медицинскому миру ряд идиом, использующихся по сей день, но и сделала возможным разговор о насущных проблемах послевузовского медицинского образования. Проблемы эти никуда не делись и в наши дни, хотя некоторые проведенные с того времени реформы и сделали жизнь начинающих докторов чуть менее тяжелой. Путь молодого врача – это не только риск медицинских ошибок (что ставит под угрозу здоровье и жизнь пациентов и едва начавшуюся карьеру врача), но и намного более высокая, чем у представителей других специальностей, вероятность возникновения семейных неурядиц, депрессии, алкоголизма, наркомании и даже суицида.
Книга написана от лица Роя Баша, тридцатилетнего оксфордского стипендиата и выпускника Лучшего медицинского института, проходящего интернатуру в Божьем доме. На первых страницах мы видим героя летом следующего за интернатурой года. Рой пытается наслаждаться жизнью в Провансе вместе со своей невестой Берри, но видно, что пережитое им не дает ему покоя. У него типичное посттравматическое расстройство, свойственное людям, пережившим тяжелые события и ощущающим свою беспомощность на их фоне. И не случайно Рой сравнивает интернатуру с войной. Он вспоминает, как они вместе с резидентом – Толстяком, усталые и потные, склонялись над пациентом, словно герои Иводзимы. Психологическое состояние Роя в этот момент ужасно, он говорит о суициде, и, по его словам, можно понять, что он больше не видит в пациентах людей, нуждающихся в помощи. Они – враги, поставившие его на колени. Он не может победить – и готов сдаться, но боится, что этим доставит им удовольствие. И даже в раю Прованса Рой продолжает видеть гомеров. Гомер – получившая распространение аббревиатура, использующаяся для обозначения хронических пациентов: Get Out of My Emergency Room (прочь из моего приемного покоя). Она дала название юмористическому блогу, она используется во множестве медицинских фильмов и сериалов. Рой больше не видит вокруг себя стариков, он видит гомеров и не может избавиться от мыслей о них. Пролог заканчивается фантазией Роя, макабрической сценой группового секса у койки пациента из другой, приводящей героя в не меньшее отчаяние, категории больных: «умирающие молодые». Фантазия заканчивается смертью и оргазмом, а Рой возвращается на год назад, к своему первому дню в Божьем доме.
Я приехал в Америку в конце 2003 года с медицинским дипломом, сдал подтверждающие его экзамены и в 2006 году начал резидентуру. До этого я никогда не работал врачом. В 2006 году реформы, о которых начали говорить давно (и не в последнюю очередь – благодаря книге Сэмуэля Шэма), уже начали давать плоды. Интернам разрешалось работать не более восьмидесяти часов в неделю, а тридцатишестичасовые дежурства сократили до тридцатичасовых. Но даже несмотря на эти нововведения, первый год работы в качестве врача – опыт, который редко вспоминают с радостью или ностальгией. Постоянная усталость, недосып, ощущение беспомощности при осознании катастрофической нехватки знаний и навыков – все это приводит в отчаяние, а пациенты теряют индивидуальные черты, превращаясь в источник бесконечного потока жалоб и диагнозов.
Несомненно, в «Божьем доме» очень много гротеска, а все эти «-измы», упомянутые выше, порой заставляют современного читателя ежиться от дискомфорта. Но несмотря на это, когда друзья просят рассказать о моем опыте американской резидентуры, я отсылаю их к этой книге, а не к привычным медицинским романам, где герои-врачи спасают жизни, не запачкав халата.
Часть первая
Франция
Жизнь – как пенис. Если расслаблен – не кончишь; если напряжен – тебя поимеют.
Толстяк, врач-резидент Божьего домаЕсли не считать солнцезащитных очков, Берри абсолютно нага. И даже сейчас, во Франции, когда я еще не отошел от интернатуры, ее тело кажется мне совершенным. Я люблю ее груди; мне нравится, как они меняют форму, когда Берри ложится на живот или на спину, когда она встает или идет. И танцует. Ох, как они хороши, когда Берри танцует. Связки Купера, залог упругости молочных желез, у нее безупречны. А ее лобок, лобковый симфиз, кость, лежащая в основе поросшего темными волосками холма Венеры? Капельки пота сияют под солнцем, и загорелое тело Берри выглядит еще эротичнее. Но мой взгляд – взгляд врача, и после года, проведенного среди изъеденных болезнями тел, все, на что я способен, – это тихо сидеть, смотреть и запоминать. Ощущать этот мягкий, жаркий, наполненный ностальгией день. Безветренно. До такой степени, что огонек от спички поднимается строго вверх; он почти невидим в раскаленном воздухе. Зеленая трава, белые стены арендованного нами фермерского домика, красная черепичная крыша на фоне синего августовского неба… Слишком совершенно для этого мира. Но думать не надо. Время для этого придет позже. Сейчас не важен результат, важен только процесс. Берри учит меня любить, как я любил когда-то раньше, до начала этого года, превратившего меня в ходячий труп.
Я пытаюсь расслабиться, но не могу. Мои мысли уносятся обратно в больницу, в Божий дом, и я вспоминаю о том, как интерны занимались сексом. Без любви, среди гомеров[1], умирающих стариков и умирающих молодых, мы накидывались на женщин Дома как животные. И трепетных учениц медицинских школ, и суровых старших сестер из отделения неотложной помощи, и даже потасканных, что-то чирикающих на ломаном языке мексиканских уборщиц – мы пользовали их всех. Я думаю о Коротышке, перешедшем от двухмерного секса с картинками из порножурналов к щекочущим позвонки приключениям с ненасытной медсестрой Энджел – Энджел, которая без своей фирменной жестикуляции не могла сказать и пары слов. И я знаю, что секс в Божьем доме был нездоров и печален, циничен и нездоров. И происходил без любви: все мы уже перестали слышать ее шепот.
– Рой, вернись! Не уплывай туда.
Берри. Мы заканчиваем обед, мы почти добрались до сердцевин артишоков. Здесь, на юге Франции, артишоки вырастают до невероятных размеров. Я очистил их и сварил, а Берри приготовила соус. Еда здесь бесподобна. Мы часто обедаем в залитом солнцем саду ресторана, под навесом ветвей. Белоснежная крахмальная скатерть, сияющий хрусталь, свежие розы в серебряной вазе. Слишком совершенно для этого мира. В углу притаился наш официант с переброшенной через руку салфеткой. Его руки дрожат. У него старческий тремор – тремор гомеров, всех гомеров этого года. Я добираюсь до последних, уже несъедобных частей артишока и отправляю остатки в мусорную кучу: для фермерских кур и гомероподобной собаки с остекленевшим взглядом; я представляю себе гомера, поедающего артишок. Такого не может быть. Разве что превратить артишок в пюре и отправить в желудок по гастральной трубке. Я снимаю жесткие листья, покрывающие сочную сердцевину, – и думаю о еде в Доме и о чемпионе по ее поеданию, лучшему в терапии, лучшему из резидентов – Толстяке. О Толстяке, уминающем луковые кольца и еврейские традиционные хот-доги одновременно с малиновым вареньем. О Толстяке с его «ЗАКОНАМИ БОЖЬЕГО ДОМА» и концепциями терапии, которые поначалу звучали безумно, но на поверку оказались единственно верными. Я вижу нас – усталых и потных, как герои Иводзимы, склонившимися над одним из гомеров.
– Они превращают нас в инвалидов, – говорит Толстяк.
– Они поставили меня на колени, – отвечаю я. – Я бы покончил с собой, но не хочу доставлять этому ублюдку удовольствие.
Мы обнимаем друг друга и плачем. Мой толстый гений, он всегда был рядом, когда я нуждался в нем. Но где он сейчас? В Голливуде, в гастроэнтерологической клинике, проводит полные обследования ЖКТ одно за другим, так сказать: «Через кишки – к звездам». И я знаю, что едкий сарказм был его способом сочувствия – его и двух полицейских, дежуривших в приемном отделении, двух ангелов-хранителей, которые казались не только всезнающими, но и наделенными даром предвидения. Толстяк и двое копов – именно они протащили меня через этот год. Но несмотря на их помощь, – все происходившее в Божьем доме в это время было ужасно, и я пострадал, серьезно пострадал. До Божьего дома я любил стариков. Но они перестали быть стариками, теперь они – гомеры, и я уже не любил их, я не мог их любить. Я пытался расслабиться – и не мог, я пытался любить – и не мог, я поблек как застиранная рубаха.
– Ты слишком много думаешь о Доме, может, тебе стоит туда вернуться? – язвит Берри.
– Родная, это был паршивый год.
Я отхлебываю вино. Большую часть проведенного здесь времени я пьян. В ярмарочные дни я напиваюсь в кафешках, а когда ярмарка сворачивается – иду в бары. Пьяный, я плаваю в реке: жарким днем, когда воздух, вода и тело – одной температуры и уже не чувствуешь, где заканчивается тело и начинается вода; когда река и воздух вращаются вокруг тебя, и их потоки затейливо переплетаются и струятся, бессмысленно заполняя собой и пространство, и время. Я плыву вверх по течению, глядя на то, как извивающаяся река растворяется в ивах, отбрасывающих тени, и на повелителя теней – солнце. Пьяный, я загораю, валяясь на полотенце, и с растущим возбуждением смотрю на эротический балет переодевающихся англичанок, выхватывая взглядом то мимолетно приоткрытую грудь, то промелькнувшие лобковые волосы – точно так же мелькали и приоткрывались они у медсестер Дома, переодевавшихся до или после работы – и ничуть не стеснявшихся меня. Иногда я, напившись, бесконечно думаю о состоянии своей печени и обо всех циррозниках, которые желтели и умирали у меня на глазах. Они либо умирали от кровотечения – паникуя, кашляя и захлебываясь кровью из разорванных вен пищевода, либо впадали в кому и блаженно ускользали в небытие по пропахшей мочой дороге из желтого кирпича.
Я потею, по телу пробегают мурашки, а Берри становится красивой, как никогда. Выпитое вино заставляет меня чувствовать себя зародышем, плавающим в амниотической жидкости, питающимся через пуповину материнскими соками; скользким зародышем, кувыркающимся в теплой влаге материнской утробы. В Божьем доме алкоголь становился спасением. Я думаю о своем лучшем друге – Чаке, черном интерне из Мемфиса. В сумке у него всегда была пинта «Джека Дэниелса» на случай, если его особенно достанут гомеры или кто-то из штатных лизоблюдов Дома – типа шеф-резидента или главврача собственной персоной (они считали Чака безграмотным и непривилегированным, хотя он был и грамотным, и привилегированным, и лучшим врачом в этой дыре). Пьяный, я думаю о том, что случившееся с Чаком в Доме оказалось очень жестоким: он был счастливым и веселым, а стал суровым и мрачным, его сломили. Такой же взгляд, как у него – злой и затравленный, – я видел у президента Никсона, когда смотрел по французскому телевидению, как тот стоял на газоне перед Белым домом и объявлял о своей отставке – с этим трагичным и неуместным жестом «V», знаком уже не победы, а поражения – пока двери за ним не закрылись, филиппинцы не скатали красный ковер, а Джерри Форд (не столько радостный, сколько растерянный) не поплелся в обнимку с женой к своему президентству[2]. Гомеры, эти гомеры…
– Черт, все на свете заставляет тебя думать о гомерах! – говорит Берри.
– Я не знал, что думаю вслух.
– Ты просто не замечаешь этого, а делаешь в последнее время постоянно. Никсон, гомеры… Забудь о гомерах, здесь нет никаких гомеров.
Я знаю, что она ошибается. В один сочный, ленивый день я в одиночку спускаюсь по петляющей дороге, ведущей к кладбищу на холме. Смотрю на замок, церковь, старинные винные погреба, площадь и на речную долину далеко внизу, на ивы, выглядящие с такого расстояния игрушечными, на римский мост, от которого начинается дорога, и на саму реку, берущую начало на ледниках. Я никогда раньше не ходил этой дорогой, дорогой, идущей по самому краю хребта. Напряжение начинает отпускать меня, и я вновь чувствую то, что чувствовал раньше: красоту, радость и сладость безделья. Земля здесь настолько плодовита, что птицы не могут склевать всю ежевику. Я останавливаюсь и собираю немного ягод. Сочная вязкость во рту. Мои сандалии шлепают по асфальту. Я смотрю на цветы, это соревнование ярких расцветок и привлекательных форм, призывающее пчел к изнасилованию. Впервые за последний год я в мире с самим собой, ничто меня не тревожит, мир вокруг меня – цельный, естественный и прекрасный.
Я сворачиваю на повороте – и вижу большое здание (лечебницу или богадельню) с надписью «Хоспис» над дверью. Моя кожа покрывается мурашками, волоски на шее поднимаются, зубы сводит. И тут, конечно же, я вижу их. Их усадили в садике, под солнцем. Островки седых волос, разбросанные по зелени сада, похожи на одуванчики на лугу; гомеры, ожидающие последнего ветра. Гомеры. Я смотрю на них. Я различаю симптомы. Я ставлю диагнозы. Я прохожу мимо, и их глаза провожают меня, словно гомеры хотели бы помахать мне, или сказать bonjour, или дать любой знак того, что в пучине слабоумия у них прячутся остатки разума. Но они не машут, не говорят bonjour и не дают знаков. Здоровый, пьяный, загорелый, потный, объевшийся ежевикой, смеющийся про себя и пугающийся жестокости этого смеха, я чувствую себя превосходно. Видя гомеров, я всегда чувствую себя превосходно. Теперь я люблю гомеров.
– Хорошо, во Франции могут быть гомеры, но они не твои пациенты.
Она продолжает есть артишок, и соус стекает по ее подбородку. Она не вытирает его. Она не такая. Ей нравится ощущать масло на коже, нравится этот уксусный запах. Она наслаждается своей наготой, беззаботностью, маслянистостью, легкостью. Я чувствую ее возбуждение. Сказал ли я это вслух? Нет. Мы смотрим друг на друга, а капля соуса стекает с ее подбородка на грудь. Мы смотрим. Капля словно исследует кожу, медленно двигается, крадется в сторону соска. Мы молчим, но оба думаем: потечет капля дальше или остановится между грудей, или ускользнет в подмышку? Я опять ухожу в медицину: думаю о карциноме подмышечных лимфоузлов, мастэктомии, статистике смертности. Берри улыбается, не догадываясь о том, что мои мысли повернули к смерти. Капля соуса стекает к соску и останавливается. Мы улыбаемся.
– Прекрати думать о гомерах и слизни ее.
– Они все еще могут меня уничтожить.
– Не могут, давай же.
Когда я касаюсь губами ее соска и чувствую, как он напрягается, и ощущаю привкус уксуса, я думаю об остановке сердца. В палате толпа, и я прибегаю одним из последних. На койке – молодой пациент, уже интубированный. Санитар вентилирует ему легкие, резидент пытается поставить катетер в центральную вену, а студент бегает кругами. Все знают, что пациент умрет. Медсестра из интенсивной терапии, склонившись над койкой, делает ему массаж сердца. Она из Гонолулу: рыжая, с великолепными бедрами и большими сиськами. Первосортными гавайскими сиськами. Это ее пациент, и она оказалась в палате первой. Я стою в дверях и смотрю: ее белая юбка задирается так, что, когда она склоняется над пациентом, я отлично вижу ее задницу. На ней бикини в цветочек, и сквозь белые эластичные колготки я почти различаю лепестки и тычинки. Я думаю о Гавайях. Вверх и вниз, вверх и вниз… посреди крови, рвоты, дерьма и мочи ее фантастическая задница двигается вверх и вниз. Как волны прибоя на вулканических пляжах, вверх и вниз, вверх и вниз. Мягкое место класса люкс. Я подхожу и кладу руку на ее ягодицу. Гавайка оборачивается, видит меня, улыбается, говорит: «Привет, Рой» – и продолжает свое дело. Я в это время массирую ее задницу – та двигается вверх-вниз, вертится – а моя рука следует за ней. Обеими руками я стягиваю с нее колготки и спускаю трусики до колен. Она продолжает массаж. Я просовываю руку между ее ног и глажу внутреннюю поверхность бедер – вверх и вниз, вверх и вниз, в ритме массажа сердца. Свободной рукой она расстегивает мои белые брюки и хватает мой набухший член. Напряжение невероятное. Вокруг кричат: «Адреналин!», «Дефибриллятор!»