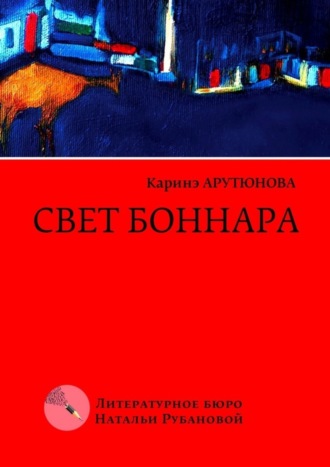
Полная версия
Свет Боннара. Эскизы на полях
Лучшее воспоминание – домашний хлеб, пропитанный чесноком и оливковым маслом, – его долгий вкус, его спокойная простота, его неспешное достоинство, – час ночи, вокзал, медленные поезда, сдвоенные сиденья, мокрая плитка под ногами, обитые мхом стены и ступени, дом на окраине тишины.
Здесь всюду влага, она сочится буквально из всего. Вдруг по всему телу вырастают маленькие голодные жабры. Оказывается, они тосковали по нежным касаниям и тишине этого грустного и очень человечного мира, из которого произрастает поющая душа фаду.
У фаду тысяча голосов.
У каждого голоса – своя история. Она любуется собой, пребывая внутри и над. В страдание нужно входить, точно в воду, – по щиколотку, по колено, по пояс, по плечи.
Там тоже жизнь. Она другая, и как будто является отражением той, прошедшей.
Той больше не будет, – сообщает голос, возносясь до невиданных высот, – не будет, – вторит другой, скатываясь с вершины, – не будет, – с полной, казалось бы, безнадежностью подпевает третий.
Но тут вступает четвертый, – и тема получает неожиданное развитие.
Ты учишься дышать, у тебя получается, и это новый вид ностальгии. Ты больше не хочешь забывать, ты просто поешь о том, что уходит. Чем дальше уходит, тем ближе становится.
Прилив, отлив, ожидание. Набираешь воздух и опять входишь в волну. И это новый уровень счастья. По ту сторону воды.
За стеной кто-то перекатывает стеклянные шарики. Это лиссабонская стена в лиссабонском доме на улице Фернандеса, в районе Сан-Паулу. Нам скоро выходить, и поспать этой ночью не удастся. Я так и не узнаю, кто живет за стеной.
Под окнами шумная толпа американцев признается в вечной любви к Лиссабону.
Я так и не купила гашиш у негритят из овощной лавки, хотя неоднократно подвергалась искушению. Смешные негритята. Им и невдомек, что воздух, который отпускают в этих краях, покруче любого гашиша.
Вышли они из аэропорта, побрели к остановке. И всю «европейскость» как волной смыло…
Прическа только от парикмахера, шмотки добротные, загар, к слову сказать, некогда им особо загорать, – она – на кухне день-деньской, в ошметках рыбьих, в чешуе и масле, оттого и креветочное сардинное тресковое это царство на дух не переносит, от одного запаха бледнеет. Он целыми днями баранку крутит. А так-то все слава богу. Не Житомир какой-нибудь. Двенадцать лет уже.
А вышли на мартовский сквозняк, и как будто никуда не уезжали. Только постарели на десять лет. Успокоились, брыльца наросли, лица разгладились – ведь все же хорошо вроде, работа есть, подарков вон полный чемодан. Он закурил, она тоже, – неумело, как тогда. Морщины резкие от крыльев носа, – в тепле и не заметно, а здесь, на ветру, все как под лупой, – просто долго как-то до счастья добирались, поздно, через двухтысячные, – пока попривыкли, осмотрелись, втянулись, – машину купили, деньги какие-никакие отложены, – он сигарету швырнул, притянул к себе, – вдохнул в себя, со всем ее маникюром, автозагаром, едва уловимым запахом рыбьей чешуи, долгой усталости, осторожно коснулся губами волос, – они пахли лаком, стойкими женскими духами, но едва слышно – ею настоящей, резкой и скандальной, когда припрет, а сейчас вот – растерянной маленькой женщиной «с житомирской области».
Точно после долгого сна, вышла, – ощупывая ногами землю. В пробоинах, рытвинах, осколках, – такое ощущение, что все снесло случайным снарядом. Но, тем не менее, все стоит там же, где и стояло. Улица, фонарь, аптека. Дома кренятся в сторону реки. Влюбленные у подъезда все не насытятся, – им тьма египетская нипочем.
В окне (четвертого? пятого?) все та же бесконечная мелодрама, – Она пилит Его лишенным полутонов тоскливым учительским голосом, он вяло отбрыкивается. Звук стереофонический, сюжет тот же, – ты мне жизнь загубил, я знала, вот и Тамара Васильевна говорила. Он мычит, уже который год подряд, она плачет, я, задрав голову, слова позабытой нежности шепчу из вещего сна, – касаний неспешность. Из утренней смежности, – пульса под пальцем биение остро. Сквозь брызги оконной замазки осколок размером с птенца, – будто младенец в подоле. Тренье виска о запястье. Сплетение. Медленней… смеженней…
Неважность времени. Места. Ноль декораций. Имен. Перспектив. Всё бренно. Всё временно…
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *Театр океанской трески
Одно хорошее местечко может быть где угодно. Лавка с крымскими винами, густыми и тяжелыми (чувствуешь вяжущий вкус вишневой косточки? А это деревом отдает, кажется – дубом, а здесь нотка карамели и коричного масла, а это миндаль), третья скамейка от ресторана, овраг, поляна, чистое поле, – ветер треплет волосы, время для самых головокружительных цветов и оттенков, – апрель – это новый шарф, он плещется, отлично вписываясь в орнамент старых дворов и переулков, – со Стрелецкой на Рейтарскую, потом Ярославов Вал, – ну да, апрель – это наше время, и у нас его украли, чуть ли не единственный шанс на беспечность, – в какой из трех переулков нужно свернуть, чтобы открылась нарядная праздность весенней Пейзажки, угадай с трех раз?
Ах, ты вечно сворачиваешь не туда, фотографируя каждый булыжник, вот уже и вино все выпито, и декорации сворачиваются, но в запасе есть еще пара местечек, погоди.
Ладно, я не буду рассказывать о том, как мы тащили чемодан по крутой лиссабонской лесенке. Не буду. Вообще, о многом лучше все-таки не рассказывать. Пусть это останется между нами.
Вот вы говорите – путешествия. С вами постоянно что-нибудь приключается. Такая, черт побери, планида. Иначе какие же это путешествия без приключений.
Конечный пункт, – строго так вопрошает блюститель порядка с кобурой на бедре.
Причины, , назови хоть одну из причин. Зачем тебе туда. Что тебе там. Там что тебе, медом намазано, – рослый голландец пакистанского происхождения заводит меня за ширмочку, – строго так, без улыбки, – а по другую сторону всего этого безобразия мечется Таня, – по ее подсчетам ваш покорный слуга давно должен был носиться по дьюти-фри, кушать курицу в чесночном соусе, ждать посадки, – но он даже не удосужится поднять трубку, потому что телефон лежит на столе дотошного пакистанца, – там вообще, господа, засада, – война миров, столкновение цивилизаций, и счастливые обладательницы биометрических паспортов, размазывая слезы по щекам, считают минуты до счастливого вызволения. дарлинг
Зачем, – нехорошо улыбаясь, пакистанец изучает склеенные странички паспорта, – одна причина, – стонет он, по лицу его стекают крупные капли пота, – международный симпозиум кузнечиков, карнавал, слет любителей макраме, фестиваль юных филателистов, борьба за мир, все что угодно, дорогая, но не эта безумная улыбка, блуждающая по бледному лицу, я вскидываюсь оживленно, вспоминая о другом паспорте, позволяющем без дотошных расспросов преодолевать условности и границы, – но благоразумие останавливает внезапный порыв откровенности, – стоит только вообразить два паспорта в смуглых руках факира, и возрастающее недоумение коллег, столпившихся рядом.
Разрывается телефон, рыдает вайбер, но страж порядка неумолим, – никаких, он повторяет, звонков, мисс, и небрежно касается кобуры, – не угрожающе, нет, просто напоминая о том, кто в доме хозяин.
Понимаете, – я набираю полную грудь воздуха и делаю такое прелестное движение руками, изображающее отсутствие угрозы для цивилизации с моей стороны, – трэвел, гулять, впечатления, – я художник, бродячий артист, моей натуре полезны перепады давлений и смена обстановки, – вот обратный билет, – через Париж, – видите? С датой, – Париж? – пакистанский юноша вновь напрягается, его лицо приобретает напряженный фиолетовый оттенок, – зачем вам Париж, мадам? – одна причина, мисс, всего только одна, но веская причина.
О, – я привстаю с казенного стула и хрипло хохочу, поражаясь наивности провинциала, – что мне Париж, – что мне Париж, мой мальчик, , – клянусь, если бы я вышла в Париже, я бы нашла достойное занятие, – Монмартр, Мериме, Золя! о ла ла
Возьмем Шагала. Возьмем, допустим, Шагала. Я устраиваюсь поудобней и загибаю пальцы. Шагал, Сутин, старина Моди, Пикассо.
Это ваши друзья, мисс? – они смогут за вас поручиться?
Парнишка счастлив был завершению столь непростой беседы. К тому же, уверена, его внутренний мир пополнился новыми оттенками и глубинными смыслами.
Приключения, говорите вы. То ли еще было. Могла ли я вообразить, что обычный трактирный сортир станет для меня местом часового заточения, а также объектом пристального изучения на предмет особой задвижки с кодом.
Я, видимо, ее слишком нервно защелкнула. Слишком нервно. Опасаясь непрошеных визитеров, которые то и дело тянули ручку с той стороны.
Я набирала заветные цифирьки, давила на кнопочки, ковыряла пилочкой для ногтей, пыталась задобрить монеткой в один евро, но замок оскорбленно молчал, даже не думая подавать признаков жизни.
Хорошо, – утирая пот со лба, – с некоторой долей надежды я попробовала прибегнуть к помощи всесильного вайфая, – по ту сторону расстилался волшебный мир, там сидела Таня, она, склонив голову над экраном, рассылала смайлики благодарному человечеству, даже на минуту не задаваясь тревожной мыслью обо мне, колотящейся лбом о задвижку, набирающей пароль, вновь и вновь скребущейся в металлическую дверь холодного сортира третьеразрядного кафе на краю Европы.
Не в силах сдержать охватившей меня паники, я вынуждена была прибегнуть к помощи ненавистного , – открой меня, Таня, спаси, – все эти сообщения, конечно же, дойдут, но не раньше глубокого вечера, когда над океаном закричат хищные чайки, с небес вновь польются стремительные потоки, – и вот тогда на экране айфона проступят мои отчаянные призывы о помощи. капслока
Но будет несколько поздно, – в настоящем приключении всегда все случается на полтакта позднее, чем должно.
– Я этого есть не буду, – отковырнув от огромной рыбины, Таня решительно отложила вилку и нож.
Рыбина и впрямь впечатлила. Огромная такая треска, довольно уныло пахнущая. Я бы сказала, безысходно пахнущая.
Ее внесли на вытянутых руках, разве что в барабаны не били.
Это и есть знаменитая океанская , – заметила я миролюбиво, – блюдо не из изысканных, еда простолюдинов, бедняков. Рыбку как принесли, так и унесли, на тех же вытянутых руках, – не знаю, что с ней сталось потом, – возможно, разодранный бок подлечили и так же торжественно преподнесли краснощеким немецким туристам за соседним столиком. Туристы, разогретые портвейном, лучезарно улыбались и рассылали смайлики всему человечеству. бакалау
Блюдо с сардинами выглядело гораздо живописней. Сардинами хотелось по меньшей мере любоваться. Слагать о них оды и легенды. Но почему-то есть их совершенно не хотелось.
Пахло пережаренным маслом и целебным рыбьим жиром.
– Во-первых, это полезно, – ты знаешь, именно в сардинах есть такое специальное полезное вещество, которое больше нигде и ни в чем? – Таня уверенно подцепила третью (из восьми) и умело одним движением освободила ее от хребта со всеми косточками.
Я попробовала повторить номер, но моя сардинка распалась в воздухе, и уже в самой тарелке являла собой жалкое зрелище – с перебитыми костями, развороченным брюшком и трагически откинутой головой с перламутровым глазом. На голову я старалась не смотреть.
После нескольких попыток я со вздохом отодвинула тарелку. В горле саднило, от едкого запаха масла кружилась голова.
– Во-первых, это красиво. Это не стоит воспринимать как какое-то тривиальное блюдо. Это искусство. Искусство не едят. Им насыщаются. На расстоянии.
Вообще же, меня не покидало ощущение блестяще поставленного спектакля. Поднимается занавес, актеры кланяются. По сцене плывет перламутровый глаз трески. Зрители в экстазе.
Это так по-настоящему, это так живо, мощно, взгляни, прорисован каждый хрящик, каждая чешуйка. Торжество деталей. Ими нужно наслаждаться, не думая об утолении каких-то там животных инстинктов.
Из театра трески мы вышли голодными. От воздуха и обилия впечатлений кружилась голова.
– Кажется, у нас еще осталась овсянка, – мечтательно обронила я, – целых полпакета прекрасной отборной овсянки. Ее можно залить кипятком и продержаться до отъезда. Господи, без всех этих полезных и даже целебных рыбьих жиров, без перламутровых глазок, без хребтов и костей, без оркестра и дирижера, без мизансцен и декораций.
Овсянка у нас действительно была. От нее ничем не пахло. Ей не нужно было слагать оды и признаваться в любви. Ее можно было есть, не вылезая из постели. Прямо в пижаме. Наслаждаясь обыденностью момента, безыскусностью ритуала и отсутствием драматических эффектов.
* * * * * *Тени на песке
Йом ришон
В памяти запечатлен золотой день многолетней выдержки, долгие пешие прогулки вдоль простирающихся ландшафтов, насыщенные множественными восторгами впечатления, утроенные неожиданно ярким январским солнцем, свежестью трав и дерев, запахами сирийской (ливанской) кухни из близлежащих едален, – и как отдаленный звон колокольцев – дождливый «» – день первый, то есть израильский понедельник, – ничем не напоминающий о том золотом шабатнем дне января, – даром что весна, – всюду – влага, влага, влага, все волшебство таинственным образом затаилось, чтобы в нужный момент объявить о себе нежным свечением куполов и шпилей, вкраплением воспоминаний в дождевые потеки, лужицы, – неизъяснимое удовольствие от обыденности этого дня, его серости, скудости, от редких пересечений с людьми. Ничто не мешает узнаванию дорогих подробностей, – точно старинный ларец, приоткрываясь, являет взору потускневшие драгоценные вещицы, – перебираешь их, узнаешь скорее на ощупь, по знакомым щербинкам, впадинам и выпуклостям, ощупывая внутренним взором, касаешься чего-то интимного, спрятанного, непроявленного. йом ришон 1
Старик коробейник, уличный шарманщик, фальшивомонетчик, меняла, дряхлеющий и вечно обновляющийся мир предметов, кладбище подробностей, нехитрого скарба, испод бытия, восточный орнамент по краю надтреснутого блюдца, волшебная лампа Аладдина, пещера с драгоценностями, испорченный патефон, старые снимки, ушедшая под воду Атлантида, проступающие над ней, водой, лица, звуки, повторяющийся (то рядом, то издалека) крик муэдзина, обрывки слов, лоскуты тканей, ковров, воспоминаний, надтреснутые горлышки кувшинов, амфор, их вытянутые удивленные шеи, их округлые бедра, их выпуклые животы, поющие отверстия их ртов, подернутые патиной зеркала, в которых тени, отражаясь, отступают, приближаются, замирают, – попытка попасть в собственный след венчается потерей памяти. Расколотая рама важней картины, вправленной в нее.
Ты помнишь все, ты все забыл. Соленый привкус счастья, и горький – невозможного. Кофейная взвесь скрипит на зубах. Дорога ведет к морю. О, чужеземец, мечтающий измерить шагом Голгофу, не ведающий о том, что, как никогда, он близок к ней. Всего только следы, ведущие к изувеченным Хроносом стенам, улочкам, втекающим и вытекающим из, – заплата на заплате, шов на шве, рубец на рубце. Грубый, рваный, уродливый, тянется, расползается, натягивая ветхую ткань.
Как больно дышать. Как сладко дышать. Течение времен. Песок жизней. Оказывается, его можно пересыпать из ладони в ладонь, пересчитывать песчинки, натыкаться на острые камни, стекла, битые черепки.
Это Яффо. Жадный, жаркий, ленивый, суетный, неспешный, продуваемый насквозь морским ветром. Здесь яхты покачиваются на волнах, свет слепит, многотысячный гул голосов, сегодняшних и тех, вчерашних, – со старых снимков, стен, из пухлых семейных альбомов, из коробок с рухлядью, из сонных ларцов и запертых на засов лавок.
Прийти сюда к ночи, упиваясь прибоем и тишиной (в которой звуки, встречаясь, множатся, разлетаются вдребезги), заглянуть в арабскую пекарню, взвесить на ладони плоскую лепешку, щедро посыпанную затром. 2
Убедиться в повторяемости ритма, в уникальности мелодии, сознаться в главном. Вот город (не засыпающий никогда, в общем-то – бессмертный, со всем, что ему принадлежит, тайным и явным), а вот твоя жизнь, твой единственный путь, проходящий сквозь стены, улицы, арки, дома. Нам суждено соединиться (на день, на час), упиваясь яркостью мгновений, сожалея о быстротечности их. Нам не суждено быть.
Композиция
У гроба Господня суета. Не просто суета, а композиция из десятков сотен лиц, согбенных силуэтов, коленопреклоненных, – некоторые из них напряженно и торжественно буравят взглядом глазок камеры, – событие на всю жизнь, и даже выходящее за пределы ее. Распростертый на камнях (прямо на могиле) нежный смуглый младенец в развороченных цветастых пеленках, над ним – мать, отец, – тонкие темные руки, профили, одежды, – облако исступления витает над и вокруг, все это максимально выверено композиционно, точно кадр из нескончаемого сюжета великого режиссера, снятый великим оператором. Вот где точность и емкость, вот где насыщенность. В цвете, в соразмерности момента и вечности. Смешение языков и стилей, – сквозь все и вся – шорох русской речи, – какие-то женщины, краснолицые, кряжистые, в платках, японцы в галстуках (неужели те же, что и тогда), неулыбчивые лица, отягощенные важностью происходящего. Я все это видела. Везде была. Сердитый араб все так же восседает на стуле возле сувенирной лавки, его поза, опущенная голова, щеки, иссеченные глубокими бороздами, а эти двое так же бредут мимо, и дождь делает кадр размытым, но можно откорректировать, поиграть с резкостью, цветом, оттенками. Со вздохом отказаться от самой идеи. И больше никуда не бежать (и не идти), оставив всякую попытку запечатлевания вечности.
Это сладкое слово
Знаете, чем пахнет свобода? Случайной квартирой на втором этаже случайного дома, – квартирой, в которой все незнакомо, – начиная от занавесок на окнах и заканчивая замком.
Случайным диваном, который не помнит всех этих «удобно-неудобно», но, тем не менее, добродушно принимает в свои объятия, – это особенно важно в четыре часа утра – или ночи, такой знакомо влажной, со всеми этими поднимающимися над городом испарениями, – пахнет дождем, пахнет устойчиво, – дождем, старыми домами, плесенью, кошками, сигаретами, морем, которое еще впереди, которое еще не подозревает о твоем присутствии, которое все так же добросовестно вдыхает и выдыхает могучими легкими и лижет песчаную полосу…
Свобода пахнет забытым вчерашним днем, не вчерашним, собственно, а странно далеким, – с распахнутыми в случайный двор окнами, с выложенным сиротской плиткой полом, с мотоциклом, который проворачивает зигзаги и восьмерки, и, собственно, голосом мотоциклиста, которого явно не смущает раннее утро, – хотя какое же оно раннее, – это оно у меня, здесь, раннее, – а у них – уже горит, потому что южная ночь, она такая, короткая, случайная, условная, – а здесь почти не бывает ночи, – в этом убеждаешься еще сверху, поглядывая в иллюминатор через живот посапывающего соседа, – доверчиво принимающего из рук стюардессы дары Средиземноморья, упакованные в пластик и обернутые тонкой бумагой.
Свобода пахнет утренней выпечкой, шорохом газет, клекотом тропических птиц, ленивой перекличкой домашних хозяек, застывших над развешенным бельем. Свобода пахнет чужим бытом, проистекающим размеренно, ничуть не страдающим от внезапного вторжения соглядатаев.
Как хорошо быть чужим, не окончательно чужим, но и не бесповоротно своим.
Отдельным. Какая редкостная привилегия.
Она, пожалуй, пройдется, воспользовавшись этим почти случайным, почти забытым чувством свободы от самой себя, – от привычек, действий, ощущений, – пройдется, выйдя за порог почти случайного дома, по почти случайной дороге, ведущей к шоссе, остановке, другим случайным домам и кварталам.
Но вначале она все-таки воспользуется случайной газовой плитой, конфоркой и джезве, – шумит далекое-близкое море, шумит давно бодрствующий город, который живет себе и живет у прибрежной полосы, грохочет и урчит – мусороуборочными и стиральными машинами, мотоциклами, пылесосами, взлетающими и приземляющимися самолетами, – не задумываясь о постоянстве и случайностях, столь неизбежных в одной случайно взятой жизни.
Все здесь отравлено ее вчерашней тоской, ее смирением, ее бегством, – ну, вот я снова здесь, – скажет она, так и не сделав этот шаг, так и не переступив порога чужой квартиры, – застынет у чужого окна, всматриваясь в подступающие, такие ранние в этих широтах сумерки.
Картинки из предместья
Все тот же ветерок прогуливается по закоулкам южного Тель-Авива, все тот же соленый ветер подбрасывает картонки, – вместе с брызгами из-под колес и выныривающим из-под них же клошаром в цветном шарфе, а еще степенно пересекающим проезжую часть африканским семейством в белых одеждах, а еще разудалой эфиопской свадьбой на фоне серых, изъеденных грибком стен, – невеста улыбается во весь рот, – узкобедрая модель, а не невеста, и такой же узкий длинный жених, совсем мальчик, тоже весь в белом, белоснежном на фоне серого – стен, волн, некогда белых зданий. Солнце то прячется, то вдруг выкатывается из-за туч, и тогда движущиеся по набережной люди, все эти люди, жестикулирующие, смеющиеся, задумчивые, дремлющие на лавочках и просто фланирующие в одиночестве, – вот ухмыляется истинное дитя побережья, – дитя южного Тель-Авива, пережившее, возможно, войны, сексуальную революцию семидесятых, искушение томным цветком марихуаны, – истинное дитя предместий, просоленное, вяленое, жилистое, – оно подмигивает горящим из-под кустистых бровей глазом, подмигивает, ухмыляется, приглашая присоединиться к вечному празднику, похоже, вечного города, а вот неторопливая старушка в удобных мокасинах, а вот бегущий впереди нее шпиц, – а вот усердно вышагивающие вдоль кромки моря, – со стиснутыми зубами, с наверченными на головах бурнусами, – они ходят, наворачивают километры в предвкушении заслуженной чашки «кафе афух» (перевернутого кофе) и нескольких листиков салата, вспрыснутых переливающимися на солнце каплями оливкового масла, – груды оливок, а еще хорошей пинты пива, от которого картинка приобретает завершенность и даже, если хотите, полноту.
Полнота бытия во всем, – в семенящей старушке, в уверенно срывающейся с места инвалидной коляске, перед которой застывает движущаяся лента шоссе, – в этих брызгах, крупицах соли на всем, на лице, на губах, на выпечке, вздымающейся тут же, на раскаленных противнях в арабской пекарне, – в записанной на пленку полуденной молитве (азану), – которая не остановит ни перебирающего короткими лохматыми ножками шпица, ни постигающую мир старушку в хипповом прикиде, ни морского волка с радиоприемником образца семьдесят пятого года, – все так же разбивается волна о парапет, одна, другая, третья, и шагает толпа восторженных, похожих на школьников белотелых скандинавских туристов и не менее беспечных аборигенов, проживающих, прожигающих благословенный шабат в завещанной, дарованной господом неге и беспечности.
Тоска по внутреннему раю
Существует же эстетика черно-белых снимков и черно-белого кино. Так вот, мне хочется туда. С одной стороны, как хорошо, когда солнце, сочная трава, цвета четкие, без полутонов, – голубое так голубое, – зеленое – так уж зеленое без дураков.
Есть некий деликатный момент, – в тусклом освещении цветá, исчезая из внешней картинки, уходят во внутреннюю и там уже разворачиваются во всей своей бесподобной и неправдоподобной красе.
Обилие внешнего не дает развернуться воображению, – кто-то все уже сделал за тебя – раскрасил небеса, воткнул пальмы и прочие замечательные штуки.
Как можно все это покупать и употреблять? (Можно, все-таки можно.) Это нужно осязать, вдыхать, этим можно любоваться, растирая в пальцах канареечного цвета порошок куркумы и горчичного – карри, втягивая острую и сладкую смесь паприки и ехидную – гвоздики. Надышавшись парами кардамона, я уже сыта, практически сыта, и только бойкий голос продавца, похожего на смесь всех перечисленных ингредиентов плюс еще щепотку кунжутной халвы – с фисташками и миндалем, а еще, конечно же, с брусочками шоколадной взвеси, – губы у него вытянуты в гримасу стойкого сладострастия, – он пробует халву за тебя, за себя, за него, – он пробует щепотку халвы и причмокивает сладким ртом, при этом одной рукой взвешивая горсть засахаренных орехов, а другой – отсчитывая сдачу.





