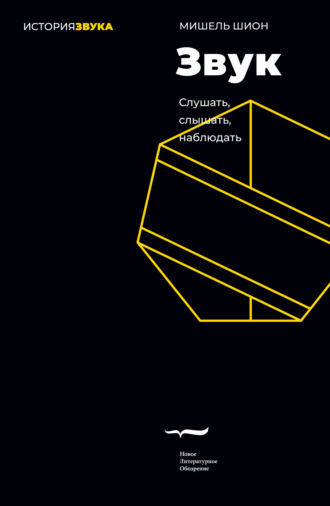
Полная версия
Звук: слушать, слышать, наблюдать
2. Слышать голос в звуках
2.1. «Мне не нужно, чтобы звук говорил со мной»В телепередаче под названием «Слух» американский композитор Джон Кейдж произнес следующие проницательные слова:
Когда я слышу то, что называют музыкой, у меня создается впечатление, что со мной кто-то говорит, говорит о своих чувствах, идеях. Но когда я слышу шум машин здесь, на Шестой авеню, у меня нет такого впечатления. У меня такое чувство, что звук действует (the sound is acting), и мне нравится его активность, он сильнее или слабее, выше или ниже, и это меня полностью удовлетворяет. Мне не нужно, чтобы звук со мной говорил.
В той же передаче Кейдж говорит, что он предпочитает звук тишины и что сегодня тишина для него – это звук дорожного движения, который всегда разный, тогда как музыка Моцарта или Бетховена, как он утверждает, всегда одна и та же. Кейдж, таким образом, не желает больше слышать о «песне» дождя, «шепоте» ручья, «плаче» ветра или какой-либо еще антропоморфической проекции на звук, рассматриваемый в качестве заместителя, представителя чего-то отличного от него, а именно голоса.
Замечание Кейджа находит у нас отклик потому, что оно затрагивает нечто очень глубокое: он не хочет слышать, как говорят звуки, поэтому ставит в центр своего дискурса и художественного подхода тишину, определяемую в качества звука, который не говорит, потому что, очевидно, с точки зрения Кейджа, здесь есть что-то такое, от чего надо убежать и отказаться. Звуки только и хотят, что говорить, – или, скорее, мы только и хотим, что спроецировать на них речевой вокал, артикуляцию, намерение.
Почему этого не происходит с шумом машин? Возможно, потому, что этот шум статистически гасит сам себя. Звук проезжающей машины, взятый обособленно, – это определенная история, то есть дискурс, нечто такое, в чем уже присутствует язык. Однако звуки разных машин перекрывают друг друга, создавая своего рода смазанный рисунок, который постоянно стирает сам себя, подобно шуму разговоров в кафе.
Если встать на краю дороги небольшого города в час пик, мы услышим не единообразный шум, а массу разных звуков, которые наслаиваются друг на друга и которые можно различить по тысяче разных признаков: типу автомобиля, его модели, состоянию мотора и глушителя; по разным расстояниям между машинами и по разным скоростям, которые постоянно рождают новый звук; по особенностям вождения, торможения, ускорения, рывкам, шуму сцепления, когда близится остановка или когда на светофоре загорается красный свет… Короче говоря, это совокупность вполне индивидуализированных звуков. Обязательная остановка на красный сигнал светофора не способствует упорядочению этого звука, поскольку, когда одни машины останавливаются, другие обычно трогаются.
Этот шум можно сравнить с «течением», «потоком», «рекой» (это частое сравнение) лишь в том случае, когда он слышится издалека, как гул, с другого берега реки или же на уровне окна верхнего этажа. Если же слушать его с близкого расстояния, он представляется цепочкой событий, которые гасят друг друга и в то же время в силу своего различия никогда не растворяются в одной коллективной массе. Каждый шум стирает другой, не слишком от него отличаясь, но и не повторяя его буквально.
Возможно, неслучайно, что звук дорожного движения становится настолько важным в последних фильмах Робера Брессона («Вероятно, дьявол» и «Деньги»), если вспомнить, что этот режиссер не выносил голоса, «резонирующие в пространстве», и благодаря своей особой работе с актерами при помощи постсинхронизации добивался того, что, едва прозвучав, звук голоса тут же поглощался. У Брессона герой торопится восстановить тишину, которую он своим голосом нарушил48.
На самом деле мы слышим свою речь не только изнутри, но и благодаря отражению звука нашего голоса, отправляемого нам пространством. Доказательством служит то, что когда нам случается говорить в месте, полностью лишенном эха, нам становится не по себе, мы чувствуем себя как будто голыми.
2.2. Антропоморфизм слуха?Не только в древних мифах, в которых голоса складываются из шуршания листьев деревьев и журчания ручья, но также и у современных поэтов мы обнаруживаем этот антропоморфизм звука, против которого выступил не только Кейдж, но и часть деятелей современного искусства: «Les sanglots longs / Des violons / De l’ automne», – сказано в поэме Поля Верлена, который в другом месте пишет: «Le vent profond / Pleure on veut croire»49.
Эти примеры не сводятся к наивным разговорам о том, что ветер – тот, кто плачет. В первой цитате сравнение опирается на посредничество музыкального термина: скрипки плачут как голос, а ветер плачет как скрипки, которые плачут как голос. Во второй цитате фраза «хочется верить» (on veut croire) добавляет идею нерешительности, указывая на сознательный, волевой акт проекции слушающего субъекта.
Однако было бы ошибкой видеть в этом гилозоизме50, близком западной поэзии и доведенном до предела в философских идеях Виктора Гюго, всего лишь антропоморфизм. Эпоха или умонастроение, требующие наделять стихии голосами и чувствами или жалобами, означают, с точки зрения самой этой эпохи или этого умонастроения, не то, что все сводится к человеку, а наоборот, то, что человек лишается своей привилегии голоса.
2.3. Континуум звука и голосаИногда звук и голос составляют одно (неслучайно греческое слово phonē, от которого происходят все существительные, связанные со звукозаписью, означает просто «голос»), но иногда их различают, никогда при этом не проводя между ними четкой границы.
Считается, что в начале был голос – в Библии это голос Яхве, который изрекает: «Да будет свет». Затем в «Бытии» встречается еврейское слово, которое обычно транслитерируется как Qowl, а переводится на французский по-разному – как «голос» или «шум шагов». Характерно, что именно тогда, когда Адам и Ева вкусили от Древа познания, совершив тем самым грех, они услышали первый акусматический звук в истории, и при этом звук этот, судя по всему, был двусмысленным. Речь идет о «звуке» Бога, прогуливающегося во «время прохлады дня» в Эдемском саду, звуке, который заставляет наших прародителей осознать свою наготу и спрятаться.
Зато Лукреций в своей философской поэме «О природе вещей» не раз проводит различие между sonitus и vox, представляя голос в качестве особой категории: «Ибо и голос и звук непременно должны быть телесны, / Если способны они приводить наши чувства в движенье»51. Говорить – значит терять субстанцию, что доказывается тем, что по завершении «беспрерывной речи», длившейся с рассвета до заката, человек обессиливает: «Так что сомнения нет, что должны состоять из телесных / Голос и слово начал, раз наносят они пораненья». В то же время у Лукреция можно найти странное уподобление голоса и «музыкального звука», когда в качестве примеров грубого и мягкого голоса он приводит… вой трубы и мифическую скорбную лебединую песнь.
Итак, всякий звук, который слушается долго, становится голосом. Звуки говорят.
У Дёблина Калипсо говорит: «Когда, устав, я вижу сон, а руки мои играют с камнями как с мелкими животными, чтобы звенели они и откликались, я испытываю несказанную потребность спросить: “Чего хотите вы, маленькая труппа?“»52
Этот анимизм шумов возникает, вероятно, из‐за того, что лепет ребенка, его вокализация подхватывает все шумы, интериоризирует их, присоединяет к непрерывному внутреннему голосу. «Слушание собственной речи» – процесс, сопровождающийся «зашумлением», а потому и подражательным процессом «слушания собственного шума», в котором ребенок интериоризирует шумы и преобразует их.
В таком случае не может быть абсолютного различения, четкой границы между «слышать» и «слышать себя». Не склонен ли ребенок, которым мы когда-то были и который подражал шумам, слышать в любом шуме, достигающем его ушей, подражание, вокализацию, которую он мысленно образует?
3. Слово и звук: ономатопея
3.1. Пульсирующее исчезновениеВместе с языком, рожденным из «убийства вещи», служащим обману и сублимации отсутствия, звук и зачастую слово становится тем «пустым сосудом», «вибрирующим исчезновением», о котором часто говорит Малларме, например, в своем предисловии к «Трактату о слове» Рене Гиля: «Я говорю цветок! И, вне забвенья, куда относит голос мой любые очертания вещей, поднимается, благовонная, силою музыки, сама идея, незнакомые доселе лепестки, но та, какой ни в одном нет букете»53.
Богатые рифмы, которые так любит Малларме, особенно в своих произведениях, написанных по случаю, и которые, сближаясь с игрой слов, занимают два, а то и три слога – рифмуя, к примеру, théière (чайник) с métayère (хуторянка), а se régale (наслаждается) с saveur égale (равный вкус), – подчеркивают пустоту в звуковом означающем, тщетное и насыщающее удовольствие от повторения того или иного звука в виде эха, позволяющего таким образом обмануть отсутствие.
3.2. Ономатопеи, язык и слушаниеОтношения голоса и звука поднимают также вопрос ономатопеи и того, в какой мере язык, который каждый из нас выучил, а также его специфический набор подражательных слов, заставляют нас определенным образом слышать одни и те же более или менее интернациональные звуки.
Некоторые можно назвать универсальными: это лай собаки, мяуканье кошки, некоторые органические или естественные шумы, например, шум дождя, падающего на гравий или кальку, пусть даже не везде дождь падает с одной и той же силой, на одну и ту же почву или материал, и, конечно, звуки, связанные с определенным оборудованием или современными транспортными средствами, продающимися по всему свету, или же с общедоступными трансляциями, в частности с американскими сериалами.
Но слушание этих универсальных звуков определяется культурой, и не только из‐за собственно культуры каждой страны, которая отдает приоритет одним чувствам, превращая их в предмет поэзии, музыкального подражания и т. д., и игнорирует другие, но также и по причине ономатопей, которые обозначают определенные звуки, заставляя слушать их иначе, чем остальные.
3.3. Ономатопоэтические характеристики языка; кратилизмНапример, во французском низкий и высокий тон выражается за счет закрытых и открытых гласных, отсюда различие между clic (звяканьем) и clac (хлопаньем), tic и tac, plic и ploc (кап-кап).
Носовые звуки выражают резонанс и разные его варианты, более низкие или более высокие: ding как высокий звон и dong как более низкий – как в балладе о дуэли в «Сирано де Бержераке» Ростана.
В то же время бедность французского языка дифтонгами дает ему меньше, чем английскому, возможностей выражать непрерывные тонкие вариации: ономатопея miaou («мяу»), подражающая кошке, выглядит более однозначной, более стилизованной и менее развернутой, чем английские meow или miaow.
С другой стороны, склонность английского к односложности позволяет ему образовывать намного больше слов, близких к ономатопее, так что разрыв между ономатопеей и словом не настолько радикален, как во французском. В нем много таких глаголов, как splash (выплескиваться), crack (хрустеть), hiss (шипеть, свистеть), fizz (потрескивать) и т. д., отличающихся непосредственно ономатопоэтическими качеством и применением. Французское bourdonnement (гудение) – слово более длинное и абстрактное, чем английское buzzing, и то же самое можно сказать о craquement (хруст) в сравнении с crunching.
Феномен ономатопеи заставил некоторых авторов (одним из самых известных среди них был Шарль Нодье, автор «Словаря ономатопей») прийти к так называемому кратилизму – имеется в виду платоновский диалог «Кратил», в котором рассматривается этот вопрос. Речь идет о весьма стойкой теории, которая желает видеть в слове звукоподражание, непосредственно связанное с обозначаемым им понятием или вещью. Мы неслучайно отметили стойкость этой теории, ведь она упрямо сопротивляется всем урокам лингвистики, не признавая соссюровский постулат о произвольности языкового знака, а также все те ее опровержения, которые следуют из многочисленных исключений. Едва ли не все поэты и многие писатели в той или иной степени являются «кратилистами». Уже упомянутый Шарль Нодье, Поль Клодель, Джеймс Джойс, Мишель Лейрис, итальянские поэты-футуристы, а нередко и Малларме, например, открыто пишущий о досаде, которую он ощущает из‐за того, что французский язык не кратилистский: «Чувства мои <…> досадуют, что не в силах речь передать предметы теми, окраской либо повадкой им отвечающими, касаниями клавиш, какие в голосовом инструменте существуют в разных языках, а бывает, и у одного человека. Рядом с непроглядностью сумрака едва сгущается тьма; и – разочарование: извращенной волей наделены утро и закат, первое – звучанием темным, и, напротив, второй – светлым»54.
У того же Малларме небезынтересно почитать удивительный школьный учебник под названием «Английские слова», в котором наш поэт-преподаватель еще более откровенно увлекается кратиловскими идеями, связывая все слова с d или с t с определенными семействами смыслов и ассоциаций, созданных звучаниям этих согласных.
Жерар Женетт в одной из глав своих «Мимологик» («Путешествие в Кратилию»)55 перечисляет различные варианты этой традиции. Напомним, что кратилизм часто работает на двух разных уровнях – письменной речи и устной, то есть буква рассматривается в качестве визуального подражания тому, что обрисовывает слово, а звук – в качестве звукоподражания, причем два уровня связаны принципом письма, называемого (возможно, ошибочно) фонетическим.
Мечта об универсальности подражательных значений не забыта и в наши дни: например, работы Ивана Фонадьи, такие как «Дух голосов» 1983 года, посвященный вопросу о «психофонетике», показывают неистребимость этой идеи. Автор, в частности, пытается выделить универсальные константы: апикальный раскатистый r, по его мнению, всегда оказывается мужским, а l – женским56.
Это древний пример, поскольку он обнаруживается не где-нибудь, а в самом «Кратиле», где Сократ (во всяком случае тот, что выведен у Платона), согласившись со своим собеседником, что r в чем-то похоже на движение, грубость и перемену места, тогда как l связывается с чем-то «вежливым» и «мягким» (подтверждая, таким образом, древность архетипов, открытых Фонадьи), предлагает нам хитрый пример прилагательного sklēros, означающего «жесткий», хотя в нем и встречается пресловутая l. Сократ, признающий противоречие, а потому дающий уклончивый ответ, делает вывод вполне в духе Шеффера: «Мне и самому нравится, чтобы имена по возможности были подобны вещам <…>, но <…> необходимо воспользоваться и этим досадным способом – договором – ради правильности имен»57. Иначе говоря, часто решает именно узус.
Якобсон в своих «Шести лекциях»58 также напоминает о том, что оппозиция «l – r» отсутствует в корейском (и японском) языке. Что же тогда сказать о всеобщности оппозиции мужского и женского?
Как и со многими вещами, касающимися звука, здесь мы оказываемся в промежуточном пространстве, в своего рода колебании, но вместо того, чтобы вывести из него ленивый релятивизм, попробуем понять, с какой точностью функционирует это колебание и на что оно указывает.
Глава 5
ШУМ И МУЗЫКА: ОБОСНОВАННОЕ РАЗЛИЧИЕ?
1. Обособлена ли музыка от других звуков?
1.1. Музыка и математика, мифическое уподоблениеВ письме Гольбаху от 17 апреля 1712 года Лейбниц пишет: «Musica est exercitium arithmeticae occultum nescientis se numerare animi». Нам нужно вернуться к этой устойчивой идее, утверждающей, что музыкальное ухо слышит математически.
В школе и из учебников по сольфеджио мы узнаем, что это на самом деле так, что ля первой октавы эталонируется, по крайней мере в официальном диапазоне 1953 года, частотой в 440 Гц, тогда как ля второй октавы (которая звучит октавой выше) обладает частотой в два раза выше – 880 Гц. Точно так же интервал, воспринимаемый в качестве «чистой квинты», как он называется в западной терминологии, соответствует в плане частот математическому отношению 2/3. Говоря конкретнее, струна, которая короче в два раза, вибрирует октавой выше, а звук в другой октаве кажется нашему уху «тем же» звуком, хотя и перенесенным в другой регистр (при пении каждый самопроизвольно выбирает свой регистр и транспонирует в октаву, соответствующую его голосу, чтобы петь в унисон).
Именно эта подчиняющаяся логарифмическому закону «чудесная встреча» качественного восприятия точных интервалов ухом и физической длины струн или труб, соответствующей частотам, подчиняющимся простым математическими отношениям, часто заставляла представлять музыку в качестве перекрестка физического мира, или космоса, и чувственного мира. Процитированная выше в ее латинском оригинале формула Лейбница утверждает, что «музыка – это скрытое упражнение в арифметике, в каковом разум не знает, что считает».
В этой хорошо известной формуле нас поражают слова «скрытое» и «не знает». Перестает ли музыка быть подобным упражнением, если разум знает и если такая арифметика перестает быть бессознательной?
Действительно, мы воспринимаем не числа, а «эффект» чисел, не разницы в длинах вибрирующих струн или труб, а «эффект» (опять же в кавычках) этих разниц. То есть происходит перенос количественных отношений на отношения качественные, но этот перенос математических или арифметических свойств не означает их полного сохранения. Мы воспринимаем интервалы, между которыми существует отношение порядка в математическом смысле (ре находится между до и ми), то есть интервалы, измеряемые в откалиброванных единицах (полутонах и тонах, объединенных темперированной гаммой), но не абсолютные отношения: никто не слышит октаву, которая равна пространству шести тонов, в качестве двойного тритона (интервала в три тона, например между до и фа диез), а большую терцию (два тона) – в качестве двойного тона, то есть они слышатся просто в качестве больших интервалов.
Но все это относится лишь к тональным звукам (см. далее), то есть речь идет о значительной, но в количественном отношении все же меньшей части звукового мира. Тогда как звуки с комплексной массой не принимаются во внимание. И если живопись (как фигуративная, так и нефигуративная59) допускает все формы и не сводится к сочетанию простых форм, то, возможно, музыка, искусство звуков – это такая игра конструирования, которая допускает лишь кубы и сферы?
1.2. Шум, музыка: абсолютное различиеВ большей части традиционных музыкальных систем предпочтение в действительности отдается звукам, обладающим точной высотой, которая может быть определена ухом и абстрагирована от звука, то есть тем звукам, которые Пьер Шеффер в своем «Трактате о музыкальных объектах» называет «тональными». Но это предпочтение мы связываем не с тем, что они, так сказать, «приятнее», а с их заметностью. Похоже, что в силу самого способа функционирования нашего уха, а не благодаря своей физической специфике, они способны выделяться на фоне всех остальных звуков, которые Шеффер называет «сложными» и которые, хотя они и могут обладать точными и строго прописанными сенсорными качествами, не обладают при этом точной высотой. По этой причине они обычно исключаются, вытесняются на периферию или же ограничиваются ролью «пряности», «приправы», а потому в значительной части традиционных музыкальных систем (и не только западных) называются шумами.
С акустической точки зрения, на уровне элементов, то есть отдельных звуков, не существует, конечно же, столь четкого разрыва в континууме, который бы строго разделял три области, обычно называемые речью, музыкой и шумом.
Если «музыкальный» звук определяется как «звук с точной высотой», как все еще пишут в учебниках, тогда нота жабы, сигнал трамвая или же гудение неоновой лампы должны восприниматься в качестве музыкального звука, но этого не происходит. И наоборот, звуки ударных, очень высокие или очень низкие ноты инструментов в музыкальных партитурах должны слышаться в качестве немузыкальных, что тоже не соответствует истине.
Конечно, традиционная музыка в основном использует тональные звуки, но они признаются музыкой в силу того, как они связываются друг с другом, а также в силу официального признания их музыкальности. Доказывается это тем, что при помощи современных техник можно легко превратить в мелодию лай собаки, транспонировав его по разным ступеням лада (поскольку в отдельных его фрагментах имеется явная «тональность»), но это не будет восприниматься как музыка. Слушатель просто улыбнется или даже возмутится. Но хотя он и имеет дело с мелодией, имеющей все «официальные» черты, указывающие на нее как на музыку в ее предельно консервативном понимании (регулярный ритм, опознаваемая мелодия…), он сочтет это провокацией или розыгрышем, поскольку собака не является конвенциональным инструментальным источником.
Оценка шума в качестве шума и музыки в качестве музыки зависит, следовательно, от культурного и индивидуального контекста, то есть она связана не с природой элементов, а с признанием источника в качестве «музыкального», а также с восприятием особого порядка или беспорядка среди звуков. Два этих критерия совершенно независимы друг от друга, но кажется, что обычному вкусу нужно, чтобы выполнялись оба.
Конечно, как мы уже видели и еще увидим, существует звуковой континуум, в котором на уровне стихии речь, шум и музыка принадлежат одному и тому же миру. Но наше прослушивание всегда дисконтинуально, оно «лавирует» между совершенно разными уровнями (каузальное слушание, кодовое, редуцирующее, языковое, эстетическое и т. д.).
Конвенциональное трехчастное деление на речь, шумы и музыку утверждается телевидением, видеоиграми и кино. Причем на уровне не только концепции произведений и их технической реализации, но также их анализа, что показывают все исследовательские работы, основное внимание в которых уделяется диалогам, закадровым голосам и «киномузыке». А при перезаписи фильмов музыка, шумы и речь разносятся по разным дорожкам. Но так ли уж важно это различие для анализа кино, и не лучше ли заменить его такой классификацией и сближением звуков, которые бы основались на их собственной форме (точечные звуки, длительные, прерывистые, тональные или сложные, пульсирующие или нет, и т. д.) и на их собственной материи (зернистость, материальные звуковые индексы, аллюр и т. д.)?
Мы утверждаем, что нужно и то и другое: признать трехчастное деление в качестве факта и рассматривать каждый элемент на уровне его собственной организации (а не притворяться, что мы отказываемся слушать диалоги как язык, а музыку – как мелодию и ритм), но в то же время уметь слышать и признавать во всех элементах одно и то же «звучание». То есть уметь слышать то, что удар, звуковая точка, будь то пиццикато виолончели, хлопанье дверью или резкое восклицание, выполняет специфическую функцию в общей темпоральной организации. Или что в фильме, независимо от эстетических категорий, бледное или дрожащее звучание определенной темы в музыкальной партитуре заставляет ее перекликаться с «шумами», относящимися к пространству диегезиса. Именно это мы называем редуцирующим слушанием, о котором будем говорить далее.
2. Что такое шум?
На вопрос «Что такое шум (bruit)?», заданный на французском языке, можно ответить, как и на вопрос о «звуке» (son), что это существительное мужского рода. В нашем языке это существительное указывает на ряд понятий, которые не обязательно точно соотносятся друг с другом, к тому же разные их определения не до конца выверены.
2.1. Слово «шум» в разных языкахУ каждого языка в этом отношении своя специфика. Например, во французском слово «звук» (son) редко используется в повседневной жизни для обозначения немузыкального или невокального звука, поскольку в таких случаях употребляются слово «шум» (bruit), неизменно имеющее пейоративные коннотации. Во Франции чаще говорят о «шуме шагов» (bruit de pas), чем о звуке шагов (son de pas), тогда как в английском языке слово «звук» (sound) применимо в бытовом языке как к шагам, так и к музыке (характерно, что в английском шумы в кино называются «звуковыми эффектами», sound effects).
Во французском «шуметь» (faire du bruit) – синоним для «мешать», «надоедать». «Не шуми» (Ne faites pas de bruit) – вот что можно сказать французскому ребенку, тогда как в английском есть более позитивное выражение Be quiet («Будь тихим»). С другой стороны, слово «шум» (noise) в английском закреплено за паразитическими звуками и фоновыми шумами (то есть в технике звукозаписи это то, что нужно устранить), а также за акустическим значением слова «шум».

