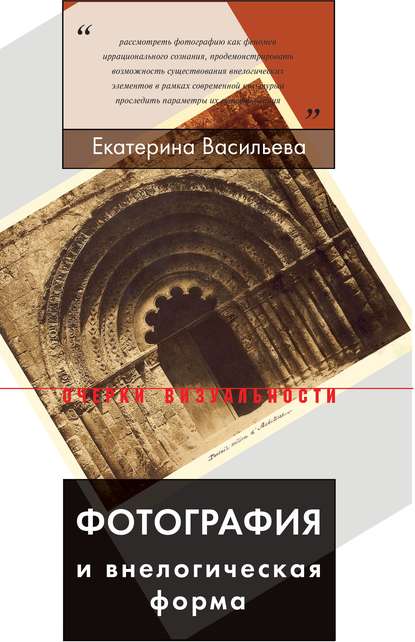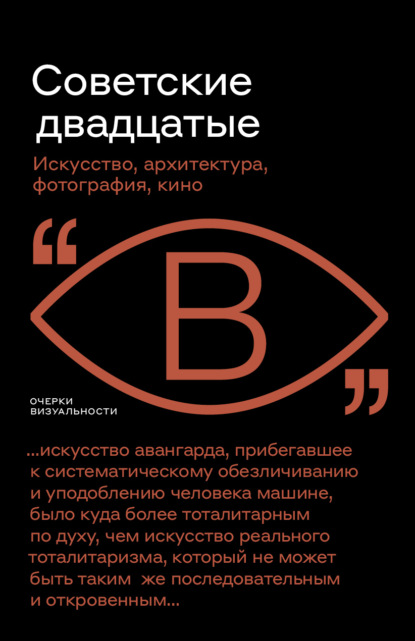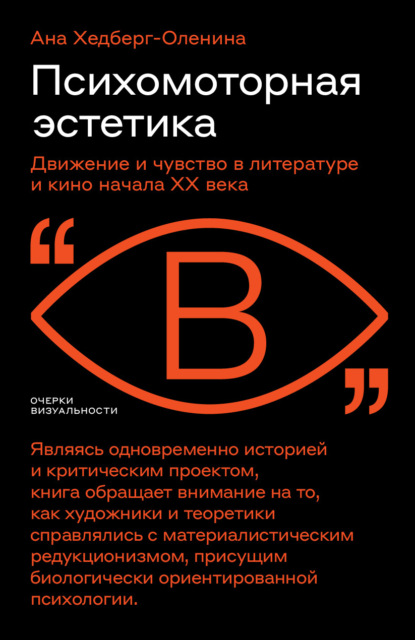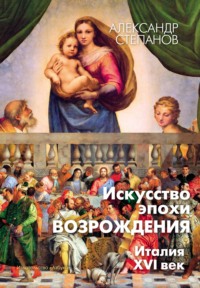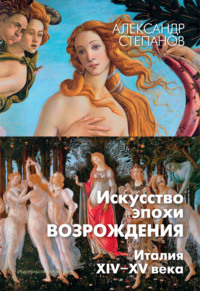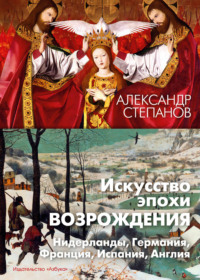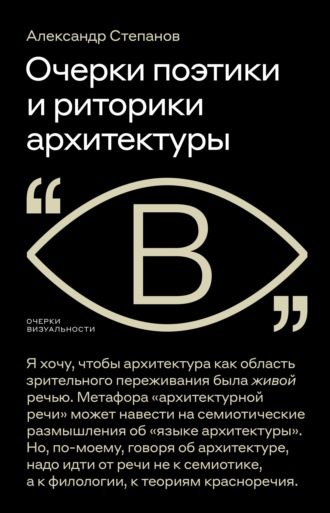
Полная версия
Очерки поэтики и риторики архитектуры
Видя изображение, иллюстрирующее некое событие, мы научены думать, что намерения и усилия художника были сосредоточены именно на иллюстративной задаче. И вот мы таращимся на спиральный фриз Траяновой колонны, но, устав от попыток разобраться в нем, разочарованно критикуем его создателей, которые дразнили наглядной историей походов Траяна своих современников, в чьих руках не было ни биноклей, ни высококачественных репродукций. Заменив неудобовоспринимаемый оригинал специально отснятыми фотографиями, мы воображаем, что тем самым компенсируем ошибку Аполлодора Дамасского и работавших с ним скульпторов.
Но, по-видимому, ближе к их намерениям другой вгляд на предназначение рельефа Траяновой колонны, согласно которому исходной задачей скульпторов было окантовать колонну спиралью, а уж затем наполнить ее витки такими изображениями, которые побуждали бы зрителя следовать этой спирали. «Подобно скульптору гробницы Эврисака, мастер колонны Траяна обратился к визуальному повествованию о деяниях усопшего, чтобы вовлечь зрителя в воображаемое участие в изображенных сценах, тем самым принуждая его увековечивать память о Траяне. Однако он использовал спиральный рельеф, чтобы инспирировать движение в определенном направлении, точно так, как изображение процессий на таких памятниках, как Алтарь Мира227, ведет зрителя по предначертанному пути. Иначе говоря, он надеялся, что, соблазнив зрителя следовать повествованию, он подтолкнет его совершать круги вокруг колонны. Когда мы помещаем ее в контекст других императорских гробниц [круглых мавзолеев Августа и Адриана. – А. С.], манипулятивный мотив спирального фриза становится ясен: подобно кольцевым коридорам в круглых мавзолеях, фриз побуждает посетителя идти вокруг сакрализованного погребения, приобщая его к месту упокоения и, возобновляя ритуалы, совершавшиеся при погребении императора, увековечивать их»228.
Чем же оправдано применение такого же приема изобразительного повествования на колонне Марка Аврелия и на Вандомской колонне, в основании которых нет погребений? Там мы имеем дело с художественной формой, чей первоначальный магический смысл, побуждавший человека к ритуальному поведению или хотя бы к воспоминанию о древнем обряде, вытеснен триумфальным смыслом, повышающим жизненный тонус зрителей, но не побуждающим их к каким-либо ритуальным действиям. Ведь и Траян до конца жизни маскировал желание увековечить свое имя якобы чисто триумфальным, государственно-пропагандистским смыслом колонны. Это не значит, что рельефы колонн, подражающих Траяновой, легче воспринимать. Они столь же неразборчивы. Но носителем триумфального смысла являются не изображенные на них сцены каких-то конкретных побед, а сама по себе обернутая рельефным свитком колонна как символическая форма, как знак триумфа персоны, статуя которой стоит на ее вершине.
Две «траяновы» колонны – «Постоянство» и «Мощь», – поставленные Фишером фон Эрлахом перед фасадом венской Карлскирхе, амбивалентны, как и их образец. В них справедливо видят триумфальные жесты во славу возрожденного Габсбургами величия Римской империи. Но они связаны и с темой смерти, ибо Карлскирхе сооружена во исполнение обета, данного Карлом VI в 1713 году его небесному покровителю, св. Карло Борромео, снизошедшему к мольбам императора и чудесным образом прекратившего эпидемию чумы, унесшей десятки тысяч жизней. Спиральные рельефы, обвивающие стволы колонн, изображают сцены из жизни св. Карло Борромео.
Двойная семантика и у дорической колонны, сооруженной на острове Пут-ен-Бэй в западной части озера Эри в 1912–1915 годах по проекту нью-йоркского архитектора Джозефа Фрилендера в ознаменование столетнего юбилея победы американской эскадры под командованием коммодора Оливера Перри над эскадрой англичан и их союзников и последовавшего затем мирного договора между Британией, Канадой и Соединенными Штатами. Она до сих пор остается самой высокой в мире. Одетый в серый гранит бетонный великан высотой сто семь метров имеет двойное посвящение: «Мемориал победы Перри и Международного мира». Суровая мощь колонны, огромная бронзовая чаша-светильник, установленная наверху как бы для жертвенного огня, выражают ее мемориальное назначение: под полом ротонды в ее основании захоронены останки трех американских и трех английских морских офицеров, погибших в бою в 1812 году. Если бы я приписывал этой колонне магическую силу менгира и хотел внести раздор в англосаксонский мир, я должен был бы мечтать о ее разрушении.
Тадж-Махал
В 1631 году умерла при родах своего четырнадцатого ребенка Мумтаз – главная жена Шах-Джахана I, падишаха империи Бабуридов. В память о ней падишах приступил к возведению в своей столице Агре усыпальницы Тадж-Махал, строительство которой заняло около пятнадцати лет. Впоследствии в ней похоронили и самого Шах-Джахана. Автором проекта принято считать архитектора таджико-персидского происхождения Устада Ахмада Лахаури, но, может быть, он был только старшим среди зодчих, воплощавших концепцию своего господина.
Я не могу привыкнуть к тому, что Тадж-Махал – мавзолей, а не дворец. Возникает ли такое впечатление по ошибке или Шах-Джахан хотел, чтобы мавзолей казался дворцом? На этот вопрос у меня не было ответа, пока не попалось на глаза описание Таджа, сочиненное придворным поэтом падишаха персом Абу Талибом Калимом Хамадани. Он восхваляет величавость, прочность, высоту здания и – называет его «дворцом»!229 Значит, я правильно чувствую намерение супруга Мумтаз: мавзолей должен казаться дворцом.
Но что это за дворец? Судя по кораническим изречениям, выложенным мозаикой в мавзолее и на Больших воротах сада, расстилающегося перед ним, весь комплекс замышлялся как земное подобие рая230. Почему бы в раю не быть прекрасным постройкам? Разве не достойна главная жена падишаха иметь дом в раю, где ей суждено спустя тридцать пять лет после ухода из земной жизни вновь встретить своего задержавшегося на земле супруга?
Какие же элементы дворцовой поэтики использовали в своей архитектурной риторике создатели Тадж-Махала?
Усыпальница обращена фасадом в квадратный, строго ориентированный по сторонам света, огражденный стеной сад, регулярности которого позавидовал бы Ленотр. В центре сада пересекаются под прямым углом два канала, образующие квадратный водоем – «образ водоема Каусар (Обильный), откуда, согласно мусульманским преданиям, вытекают четыре райские реки»231. Тадж – не одинокое здание, каким, казалось бы, надлежало быть мавзолею, а комплекс, в котором беломраморный дворец главенствует над построенными из красного песчаника мечетью (поныне действующей) слева и точно такого же вида гостевым домом справа. В сторону сада гостеприимно открыт величественный портал-айван с огромным проемом входа. По сторонам от айвана и на углах здания – два яруса просторных лоджий, в которых, мнится, вот-вот появятся фигуры царедворцев. За оградой сада располагалось в огромном, триста на девятьсот метров, квартале, обнесенном общей стеной, все необходимое для смотрителей Таджа: базар, караван-сарай, водопровод, мечети… Снова вспоминаю Версаль.
Не будучи специалистом по истории Индии, невозможно занять обоснованную позицию в полемике, спровоцированной полвека тому назад книгой Пурушоттама Нагеша Оука «Тадж-Махал – индуистский дворец». Оук пытался доказать, что Тадж-Махал – не мавзолей, кажущийся дворцом, а дворец на самом деле, изначально232. Остаюсь при своей исходной догадке: Тадж как постройка – мавзолей, но как произведение архитектуры – дворец. Ссылаюсь на авторитет Эббы Кох – крупнейшего современного специалиста по этой теме: Тадж – «земная копия райского дома Мумтаз»233. Если так, то у нас есть уникальная возможность заочного посещения индо-мусульманского рая.
Абу Талиб Калим недаром писал, что «С тех пор как возводился небосвод, / Не поднималось здание, подобное этому, / Чтобы соперничать с небом». Беломраморный купол дворца Мумтаз, достигающий в высоту шестидесяти восьми метров, был виден в Агре отовсюду. Его и сейчас можно видеть издалека из многих районов города – особенно с реки Джамны, на излучине которой он стоит, и с ее противоположного берега, где есть специально оборудованные видовые точки для созерцания Таджа.
Чтобы как можно полнее пережить путешествие в рай Мумтаз, вообразим себя в Агре XVII столетия – городе дворцов могольской аристократии, владельцы которых сооружали в дворцовых садах мавзолеи, потому что только при наличии надгробия недвижимость после смерти хозяина не переходила в собственность государства234. Сколь бы ни были роскошны эти мавзолеи, их прагматическое происхождение и относительно скромные размеры не шли ни в какое сравнение с дворцом Мумтаз. Разница между земным и райским бытием была очевидна.
Мы могли войти на территорию Тадж-Махала через Южные ворота, расположенные на общей оси симметрии ансамбля. Следовательно, надолго теряли дворец Мумтаз из виду, потому что вдали на оси нашего пути его беломраморный купол заслоняют Большие ворота сада. Это позволяло нам погрузиться в суматоху базара. В торговых рядах по сторонам – шелка, благовония… Минуем базарную площадь, на диагоналях которой высятся ворота четырех караван-сараев. В наши дни от этого земного преддверия райских владений Мумтаз остались разве что ворота северо-восточного караван-сарая, да и те в жалком состоянии. Современная хаотическая, грязная, суетливая Агра поглотила трущобами и лавками целую треть ансамбля Тадж-Махала вплоть до ограды Переднего двора, в воротах которого нынче торгуют «могольской» мозаикой. Контраст между землей и раем переживается в наше время еще острее, чем при Шах-Джахане.
Сохранившаяся поныне часть Тадж-Махала начинается в Переднем дворе, который, в отличие от устремленной вдаль базарной улицы, простирается поперек нашего пути. В полутораста шагах впереди – Большие ворота сада. Периметр двора обегают галереи. Оглядываясь по сторонам, видим усыпальницы предшественниц Мумтаз, в многократном уменьшении предваряющие структуру главного комплекса: регулярный садик, за которым стоит на платформе восьмигранная башенка. На поперечную ось Переднего двора выходят жилища смотрителей Таджа и лавки.
Входим в айван Больших ворот – двухэтажного павильона сорока метров в ширину и тридцати пяти в глубину, построенного из красного песчаника. Это традиционный цвет индийских воинов и владык235. Углы павильона отмечены дозорными башенками. Их шлемовидные навершия с острыми шишаками выглядят воинственно: они несут почетный караул на границе между землей и раем. Над айваном выведены инкрустацией заключительные аяты из 89‐й сутры Корана «Заря»: «О ты, душа упокоившаяся! Вернись к твоему Господу довольной и снискавшей довольство! Войди с Моими рабами. Войди в Мой рай!»236
Четырехсот шагов от Больших ворот до мавзолея недостаточно, чтобы держать в поле зрения сам мавзолей, мечеть и гостевой дом. Мавзолей можно видеть в паре либо с мечетью, либо с гостевым домом. Но, в отличие от нынешнего вида, они были в значительной степени скрыты кронами деревьев, а платформа под ними не была видна вовсе. Партеры сада окаймлены широкими аллеями, укрытыми кронами деревьев. Под их сенью дворца снова не видно. Розы, маки, ноготки, гвоздики, апельсиновые, фиговые и манговые деревья, яблони, шелковица, журчание прохладных струй фонтанов – все это, соблазняя глаза, обоняние, вкус, слух и осязание, отвлекает нас от целенаправленного пути. Канал подводит к райскому бассейну. Павильоны, пристроенные к обрамляющей ансамбль стене в торцах поперечного канала, манят под свои навесы.
Даже в саду237 чувствуется почти непреодолимая дистанция, отделяющая простых смертных от средоточия рая – усыпальницы Мумтаз. Ибо благодаря белизне полупрозрачного мрамора, узорчатой резьбе и чуть ли не ювелирным инкрустациям из бирюзы, агата, малахита, сердолика, яшмы, жада, ляпис-лазури и других самоцветов Тадж кажется невесомым, неземным. Купол похож на упругую полость, надуваемую изнутри, – того и гляди он с помощью четырех меньших куполов приподнимет здание над платформой. Впечатлению легкости способствует и колоссальный размер айванов и лоджий, со всех четырех сторон совершенно одинаковых. Глядя на эти широкие и глубокие выемки в стенах, мы непроизвольно воспринимаем их как «окна», почти не оставляющие места каменному массиву стен. Воображаешь внутри легкий каркас и грандиозной величины помещения… если бы не смущали крохотные дверные проемы, темнеющие в глубине выемок.
Оказываясь внутри, осознаешь, как ловко зодчие Тадж-Махала обманывают и наше зрение, и чувство тяжести. На самом деле каменной массы в нем едва ли не больше, чем пустот. Конструкция Таджа, очень красивая в комбинаторно-геометрическом смысле, примитивна в инженерном. Представьте себе очень длинный блок высотой двадцать и толщиной восемь метров. Нарезаем из него двадцать четыре вертикальных призмы, то бишь столба, с весьма сложными очертаниями оснований. Понадобится всего лишь три типа призм: восемь самых массивных – тех, которые встанут по сторонам от айванов; восемь самых тонких – угловых, которыми будут разгорожены лоджии; средней массивности – тех, что встанут вокруг центрального зала. Начертив квадрат 57 на 57 метров, расставляем в нем призмы так, чтобы в углах квадрата получилось четыре одинаковых группы по шесть призм в каждой с октогональной полостью восемь на восемь метров в середине каждой группы. Это угловые массивы усыпальницы с малыми залами в двух этажах; над ними ставим малые купола. Между группами остается в центре восьмиугольный зал семнадцать на семнадцать метров. Водружаем над ним большой купол. В целом такая конструкция – чуть ли не монолит с проделанными внутри полостями, ходами, отверстиями. Однако геометрия здания столь изощренна, что при условии полностью распахнутых дверей его можно было бы просматривать насквозь и по осям айванов, и по диагоналям, и по осям, проходящим сквозь боковые лоджии параллельно сторонам исходного квадрата.
Эбба Кох полагает, что в архитектуре Тадж-Махала воплощены на всех уровнях – от целого до деталей – принципы архитектурной эстетики, которых придерживался Шах-Джахан I. Как истинный владыка, выше всего он ставил принцип иерархического построения. Второй принцип – геометризм плана. Третий – симметрия, символизирующая идею универсальной гармонии, важную для имперской идеологии Шах-Джахана. Четвертый – пропорциональные отношения, которыми связаны триадические членения архитектурных форм. Пятый – взаимное подобие форм. Шестой – чувственность декоративных деталей. Седьмой – использование натуралистичных мотивов в декоре, в том числе образцов западноевропейских цветочных орнаментов. Восьмой – пронизывающая весь ансамбль символика238.
Мавзолей Ленина
На семи гранитных ступенях стоит небольшой квадратный павильон с пятью сквозными пролетами между прямоугольными столбами. Мавзолей на Красной площади в Москве похож на зиккурат. При взгляде на это здание из глубин памяти могут всплыть воспоминания о слышанных когда-то мифах и легендах, выражавших извечный ужас людей перед подземным миром и их устремление к небу, о богах, спускавшихся в храмы на вершины зиккуратов, об обычаях оставлять трупы на башнях на добычу стервятникам. Красный с черным торжественный силуэт способен внушить благоговение даже ничего не знающему об этой постройке путешественнику, случайно забредшему на площадь. О мистической архаике мавзолея с отвращением вспоминал Троцкий: «Отношение к Ленину, как к революционному вождю, было подменено отношением к нему, как к главе церковной иерархии. На Красной площади воздвигнут был, при моих протестах, недостойный и оскорбительный для революционного сознания мавзолей»239. Но можно направить память в другое русло: в 1912 году нью-йоркский архитектор Джон Рассел Поуп подал на конкурс проект монумента Аврааму Линкольну для возведения в Потомакском парке в Вашингтоне – восьмиярусный зиккурат с павильоном наверху, увенчанным статуей Линкольна. Из этого не следует, что Щусев240 – плагиатор. Одни и те же идеи приходят в головы архитекторов по обе стороны океана, независимо от политических убеждений.
Кроме коротких часов, когда «утро красит нежным светом стены древнего Кремля», на всю трехсоттридцатиметровую длину Красной площади ложится все ширящаяся тень Кремлевской стены, из‐за которой площадь кажется еще длиннее. В старину ее темная сторона с захламленным Алевизовым рвом под облупившейся стеной так отвращала публику, что двухэтажные каменные торговые лавки, поставленные при Екатерине II вдоль рва от Спасских до Никольских ворот, пришлось разобрать: торговля там не шла. Хотя в 1802 году ров на этом участке засыпали, после изгнания французов Верхние ряды отстроили уже на нынешнем месте. Преимущества восточной части площади были очевидны: Китай-город обеспечивал торговым рядам оживленность, солнце не уходило отсюда на протяжении большей части дня. Где еще было ставить памятник Минину и Пожарскому, как не у входа в Верхние ряды? Он расчленил унылую протяженность восточного, но не западного фасада площади. Когда в 1909 году прежний трамвайный путь был перемещен к Кремлевской стене, сторонники этого варианта возрадовались: «Красная площадь много выигрывает в своем виде от того, что вагоны проходят по ней стороной»241 [курсив мой. – А. С.]. Такова была ситуация к моменту, когда на стороне встал Мавзолей.
Утверждение Щусева, что Мавзолей «вошел в исторически сложившийся ансамбль Красной площади как новая, ведущая архитектурная доминанта»242, – не пустая похвальба. Мавзолей действительно преобразил характер площади.
Что удержало Щусева от проекта высотной доминанты? Вероятнее всего – нежелание включать Мавзолей в соревнование с семидесятиметровой Спасской башней. Выбрав для него высоту чуть ниже оснований зубцов Кремлевской стены, архитектор использовал ее обширную плоскость в качестве спокойного фона для мощного выступа, состоящего из прямых линий и углов. Двадцати четырех метров в длину и двенадцати в высоту достаточно, чтобы здание Щусева стало гораздо более заметной вехой для взгляда, брошенного вдаль, чем памятник Мартоса. Выступ у Кремлевской стены усилил самое стену и укоротил площадь, в которой появились две половины: до и после Мавзолея. В перспективе от Васильевского спуска вырисовывается высвечиваемый солнцем ступенчатый треугольник, разбивающий однообразно-темную массу стены. Зеркально отполированные плоскости вступают во взаимосвязь с окружением или вдруг вспыхивают бликом в глазах прохожего, придавая Мавзолею характер драгоценности, помещенной на матовый фон. Эти пластические, световые, цветовые события переместили центр притяжения внимания с Верхних рядов (ослабленных переносом памятника Мартоса к храму Василия Блаженного) на Кремлевскую стену.
Сужающимся вверх силуэтом Мавзолей на свой лад подражает вертикалям кремлевских башен, храма Василия Блаженного, Исторического музея, Верхних рядов. При взгляде от Верхних рядов его силуэт накладывается на Сенатскую башню так, что она кажется вырастающей из него, благодаря чему ее верхние ярусы сообщают ему устремленную ввысь энергию. Но можно воспринимать Мавзолей и как выход Кремля за собственную границу. Возникла ось между входами в ГУМ и в Мавзолей, на восточном полюсе которой человек погружается в потребительскую озабоченность, а на западном чувствует причастность к ритуальным основам общественной жизни.
Квазирелигиозную сублимацию ощущает в той или иной степени всякий, кто видит Мавзолей Ленина. Таков эффект архитектурной риторики Алексея Щусева, угадавшего, какой именно образ надгробия вождя нужен массам. Этот образ он смело противопоставил реальному назначению постройки – быть склепом с подземельем для трупа Ленина и трибуной для коммунистического руководства страны в дни всенародных празднеств. Ведь ни в той, ни в другой из этих функций нет ничего, что требовало бы формы, созданной архитектором.
Кладбище Сан-Катальдо
«В 1945 году, сразу после окончания Второй мировой войны, Жорж Батай опубликовал книгу Le Bleu du Ciel, что переводится как „Небесная синь“… На самом деле эта книга была написана еще в мае 1935 года. Ее сюжет, который разворачивается во время всеобщей забастовки в Испании и подъема нацизма, – это метафора безнадежности левой идеологии перед лицом грядущей мировой войны, и одна из центральных ее метафор – некрофилия. Поэтому, наверно, неслучайно конкурсный проект кладбища Сан-Катальдо в Модене Альдо Росси был назван „Небесная синь“ (The Blue of the Sky)», – пишет Питер Айзенман243.
Муниципалитет Модены провел этот конкурс в 1971 году, потому что стало недостаточно мест на старом кладбище Сан-Катальдо, построенном Чезаре Костой в 1858–1876 годах. Его композиция типична для итальянских некрополей того времени: огороженный стеной прямоугольник со входом посредине длинной стороны (в Модене – южной), напротив – купольная церковь с надгробиями знаменитых граждан, называемая famedio, этакий Пантеон в миниатюре. Вдоль западной стороны этого некрополя тянется небольшое еврейское кладбище, тоже прямоугольное, но немного сдвинутое на север.
Для нового некрополя был отведен большой участок неправильной формы западнее еврейского кладбища. Росси, в отличие от конкурентов, предлагавших по-модернистски асимметричные комплексы, вписал некрополь в прямоугольник размером 175 на 320 метров (сравните с габаритами петербургского Адмиралтейства: 175 на 410), соприкасающийся короткой стороной с еврейским кладбищем и почти симметричный кладбищу Косты. Росси был евреем, поэтому тесную связь с еврейским кладбищем можно понять как антитезу католическому кладбищу Косты.
Строительство по проекту Росси начали в 1976 году, продолжали в начале 80‐х, но с какого-то момента прекратили, и в настоящее время новое кладбище выглядит так, будто работы свернуты, хотя за некоторые очень важные части проекта до сих пор так и не взялись. Суждено ли осуществиться проекту вполне – неизвестно. Росси, которого давно нет в живых (он погиб в автомобильной катастрофе в 1997 году), кажется, не слишком огорчался тому, что строительство шло неторопливо. Недостроенность к лицу его некрополю. В большей степени, чем сама архитектура, незавершенность свидетельствует о том, что жизнь со всей ее нелепостью все еще продолжается. Тем не менее я (как и все, кто писал о кладбище Сан-Катальдо) буду рассматривать его так, будто проект осуществлен.
«Город мертвых», как называл Росси свое произведение, состоит из частей, сгруппированных строго симметрично относительно оси юг – север, заданной двумя большими телами – кубом и усеченным конусом, которые выделяются своей двадцатипятиметровой высотой, густой терракотовой окраской и содержимым: в них хранятся костные останки, тогда как остальные здания некрополя – колумбарии. На эту ось нанизаны, во-первых, обрамляющее весь некрополь и обращенное вовне глухими стенами трехэтажное каре под высокой двускатной цинковой крышей, отражающей небо; во-вторых, такой же высоты, но с плоским покрытием, длинный корпус в виде перевернутой буквы «П», отделяющий куб от конуса; и, в третьих, четырнадцать параллелепипедов, вписанных в довольно узкий равнобедренный треугольник, вершиной которого является конус, а основание идет вдоль П-образного корпуса, так что чем ближе эти корпуса к конусу, тем они короче, при этом их высота понемногу возрастает. По оси симметрии они рассечены низким корпусом, превращающим перевернутую «П» в «Ш», плоскую крышу которого Дженкс назвал «пустой аллеей»244. Стены всех колумбариев розовые.
Между обрамляющим каре и этими зданиями можно насчитать с дюжину деревец, сторонящихся друг друга. Царит пустота, и, кажется, здесь никогда не бывает более двух человек. Пусты, бесфасадны и стены зданий: ни одного профиля, ни одного украшения. С удручающей равномерностью темнеют в бетоне прямоугольные проемы – от земли вертикальные, выше квадратные, – в которых нет ни дверных, ни (в некоторых корпусах) оконных рам. Так выглядел бы макет, выполненный из картона или фанеры в мелком масштабе, не позволявшем воспроизвести тонкие детали, и затем без каких-либо уточнений и дополнений переведенный в натуральный размер, в натуральные материалы. Находясь в гигантском макете, начинаешь сомневаться в реальности собственного существования. Вокруг тебя кубики гигантского детского конструктора, в загадочном стройном порядке разложенные по земле малышом Танатосом. Начерченный Росси план с резкими тенями похож на рельефный иероглиф неразгаданной письменности. Он был бы хорош на стене в галерее ценителя рационального абстракционизма.
«Этот куб – покинутый или недостроенный дом с пустыми окнами, без крыши», – писал Росси в пояснительной записке к проекту245. Бетонные стены куба и длинных корпусов состоят внутри из квадратных или кратных квадрату ячеек. Весь комплекс построен, как из стандартных кубических блоков, из индивидуальных вместилищ человеческих останков. Окна колумбариев поделены крестообразными переплетами на ячейки, равные окружающим их кубикулам для урн: ни на миг не забывая о смерти, ты смотришь на огромный пустой двор с унылой травой, на далекие подслеповатые оконца противоположного корпуса колумбария, на небо…