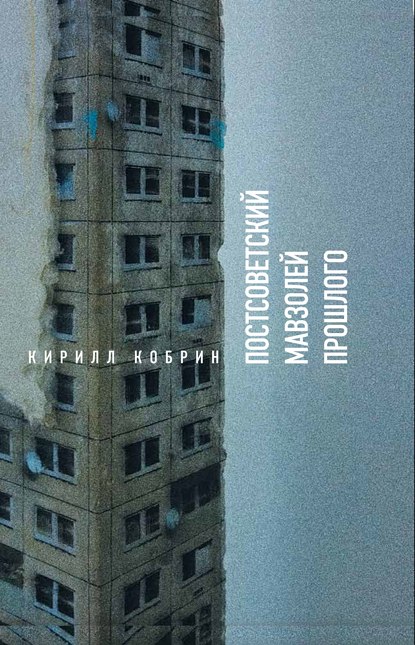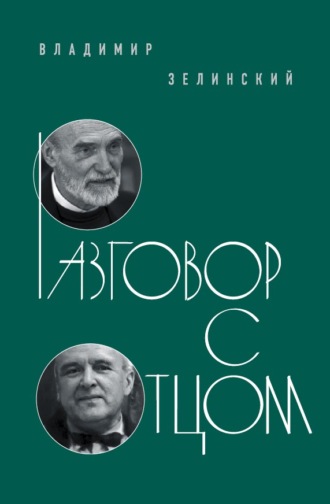
Полная версия
Разговор с отцом

Владимир Зелинский
Разговор с отцом

Предисловие
Это не совсем обычные воспоминания.
Необычны они прежде всего личностью того, кому они посвящены.
В бескрайнем потоке литературных мемуаров прошлого века Корнелий Зелинский упоминается крайне редко и, как правило, без особой приязни.
Репутация – страшная вещь, а литературная – тем более. Словно о ней сказано в известном пассаже из «Гамлета» (в переводе Пастернака).
Бывает, словом, что пустой изъян,В роду ли, свой ли, губит человекаВо мненье всех, будь доблести его,Как милость Божья, чисты и несметны.А все от этой глупой капли зла,И сразу все добро идет насмарку.У этой несимпатичной личности было множество заслуг. Не только перед официозной советской критикой, к которой он принадлежал, а действительных заслуг, которыми могли бы похвастаться не многие из советских критиков.
Редактирование и подготовка к печати сборника Анны Ахматовой в военном Ташкенте. Литературная реабилитация Есенина и Грина. Поддержка Солженицына в довольно трудную для того пору.
Кроме всего, общение со многими крупнейшими фигурами русской культуры прошлого века. Густав Шпет. Илья Сельвинский. Владимир Маяковский. Анна Ахматова. Борис Пастернак. Корней Чуковский. Максим Горький. Марина Цветаева… Со многими из них его связывала многолетняя дружба.
Да и сам он был человеком неординарным.
Философ, выпускник еще старого Московского университета, ученик Шпета и Ильина. Военный журналист на Гражданской войне. В 1920-е – вождь литературного конструктивизма. Да и в последующие годы, став вполне ортодоксальным советским критиком, отличался от большинства прочих коллег. Своей образованностью, интеллектуальным аристократизмом. Мог, например, на каком-нибудь редакционном заседании процитировать Монтеня. Не последнее постановление ЦК партии, и даже не кого-то из революционных демократов – Монтеня!
Ему не прощали того же, что в нем ценили. Образованность, интеллектуальный аристократизм, Монтеня – в сочетании с ортодоксальностью. Не говоря уже о том, что литературных критиков не слишком жалуют во все времена. А во времена, когда «перо приравнили к штыку» (перефразируя Маяковского), – тем более.
Впрочем, о том, кто и что ему не прощал и за что ценил, лучше всего расскажет эта книга.
Незаурядна и фигура автора этих воспоминаний.
Протоиерей Владимир Зелинский известен не меньше своего отца, если не больше. Это иная известность: время иное, все иное.
Даже в их биографиях мне видится какая-то зеркальность.
Корнелий Зелинский по образованию был философом, но стал филологом; Владимир окончил филологический, но известен именно как философ, религиозный мыслитель, автор множества книг и статей по христианству.
Корнелий Зелинский пришел от детской если не религиозности, то причастности вере («…Я любил пасхальные ночи с их песнопениями, звоном и толпой заказных свечек вокруг церквей», как напишет в воспоминаниях) – к атеизму; Владимир Зелинский проделал противоположный путь. Приняв крещение, он вскоре стал одной из заметных фигур в религиозно-диссидентском движении, публиковался в самиздате и тамиздате. «На обыске у меня взяли 9 мешков книг, писем, рукописей…» – вспоминает отец Владимир в одном интервью. Сегодня он настоятель основанного им православного прихода «Всех скорбящих радость» в городе Брешия на севере Италии.
Мы все, впрочем, в чем-то зеркально отображаем наших родителей. И всю жизнь возвращаемся к этому зеркалу, вглядываясь в черты и жесты по ту сторону стекла.
У Корнелия Зелинского было три сына – три единокровных брата. Судьба первого, Кая, трагична – «в 15 лет заболеет туберкулезом, и болезнь сомнет, буквально расплющит его жизнь…» Он доживет до сорока, и Владимир поедет в Питер на его похороны: «…Я увидел его на прозекторском столе после вскрытия. Потом в морге, уже одетым. Был мороз, мать сидела рядом и грела его ледяные руки так, как будто в тот момент это было самое важное. „Смотрите, отогрела, отогрела!“ – повторяла она с улыбкой, и от этой улыбки, почти радостной, брала какая-то оторопь».
Отец Владимир Зелинский – средний; наконец, самый младший, Александр, благодаря усилиям которого происходит возвращение Корнелия Зелинского, публикуются его работы, создан сайт его памяти.
Но вернусь к воспоминаниям, хотя собственно воспоминаниями их назвать сложно: это напряженный диалог с отцом. Попытка понять близкого человека, который во многих смыслах близким не был. И не только в силу семейных обстоятельств (Корнелий Зелинский ушел из семьи, когда Владимир был еще совсем ребенком). «Сын Зелинского» – среди гуманитарной либеральной интеллигенции 1960-х это было почти как каинова печать. Не случайно воспоминания начинаются с того, как из-за этого Владимира Зелинского чуть не провалили на вступительных экзаменах в МГУ.
«Разговор с отцом» перерастает привычные рамки жанра и становится документом эпохи, а в каком-то смысле и надвременным. В них нет осуждения, но это и не попытка оправдать, обелить любым способом. Не отвернуться от «капли зла» (и не одной) в том, о ком вспоминаешь, – но понять, как, каким образом эти черные капли возникали, как рассеивались во всем этом поколении, даже нескольких поколениях, перепаханных революцией и четырьмя последующими десятилетиями. Прежде всего в кругу самого Корнелия Зелинского, среди писателей, поэтов, критиков.
Это опыт понимания и любви. Любви и понимания.
«Я не пишу воспоминаний, которых не так уж у меня и много, но лишь принимаю его наследство, прежде всего, чтобы понять отца в его времени, и, как патетически это ни звучит, также и время в отце».
Но воспоминаний и личных свидетельств в книге тоже достаточно. Порой неожиданных даже для тех, кто знаком с биографией Корнелия Зелинского. Например, решение Зелинского в 1962 году попросить политическое убежище в Англии – и последующий отказ его от этой идеи. Или поддержка Солженицына и письмо «начальнику писателей» Федину о засилье цензуры…
Но это, скорее, фон.
Среди проповедей преподобного Феодора Студита, выдающегося богослова и гимнографа, есть эпизод, где он описывает, как однажды принимал исповедь у своей матери. «Я, несчастный, проникаюсь стыдом всякий раз, как подумаю, что она называла меня господином и отцом, повинуясь мне не как мать, но как дитя».
«Разговор с отцом» – тоже своего рода исповедь. Исповедь отца перед сыном. Исповедь сына перед читателем. И вызываемое этим в нас, читателях, желание глубже понять самих себя, свои отношения с семьей, временем, историей.
Евгений АбдуллаевПосвящаю эту семейную повесть брату Александру Зелинскому, который, наверное, не все найдет в ней для себя близким, но без него она не была бы написана.
«УТОМЛЕННОЕ СОЛНЦЕ»
…Когда в конце августа 1972 года мы с моим другом Мишей Меерсоном оказались в доме о. Сергия Желудкова, на окраине Пскова, случайно застав там Надежду Яковлевну Мандельштам, то робость, тогда на меня нахлынувшая, была вызвана не только известной прямотой и бесцеремонностью великой вдовы и «носительницы огня»1, но и фамилией моей, крапивного ожога – словом ли, взглядом – которой я опасался. Может быть, и напрасно – но кто знает? Ибо с 16 лет, с 1958 года, после истории с Пастернаком, я знал, что в имени моем есть червоточинка, которая однажды чуть было не стала убийственной, роковой язвой. В 1961 году я поступал на филологический факультет Московского университета, и на вступительном экзамене по английскому языку, как я узнал лишь потом, решено было заранее меня провалить. Тамошние преподаватели, московские интеллигенты, тихо ненавидевшие режим, отца моего не выносили сугубо. Он был сильно виноват перед очень почитаемым, можно сказать, любимым Вяч.В. Ивановым, называемым всеми Комой, которого выгнали из университета по жалобе (получилось, что доносу) отца.
Проходной балл был 18 из 20 возможных, и, чтобы этот проходной балл набрать, мне надо было во что бы то ни стало получить пятерку на последнем экзамене по английскому языку. Даже четверки было бы недостаточно, ибо из-за этой судьбоносной единички перекрутилась бы вся моя жизнь; в октябре меня неумолимо ждал бы призыв. Тогда армия была не год, а три – три года неволи и военщины, а за ними жизнь пошла бы уже как послесловие к «капитуляции перед государством», как Бродский назвал армейскую повинность. Филологический факультет давал мне военную специальность переводчика и даже низшее звание офицера запаса после его окончания, так что рекрутчина исключалась. (Не будь сего обстоятельства, я бы поступал на философский, но там военной кафедры не было, и мужской пол шел туда, уже отслужив.) Но случилось так, что добрая моя приятельница Наташа Камышникова в то время брала уроки английского у той самой преподавательницы, Елены Сергеевны Турковой – благодарная память ей, – которой и предстояло принимать у меня экзамен и на нем меня наказать. Разговорившись, назвав мою фамилию, случайно узнав от нее о таковом замысле, Наташа убедила Елену Сергеевну в том, что яблоко от яблони откатилось далеко, что я другой, им свой, обижать меня не надо, и так я получил пятерку, хотя экзамен, помню, сдал отнюдь не блестяще.
До того я прожил свое детство и последетство как оставленный ребенок (мне шел четвертый год, когда отец ушел из семьи), и самое яркое младенческое воспоминание о жизни с ним как с действующим отцом, а не просто с близким родственником, отдельно живущим, была недолгая, недлинная, нечастая его прогулка по кабинету со мной, младенцем, на руках, под мурлычащее «Утомленное солнце», служившее колыбельной. Я сохранил это «солнце» в памяти детским секретом, предполагая, что песни такой вообще не существует в природе, что она – отцовское изобретение, связанное с каким-то личным его опытом, но в следующий раз услышал ее уже немолодым человеком в одноименном фильме Н. Михалкова. Потом разыскал эту мелодию в интернете и даже в изначальном виде по-польски: Ostatnia niedziela.
Так, засыпая с утомленным солнцем, я видел с высоты отцовских рук загадочно молчавшие, но породнившиеся с моим детством книжные полки, за которыми дружелюбно темнели корешки книг. С тех пор я всегда инстинктивно стремился к тому, чтобы моя жизнь вписалась в панораму тех книжных башен с их запасами неведомой премудрости, с их далью кем-то прожитых жизней, свернувшейся за стеклами. Через лет шестьдесят после тех прогулок по кабинету, в 2008 году, в Италии мой 22-летний сын, не ведая об этом раннем впечатлении, напишет стихотворение Моему отцу. Привожу отрывок в оригинале:
Al mio Padre Nella tiepida stanzaUn soffio soffusoDi palpetanti candeleSi spande..Vagando, in abissiStellati t’immergeE tra scaffali di libri,Vetusti sapienti,Dalla tua menteColano sferiche gioie,Sogni, speranze…Non tutto è perduto! Моему отцу В уюте комнатынеслышно пробегаеттрепет свечей…Ты бродишьсреди звездных впадин,полок книг, ветхой мудрости,и твои мысли сплетаются с радостью,мечтами, надеждами…Не все еще позади!(Авторизованный перевод)СЫН АКАДЕМИКА. ДВА СВИДЕТЕЛЬСТВА
Взрослея, мы вступаем в мир разных реальностей, где одному утверждению противостоит непременно другое, и в разговоре, скорее даже в споре с отцом, который проходит через мою жизнь, я слышал их оба. Я старался прислушаться к ним, объяснить их для себя, объяснить отца себе. Начав уже с самой фамилии, которую унаследовал.
Нельзя сказать, что имя советского критика Корнелия Зелинского было так уж известно. Оно уступало двум другим его знаменитым однофамильцам. Узнавая мою фамилию, меня неизменно спрашивали: а не сын ли ты (вы) академика Зелинского, который изобрел противогаз? Вопрос следовал за мною по пятам все детство, отрочество и прочие университеты. Однако после того, как настоящий сын знаменитого химика, Андрей Николаевич Зелинский, опубликовал в альманахе «Контекст-78» обширную статью Конструктивные принципы древнерусского календаря, а мое имя уже как-то просочилось в церковную среду, спрашивали иначе: а не вы ли автор той замечательной статьи? Нет, не сын и не автор. Был еще и другой дежурный вопрос, правда, среди ученых гуманитариев: а не родственник ли вы известного русско-польского филолога Фаддея (Тадеуша) Францевича Зелинского? Я спросил как-то отца. Он сказал: если и родственник, то очень дальний.
Но все это было в давно ушедшее время, и я привык думать, что имя отца давно затерялось среди других некрупных литературных имен. Нет, после переиздания его книг кто-то из нового поколения критиков, погрузившись в историю литературы прошлого века, как-то захотел о нем вспомнить.
«Корнелий Люцианович Зелинский (1896–1970), — пишет один из самых объективных и достаточно благожелательных исследователей Евгений Абдуллаев, – относится к тем литературным фигурам, говорить о которых можно, наверное, только так: С одной стороны… с другой стороны…
«С одной стороны, один из образованнейших советских литераторов. Выпускник философского отделения Московского университета, ученик Шпета и Ильина. Критик, обладавший литературным вкусом, интуицией и писательским талантом. Теоретик Литературного центра конструктивистов, не последняя фигура поэтического авангарда 1920-х. Автор ряда интересных статей о поэзии, социологии литературы, архитектуре. Литературовед, немало сделавший для литературной реабилитации Грина в 1930-е, а в 1950-е – Есенина; поддержал Волошина, когда тот находился в тяжелейшем материальном положении (см.: [Купченко: 493]). Состоял в редколлегии „Вопросов литературы“, напечатал в них в 1960-е годы немало дельных статей.
С другой стороны… Трудно найти среди советских критиков старшего поколения человека с более сомнительной репутацией.
„Просто бессовестный“ (М. Цветаева). „Мерзавец“ (Н. Мандельштам). „Молчалин, прикидывающийся Чацким“ (Вяч. Полонский). „Замечательный негодяй“ (А. Белинков). „Растленный, продажный литературовед“ (Л. Лунгина)» 2.
Здесь, если присмотреться, половина дурных, уничтожающих отзывов исходит от людей, которые в жизни никогда с Корнелием Зелинским не сталкивались. Они восприняли его из атмосферы, его окружившей, где одно мнение переплелось с другим, и волна общественного суда замесила их в один ком, который поднялся как на дрожжах, потом высох, зачерствел, окаменел и таким остался в памяти. Но можно допустить, что здесь собраны далеко не все приговоры, не все пересуды, однако тех, кто был бы готов их произнести, уже не спросишь, они в могиле. Объективно же говоря, отыскать литераторов с более сомнительной, не сомнительной даже, а просто черной, стукаческой, сикофантской репутацией было бы и вовсе легко. Если же все осудительное, что налипло на имени отца, свести к одному, то, заключив эмоции в скобки, можно было бы сказать: перед нами литератор, живший при деспотическом режиме, вынужденный служить ему своим пером, где-то искренне, где-то вынужденно, но прежде всего старавшийся не попасть под его топор, который не миновал стольких его коллег. Такое усилие требовало известной приспосабливаемости, которая и потом, когда топор был отложен в сторону, имела свою инерцию.
Много ли найдем его коллег в том поколении, о ком нельзя было бы сказать нечто подобное? В своей жизни лично я знал только одного такого, это был Яков Эммануилович Голосовкер, друг отца, философ и переводчик античных поэтов, проживший изгоем, прошедший лагерь, чья жизнь до самого конца была сплошным мытарством, но так ни разу у злодея ручку не поцеловавший. Даже и символически. Но, в конце концов, сошедший с ума. Повторяю: знал только одного. О нем уж написан мемуарный очерк3.
– Если государство дурак, – любил повторять Яков Эммануилович, – значит, и я должен быть дураком?
– Просто обязан, уважаемый, или ты думаешь, что гуляешь здесь сам по себе? Что ты не песчинка, взметенная и несомая ураганом? И не только твой хлеб, кров, место в толпе или в литературе, но и сама жизнь твоя – все это с начала и до конца мое, хочу – оставлю, хочу – отберу. Могу не обращать на тебя внимания, пока ты числишься одним из чудаков-хранителей древностей, но сразу вспомню, попробуй ты выйти на шаг за порог твоего античного заповедника. Но уж коли ты литературный критик и собираешься в таковом чине и ремесле прожить, то будь любезен, вставай в строй, исполняй, как подобает, возложенный на тебя социальный обет.
– Даже если государство – палач? И заказ его заключается во внедрении ядовитой утопии, в работе на всеобщую идейную одержимость, от которой ни один гражданин не смел уклониться? А кому, как не работнику идеологического фронта, надлежит быть его устами и голосом?
Мало кто ставил себе столь жесткие неудобные вопросы. Да и много ли найдется людей, кто вообще способен судить самого себя? У кого совесть работает не для умягчения, но обострения внутреннего протеста? Кто был бы способен жить в состоянии беспощадного суда над собой? Разве что праведники и юродивые. Ну, а прочие (начинаю с себя) всегда склонялись к договорам с обстоятельствами, которые нельзя изменить. У кого из них на дне, под верхней памятью не лежит стопка таких в секрете подписанных договоров? Принимать условия или нет, с оговорками или без, зависит уже от нашей восприимчивости к правде, если понимать это слово в согласии с Библией. Правду же, хоть она дана нам изначально, нужно в себе найти, в нее вслушаться, «употребить усилие», по слову Евангелия, и, чтобы устоять в таком выборе, употреблять его нужно будет всю жизнь. Но когда такой выбор становится событием публичным, запечатленным, облеченным в речь, тем более речь, которая пишется/произносится профессионально, то договор с совестью становится выставленным напоказ фактом. Из потайной комнаты внутри нас он вводится в литературный процесс. Отец, как и многие, был, пожалуй, специалистом по таким договорам. Он не обладал ни античной стойкостью Голосовкера, ни врожденным бесстрашием Пастернака, ни лагерным мужеством Шаламова, да и мало было тех, кто мог бы с ними рядом стоять. Не было у него и почетной, нейтральной, полезной профессии академика-однофамильца. Отцу надо было договариваться, искать компромисса. Правда, к чести его к концу жизни это умение покоряться и договариваться стало иссякать.
НАСЛЕДСТВО, КОТОРОЕ В ТЕБЕ
Один восточный мудрец, говорит Альбер Камю в начале Нобелевской речи, молился о том, чтобы не жить ему в интересную эпоху. Ты, отец, родился в эпоху, которая тогда казалась устойчивой, но совсем не привлекательной, и потому многие попытались сделать ее интересной, переделать, перевернуть, вывернуть наизнанку. Когда это получилось, даже многие из тех, кто уцелел, явно или втайне от себя пожалели о такой удаче.
Начало твоей жизни, как пишет Евгений Абдуллаев, могло быть подобным детству живаговских героев.
«Мы занимались и читали при свечах и керосиновых лампах. Эти квартиры, как, например, дом Иевлевой в Зачатьевском переулке, позади женского Зачатьевского монастыря на Остоженке, были самые милые. Окна квартиры на втором этаже выходили прямо в сад. Во дворе росли деревья. И, когда вечером я гулял мальчиком во дворе, на меня всякий раз наплывала теплая волна, когда мать зажигала свечу, ставя ее на подоконник — это был зов домой»4.
«Переулочек, переул… Горло петелькой затянул…»5 Здесь еще одна связь с отцом. Один из последних любимых районов исчезающей старой Москвы. Бывая в ней, почти всякий раз захожу в Зачатьевский монастырь. Заглядывал ли туда отец в отроческие времена? Хоть из любопытства? Когда я жил в Москве, монастырь был мертв, теперь ожил; в наши дни многие женщины приходят сюда, чтобы помолиться в одиночестве о зачатии ребенка или заказать молебен о том. А совсем неподалеку храм Ильи Обыденного, в котором в 1971 году я крестился с чувством некоего возвращения не в какую-то дальнюю эпоху, но к самому себе. Точнее, с достоверностью обретения себя самого.
Эта достоверность коснулась не только интимной жизни духа, но и осмысления времени, которое нам было дано. Что произошло с нами, как и с теми четырьмя-пятью поколениями, жившими в России последние 100 лет? Начав от материнской свечи в начале 1900-х, которая звала домой детей, и тем сегодня, когда дома наши разбросало по миру. Брат в Испании, я в Италии, внуки в разных странах. Гигантской силы ветер вздыбил огромную страну, оторвав ее от земли, словно бросил к поднебесью, к миражу за облаками, закрутил, перекрутил, а затем отпустил, и она упала, разбившись на осколки. Сегодня я ставлю свою свечу в давно опустевшем отцовском жилище, чтобы осветить один из миллионов путей этой бури, прошедшей через одну человеческую жизнь. Ничто теперь не могло оставаться в этой стране таким, каким было раньше. И все же чем была эта невиданная сила, которая могла поднять на воздух такую громаду со всем ее населением? Единственный мой ответ, который для меня очевиден, скрывается за всеми историческими событиями, теориями, партиями, масками, страстями, ролями и кажется мне более убедительным, чем прочие, выглядит так: это была запертая в подполье сила мифа. И вот она вырвалась наружу и увлекла, разметала, сковала, унесла несчитаное количество людей. Это была мощь коллективного соблазна или гипноза, который видимым образом уже почти совсем улетучился из нашей исторической памяти, увязнувшей ныне в забавном споре хороших обломков прошлого с плохими.
Поколение детей, рождавшихся 100 лет назад и раньше, не могло предвидеть, что попадет в цунами. Никто не ждал, что континент «Россия» будет накрыт идеологической волной, которая не зависела от того, что думали, во что верили или не верили попавшие в нее человеческие комочки. Но они были ее частью, они должны были жить в согласии с ней, по ее логике и программе. Программа была, в общем, неизменной: послушно ходить на выборы, принимать социалистические обязательства, единодушно гневаться, всенародно радоваться, требовать смерти фашистским наймитам во время процессов 1937–1938 годов, но и при всяком подозрении сигнализировать о них куда следует, или же, получая высшее образование в СССР, ликуя или скрипя зубами, всего лишь сдавать экзамены по пяти для всех обязательным идеологическим предметам, делая вид, что им и нам, в отличие от других, достался лучший из миров. Как эти, так и другие бесчисленные особенности советской жизни завязывались в единый тугой узел, который определял собою мировоззрение, мораль, поведение человеческих масс, состоявших из взвихренных частиц того изобретенного людьми фантома размером с полпланеты, который стал их полновластным хозяином. Конечно, в личной, внутренней причастности к фантому были свои степени и градации, в том числе и моральные, стояли границы порядочности, часто интуитивные. Какие-то границы отец перешел, которых мог бы и не переходить. Но сами эти границы не были столь безусловными. Ибо фантомная советская система была как первородный грех, следы ее можно было найти во всем и во всех, кто был к ней причастен. Как, впрочем, и всякая система тотальной бес- или просто внечеловечной власти.
Когда-то, в студенческие времена, случилось мне быть переводчиком на одном философском конгрессе, и там в кулуарном общении один старый американский профессор неожиданно сказал мне с полной убежденностью: «Я – человек бомбы (I am a man of the bomb)». «В каком смысле?» – спросил я. «В том смысле, что это ради меня и от моего имени ее сбросили на Хиросиму». Тот американец ощущал себя той элитной частью человечества, которая, защищая себя, уничтожала другую. Войдя, вдумавшись в эту поразившую меня тогда логику в духе всех перед всеми виноватости Достоевского, каждый, не лишенный совести советский литератор, вписанный в систему и ей служивший, мог бы сказать о себе: я – человек ГУЛАГа, в нем есть и моя доля, работа моего пера. И все же один отдавал приказ бомбить, другой, не ведая ни о каких приказах, мирно преподавал антропологию в университете. Один писал стихи об Октябре и Мае, славил вождя, партию и колхозы, клеймил врагов социализма, другой только писал на этих врагов протоколы допроса. Разницу не зачеркнешь, но и расстояние между одним текстом и другим, надо признать, все же не было бесконечным. Репрессивная система, чтобы ей устоять, опиралась не только на агентов насилия на разных уровнях; нет, она должна была питаться еще и той словесной, поэтической, философской субстанцией, из которой и был построен режим со всем, что в нем было: энтузиазмом, стройками, видениями будущей славы, борьбой за мир, лагерями и ужасом перед ними. Литература была одной из главных действующих фабрик этой системы. Литература была активно включена в производство той идеологической смеси (культ революции, проклятие старому миру, обещание нового, сияющего, но пока скрывающегося за тучами, но прежде всего апология того, что есть), которая и стала бомбой для шестой части Земли. Начинкой бомбы был тот самый миф, который взорвался не только ослепляющей вспышкой где-то над головами людей, но прежде всего в нас самих. Мы «приютили» его внутри себя. Здесь перед нами проблема далеко не юридической, даже не только моральной, но глубинной, всеобщей ответственности за производство той ядерной идейной энергии, для которой так непросто найти определение.