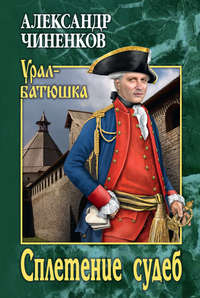Полная версия
Агнцы Божьи
– Что «там»? – заинтересовался Андрон. – Ты тоже туда хаживал?
– Да так, был пару раз, – смутился Савва. – Думал, там что-то эдакое, полезное говорят, а там…
Старец промолчал и, глядя на Ржанухина, сузил глаза.
– Так что говорят «там» такого, чего мы не касаемся на радениях? – спросил он.
– Там всё о какой-то мировой революции судачат, – вздохнул Савва. – О прекращении войны и… Всякое ещё болтают, чего я не понимаю совсем.
– А людей? Как много людей приходит на сборища эти? – заинтересовался Андрон.
– По-всякому бывает, – ответил с задумчивым видом Савва. – Бывает, столько соберутся, что яблоку упасть негде.
– И бабы бывают или только мужики одни?
– И бабы, и мужики, – пожимая плечами, ответил Савва. – Но мужиков завсегда гораздо больше, чем баб.
– Хорошо, – вздохнул Андрон и, меняя тему, спросил: – А матушку Агафью ты случаем не видел? Встал вот нынче, а её нет в горнице. Ушла и ничего не сказала, видимо, меня будить не хотела.
– В Самару она поехала, – ответил Савва, снова опуская голову.
– А чего же ты её не повёз? – нахмурился Андрон.
– Я хотел было, да матушка не велела, – поднял голову Савва.
– Что, прошла мимо, и всё?
– Только сказала, что в Самару на базар поехала, – вздохнув, уточнил Савва.
– Ладно, ступай работай… Мы с тобой покалякаем ещё, – выпытав, что было возможно, отпустил Ржанухина Андрон. – Сдаётся мне, что и у меня вдруг появилось много дел, над которыми надо хорошенечко покумекать.
С пасмурным лицом он вернулся в дом, прошёл в горницу, уселся за стол, сдавил виски ладонями и глубоко задумался.
* * *За неделю в мастерской в качестве ученицы Евдокия научилась многому. Она уже не только наблюдала, как работают швеи, но и сама вполне сносно могла шить солдатские галифе и гимнастёрки. Расторопная, сообразительная девушка стремилась работать быстро, чётко и без брака.
Евдокия вспомнила первый рабочий день в мастерской, когда Куёлда самолично привела её в цех. Куёлдой[1] величали Василису Павловну работники мастерских. И действительно, необычной была купчиха Горынина: крупного телосложения, грузная, волос на голове, брови, даже ресницы русые. А глаза Василисы Павловны были горячие, выразительные, непонятного мутного цвета.
«Куёлда, Вологайка, Гульня, Шлёнда, Визгопряха!» – боязливо озираясь, шёпотом говорили о ней все.
– Расшибётся в доску, но добьётся, что в башку ей стукнет, – говорили о жене хозяина мастерских одни.
– Уж на мужиков больно падка и охоча, особливо на молодых и красивых, – вторили другие.
– Видалая и бывалая, – говорили третьи. – Ух, уж какая бывалая, сказать не пересказать.
Увидев вставших из-за столиков женщин, Евдокия растерялась. Доверчиво глядя на них, она поклонилась.
– Ну вот, привела я вам товарку! – громогласно объявила Куёлда. – Она девка скромная, беззащитная. Не вздумайте обижать!..
Работницы мастерской сидели за длинными столами. Перед каждой стояла швейная машинка, вокруг которой возвышались стопки пошитой продукции.
Куёлда указала Евдокии на свободное место.
– Вот сюда садись, – сказала она. – Здесь будешь работать. Учить тебя ремеслу будет Верка Заторникова.
Девушка с крупными, почти с мужскими чертами лица нахмурилась, повела плечами и закусила нижнюю губу.
Василиса Павловна заметила недовольство Заторниковой и, сжав кулаки, сказала:
– Ты что, перечить мне удумала, лярва? Коленкой под зад и за ворота захотела?
Почувствовав на себе враждебные взгляды, раскрасневшаяся до корней волос Евдокия тихонько присела за рабочее место и опустила голову.
– Верка, покажи новенькой, что делать надо! – приказала наставнице Куёлда. – А теперь все рты позакрывали – и за работу, бездельницы! Кто девку забижать осмелится, тому не поздоровится, так и знайте!
Евдокия сжалась, а купчиха окинула всех злым, полным угрозы взглядом и вышла из цеха. Когда она скрылась за дверью, девушка встала, посмотрела на женщин и мягким, мелодичным голосом представилась:
– Меня Евдокией звать, бабоньки. Не серчайте на меня, пожалуйста. Я ничем не хотела обидеть вас.
Сказав, она дружески всем улыбнулась и снова присела за стол.
– Будь добра, Вера, научи меня обращаться с машинкой, – обратилась она к косо глядевшей на неё товарке. – Я умею вязать, штопать, вышивать, даже шить иголкой, а вот работать на машинке не умею. Учить меня было некому…
…Перед началом работы Евдокия поднялась по лестнице на второй этаж и остановилась перед приоткрытой дверью цеха.
– Новенькая работает очень хорошо, Василиса Павловна, – услышала она голос Верки Заторниковой. – Старается, всё на лету схватывает. Только неделю отработала, а уже не хуже других шьёт. Одним словом, ещё чуток, и она вровень со всеми работать будет.
Куёлда, казалось, пропустила похвалу Верки мимо ушей. Она лишь нахмурилась, но не сказала ничего, ни плохого, ни хорошего.
Услышав шаги на лестнице, Евдокия поспешила войти в цех, где, едва не столкнувшись с купчихой, остановилась.
– А-а-а, вот и ты, – ухмыльнулась Куёлда и подтолкнула её плечом к двери: – Айда за мной, Евдоха, ты здесь больше не работаешь.
– Как? – опешила Евдокия. – Вы меня увольняете, Василиса Павловна?
– Отсюда да, – ответила Куёлда. – Я вчерась горничную взашей выперла, а тебя беру на её место. Платить буду пятьдесят целковых в месяц, не возражаешь?
Услышав её слова, женщины в цехе вскочили со своих мест, но купчиха грозно прикрикнула на них, и они сели.
– Всё, идём, – подтолкнула она в спину остолбеневшую Евдокию. – Да не стой столбом, овца бестолковая, радуйся свалившейся на башку твою манне небесной!
* * *Собравшиеся на радения скопцы в белых рубахах с полными торжества лицами, сидели на скамейках вдоль стен в синодальной горнице и слушали проповедь кормчего Прокопия Силыча.
– …они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и страусами; и никто не мог научиться сей песне, кроме сих ста сорока четырёх тысяч, искуплённых от земли. Это те, которые не осквернялись с жёнами, ибо они девственники; это те, которые из людей, как первенцы Богу и агнцу.
Читая проповедь, старец украдкой пытался разглядеть лица сидящих перед ним адептов и понять, насколько глубоко проникают его слова в их одурманенные головы и насколько убедительно звучат его завуалированные оправдания, которые он старательно доводил до них.
Прошлой ночью случилась неожиданная беда на корабле агнцев Божьих. Вновь принятый адепт скончался после оскопления. Познания Прокопия Силыча в области медицины сводились лишь к кастрации мужчин и женщин. Его не беспокоило, сможет ли человек перенести такую тяжёлую операцию, как ампутация половых органов, или нет. И подготовку к оскоплению он тоже не считал действием обязательным. Прокопий Силыч всегда был уверен в себе. Смертельные случаи случались, но они были редки и быстро искоренялись из памяти. Но сегодня…
– Бог сотворил Адама и Еву людьми бесплотными, то есть не имевшими половых органов. Как скоро они нарушили заповедь Божью и, прельщённые дьяволом, съели запрещённые яблоки, подобия запрещённых плодов выросли на их теле: у мужчин семенные ядра, у женщин груди…
Собрав сегодня адептов, Прокопий Силыч действовал отнюдь не в благородном душевном порыве. Он очень хорошо знал, что делает. Нельзя, чтобы адепты обвинили его в смерти новика, это ведь могло несмываемым пятном лечь на репутацию всемогущего кормчего. И всегда, когда над его репутацией нависала угроза недоверия, Прокопий Силыч спешно собирал своих адептов, бессмысленными проповедями пудрил им мозги, а затем проводил большое радение. Именно так он собирался поступить и сегодня.
– Всех Господь обрезание терпит и человеческие прегрешения, яко благ, обрезует: даёт спасение днесь миру, радуется же в высших и Создателев иерарх и светоносный таинник Христов Василий.
Продолжая своё представление, Прокопий Силыч неожиданно для всех упал на колени, закрыл лицо ладонями и громко зарыдал.
– Голуби мои белокрылые, простите меня! – закричал он, сотрясаясь от рыданий. – Это ведь я… Только один я виноват в кончине этого несчастного!
Скопцы вскочили со скамеек и ринулись к кающемуся кормчему, чтобы утешить его и облегчить ярко выраженные страдания. Но Прокопий Силыч жестом руки остановил их:
– Цельный месяц ходил он к нам, жену схоронивши. Страдая, просил меня убелить его, а я… Я считал, что изначально он должон супругу свою схоронить, сорок дней и другие поминки отвести по ней, а заодно и поразмыслить над тем, действительно ли готов он на корабль наш взойти белым голубем. А он… – Прокопий Силыч снова закрыл лицо ладонями и замотал головой, как конь в стойле. – А он сам себя оскопил, отсеча топором близнят удесных и ключа бездны в придачу…
Он снова зарыдал, и его стенания показались скопцам настолько искренними и безутешными, что все они зарыдали вслед за ним.
– Ну, чего же теперь получилось?! – спрашивал Прокопий Силыч, встав с колен и размазывая ладонями по щекам слёзы. Он окидывал исподтишка пытливым взглядом рыдающих адептов, пытаясь определить, насколько трагично воспринято ими разыгрываемое им представление: – Вознёсся в небеса наш голубь, оскопив себя! Он теперь там, в царстве небесном, ходит в райских пущах, и… Неслучайная кончина его, неслучайная! Он стремился уйти в небеса оскопленным агнцем Божьим, и таковым он туда отправился!..
Поняв, что его выкрутасы достигли цели, Прокопий Силыч с облегчением вздохнул и позволил подоспевшему Макару Куприянову усадить себя на табуретку у входа.
– А теперь радения, – слабым голосом распорядился он. – Пущай голубь наш, на небеса вознесшийся, почувствует там, что мы все на корабле нашем радуемся за него и скорбим, как по безвременно ушедшему. И пусть он знает, что мы всегда будем помнить о нём и ублажать его дух, который всегда будет являться к нам с небес и незримо радеть вместе с нами.
Услышав распоряжение старца, скопцы оживились. Они быстро освободили середину горницы от скамеек, расставив их вдоль стен, расселись на них, и…
Радеть начали с православных песнопений, которые постепенно сменились скопческими стихами. Пение скопцов было слаженным, стройным и вместе с тем простым и трогательным. Вскоре поющие заметно оживились и перешли на распевцы. В это время несколько человек вышли на середину горницы и под такт скороговорчатых распевцев начали кружиться всё быстрее и быстрее, так, что рубахи их надулись и шумели, как паруса.
Прокопий Силыч приподнял голову и поманил стоявшего рядом Макара пальцем.
– Я слушаю, кормчий? – прошептал тот, склонившись.
– Ты только погляди, – сказал старец. – Всегда наглядеться не могу, как голуби мои радеют.
– Сейчас стенкой встанут, и я пойду, – вздохнул Макар. – У меня уже ноги сами собой пляшут. Я…
– Давай на крыльцо выйдем, Макарка, – остановил его порыв Прокопий Силыч. – Радения ещё долго длиться будут, и мы поспеем присоединиться к голубям нашим.
Они вышли на крыльцо. Ярко светила луна, и сотни звёзд устилали небо.
– Благодать-то какая! – прошептал восторженно Прокопий Силыч. – Не ночь, а лепота! Почему люди привыкли считать, что именно ночь потворствует разгулу нечистой силы?
– Не знаю, что сказать вам на это, Прокопий Силыч, – вздохнул Макар. – Я человек маленький и умом супротив вас убогий. Мне благостно жить так, как вы нам указываете, кормчий!
– Ты давай завершай все свои дела в деревне, – сказал старец, подняв вверх лицо и глядя в небеса. – Скот под нож пускай, мясо распродавай и избу на продажу выставляй. Ты мне сейчас здесь, на корабле, нужнее, Макарка.
– Как это? – опешил Макар. – Вы предлагаете…
– Ты слышал, что я сказал, и не надо переспрашивать, – прервал его на полуслове Прокопий Силыч. – Без дела не останешься, не пужайся. Мне сейчас очень верный человек нужон, да такой, на какового я бы смог всецело положиться.
– Ну-у-у… на меня вы всегда можете положиться, – взволнованно заговорил Макар. – Вы же меня не один год знаете, Прокопий Силыч.
– Положиться могу, но-о-о… Не взыщи, голубь ты мой, но не всегда, – ответил двусмысленно старец. – Я вот просил тебя Звонарёва ко мне привести, но до сего дня я его не вижу. А именно сегодня этот человек в самый раз пришёлся бы. У меня есть виды на него и его уродство далеко идущие.
– Да искал я его так, что с ног сбился, Прокопий Силыч? – поспешил оправдаться Макар. – А он будто в воду канул. Ни у хлыстов в Зубчаниновке не объявлялся, ни дома его нет.
– А где он? – вздохнул старец. – На небеса вознёсся или в ад канул, не оставив о себе на земле никаких вестей?
– Нашёл я его, в больнице он помирает, – хмыкнул Макар. – Вот сегодня как раз, после радений, я и собирался поставить вас в известность, где он.
– А почему сразу не рассказал о нём, когда на радения прибыл? – с укором поинтересовался старец. – Я же тебе говорил, что очень мне нужон этот калека.
– Но-о-о… – Макар, не зная, что ответить, замялся, пожал плечами и развёл руками.
– А в какой больнице Силантий обосновался, ты выяснил? – спросил заинтересованно старец, после короткого молчания.
– Да, выяснил, – ответил Макар.
– Тогда поезжай за ним прямо сейчас, – не терпящим возражения тоном высказал свою волю старец. – Возьми с собой ещё троих голубей на выбор – и в путь. Изгаляйтесь как хотите, но без Силантия в обрат не возвращайтесь.
– Тогда что же, нам остаётся только его выкрасть? – напрягся Макар. – Иначе его с нами из больницы никто не отпустит.
– Что ж, выкрасть – значит выкрасть, – усмехнулся Прокопий Силыч. – Я благословляю вас на это богоугодное дело. А теперь айда в горницу, Макар, и выбирай, на кого глаз ляжет. А я… Голуби должны видеть меня в горнице, с собой рядом. Тогда и прыти в них прибавится, и благодать сойдёт на них, как завсегда такое случается.
Глава 8
Сразу после завтрака Иван Ильич Сафронов никуда не поехал, хотя запланировал на этот день немало дел. Его беспокоило нервозное состояние Марины Карповны, и он решил понаблюдать за ней.
Сафроновы расположились в гостиной. Иван Ильич уселся в кресло с пачкой газет в руках, а Марина Карповна стала расхаживать по комнате, с раздражением поглядывая на мужа.
– Малашка, – визгливым окриком позвала она горничную, – немедля мчись сюда, косолапая!
Испуганная девушка вбежала в гостиную и остановилась, переступив порог.
– Замени занавески! – крикнула, посмотрев на неё, Марина Карповна. – Эти давно не менялись, месяц уже!
– Слушаюсь, барыня, – кивнула горничная и поспешила к выходу.
Марина Карповна нахмурила лоб и с неприязнью глянула на увлечённого чтением мужа.
– Тебе что, сказать мне нечего, Ваня? – набросилась она на него с упрёками. – Тебе газета важнее, чем благополучие семьи?
– А что ты собираешься от меня услышать, дорогая? – поднимая глаза, поинтересовался Иван Ильич. – О том, что наши дела снова покатились по наклонной под откос? Ты хочешь услышать, что Влас Лопырёв всячески подводит нас под разорение? Ты хочешь знать, как он со своими подчинёнными громит всю нашу торговлю и наше благополучие?
– Нет, я хочу услышать, что ты собираешься делать! – выкрикнула раздражённо Марина Карповна. – Или ты ничего не собираешься предпринимать, а просто сидеть и ждать, когда этот негодяй разорит нас и выставит на улицу?
– Увы, но я бессилен противостоять этому мерзавцу, – пожимая плечами, ответил супруге Иван Ильич. – У Власа в руках власть, и он на сегодняшний день всесилен. Он может сделать с нами всё, что захочет, и… Мне кажется, он поставил перед собой конкретную цель разорить нас и уничтожить.
– И что, ты собираешься молча наблюдать, как это ничтожество нас разоряет? – взвизгнула истерично Марина Карповна. – Сходи к дружку своему Гавриле? Ты что, не можешь попросить его урезонить этого выродка?
Иван Ильич усмехнулся.
– Я уже дважды ходил к Гавриле, дорогая, – сказал он. – Но тот оба раза меня на порог не пустил. Слуги говорят, что нет его, хотя я сам видел краем глаза, как он наблюдает за мной из комнаты через окно, прикрываясь шторою.
– Господи, но чего добивается от нас эта мерзкая семейка? – вскричала в отчаянии Марина Карповна. – Почему Лопырёвы собираются всё у нас отнять?
Иван Ильич покачал головой.
– Я же тебе говорил, и не раз, – им нужна наша дочь, – сказал он. – Как говорит Гаврила, его беспутный сын взялся за ум, бросил пить, поступил на службу в народную милицию и… Теперь он снова воспылал страстью к нашей дочери и выдавливает из нас согласие на брак.
– Бедная моя головушка, – падая на диван, залилась слезами Марина Карповна. – Не пойдёт за него Анечка, хоть тресни! Она всё Андрея Шелестова дожидается, всё весточек от него ждёт.
– А ты что, говорила с ней о замужестве? – отложив газету, поинтересовался Иван Ильич.
– Ну да, говорила, как ты и просил, – вытирая платочком слёзы, ответила Марина Карповна.
– Ну и что же? – заинтересовался Иван Ильич.
– Да ничего, – огрызнулась Марина Карповна. – Она о замужестве и слышать ничего не хочет. «Осточертели вы мне со своим предложением! – закричала. – Лопырёву, идиоту этому, мы уже отказали, так чего ещё добивается этот алкоголик?»
– Конечно, ей не понять наши трудности, – вздохнул Иван Ильич с трагической миной. – Она свою жизнь другой видит, такой, в которой, кроме поручика Шелестова, ни для кого места нет.
– Все мои просьбы и увещевания дочка отметает напрочь, – посетовала Марина Карповна. – Даже не знаю, как ещё говорить с ней. На каждое моё слово о замужестве Анна реагирует крайне отрицательно. И ещё она жалуется, что Влас её преследует, и она его панически боится.
– Чёрт возьми, и я не знаю, что делать, – задумался Иван Ильич. – Мы с тобой, дорогая, как промеж двух огней попали. С одной стороны, Лопырёв-младший, как прессом, давит, а с другой… С другой – дочка никак не хочет в наше положение входить. Честно говоря, я её понимаю и втайне от неё одобряю её упорство, но… Дожмёт нас Влас и лишит всего. Ума не приложу, что выбрать из двух зол, дорогая.
Марина Карповна почувствовала себя плохо и провела по раскрасневшемуся лицу ладонями.
– Пойду я прилягу, Ваня, – сказала она. – Что-то в глазах темнеет и давит за грудиной.
– Иди приляг и лекарство прими, – вздохнул Иван Ильич. – Попутно загляни в спальню дочки и ко мне пошли её.
Направляясь к двери, Марина Карповна остановилась и обернулась:
– Ты уж тут с ней как-то поласковее, Ваня. Ей, как и нам, сейчас несладко приходится. У нас своя головная боль, у неё своя. Нам не привыкать из всяческих передряг выпутываться, а ей… Мы должны придумать, как помочь доченьке, Ваня. И сделать всё так, чтобы она чувствовала себя не как в кругу врагов в родительском доме, а защищенной и в полной безопасности.
* * *Прошло несколько дней. В синодальной избе христоверов в Зубчаниновке сидели в горнице старец Андрон и богородица Агафья.
Кормчий молчал, опершись локтями на стол и сжимая голову ладонями. Женщина у окна на стуле, не спуская глаз, смотрела на старца.
– Пропадает Самара, гибнет страна, – тяжело вздохнув, выговорил Андрон. – Даже слепцу видно, как всё происходит. Что есть революция? А то и есть, что порождение убийств, мошенничества, подлости и обмана. Всего сейчас полно, всего предостаточно. И почему никого не наказывает Господь? Я утешаюсь тем, что чего сам вытворяю – лишь маленькая толика по сравнению с теми грехами, каковые правители сейчас творят.
И Андрон глубоко вздохнул, встал и начал взволнованно расхаживать по горнице.
– Не бери всё близко к сердцу, батюшка, – сказала Агафья. – Революция, будь она неладна, дело не наше. Когда-никогда она закончится, и всё на свои места встанет. Не трогают нас, ну и ладно. А чипляться начнут, так уйдём мы… На край света уйдём, где никогда нас не разыщут.
Наступило тягостное молчание. Андрон ещё походил четверть часа, что-то бормоча и вздыхая, и наконец воскликнул:
– Всё, мочи нет жить, как на иглах сидючи! Решено! Укладывай пожитки, Агафья, и пойдём мы отсюда в другом месте счастье себе искать.
Богородица промолчала. Она видела, что старец вне себя, и благоразумно решила не заводить его ещё больше.
Высказавшись и выпустив пар, Андрон снова принялся ходить по горнице, задумчиво опустив голову и заложив руки за спину. В это время в дом вошёл консисторский дьяк Василий. Старец дошёл до окна, медленно повернулся и двинулся в обратном направлении. Он настолько углубился в свои раздумья, что не заметил гостя, стоявшего у порога.
Дьяк сделал несколько шагов вперёд и лёгким покашливанием попытался привлечь к себе его внимание. Андрон пришёл в себя, поднял голову и, увидев его, сразу вспыхнул гневом, и взгляд его стал грозен.
– А тебя какая нелёгкая принесла, попёнок? Я же просил тебя являться сюда как можно реже и только по делам, не терпящим отлагательств.
– Вот как раз по такому делу я и явился, – покосившись на Агафью, сказал дьяк. – Поговорить хочу о делах наших общих, кормчий. Мы живём в такое бедовое, опасное время, что надо почаще встречаться, обдумывать всё, что происходит, и обсуждать, чтобы всегда и ко всему быть готовыми.
– Эй, о чём это ты? – вскинул удивлённо брови Андрон. – Чего юлишь и ходишь иноходью вокруг да около? Говори прямо, если сказать есть что.
– Я прямо говорю всё, что думаю, – поморщился дьяк. – Ты вот считаешь меня чиновником консистории и врагом всех сектантов. А хорошо ли ты знаешь, что я за человек?
– Знаю, мне матушка твоя о тебе всё поведала, – присаживаясь за стол, сказал Андрон. – Ангел ты небесный, всеми обижаемый и помыкаемый.
Дьяк метнул в сторону Агафьи полный укора взгляд, затем, не дожидаясь приглашения, тоже уселся за стол напротив старца. Его озабоченное лицо вдруг заинтересовало Андрона. Он посмотрел на дьяка, вздохнул и произнёс:
– Что ж, сыскарь консисторский, вываливай, с чем пожаловал. Или весть худую принёс, и высказать не решаешься?
– Предупреждение я принёс, – ответил дьяк. – В Самаре вроде как тихо, но накал всюду остро чувствуется. Народ с ума сходит, и… у нас в церковных кругах мнение одно, что та революция, которая уже случилась, лишь цветочки.
– Мало ли чего вы там кумекаете в кругах своих, – ухмыльнулся Андрон. – А ты чего от меня услыхать хотишь, попёнок? Сейчас я выверну перед тобой душу, а вечером ты меня в острог упрячешь?
– Не обижай зря человека, с добром пришедшего, а выслухай его, – покачнувшись на стуле, подала голос за сына Агафья. – Как бы раскаиваться опосля не пришлось.
– Тебя удивляет, кормчий, с чего я к вам так назойливо лезу? – как только замолчала богородица, продолжил дьяк. – А дело простое… У нас есть золото, очень много золота, но нам сейчас его не вывезти. Вот я и хочу посоветоваться, как нам быть дальше.
– А чего тут непонятного? – вскинул брови Андрон. – Золото в землю закопано, и о нём ведаем только мы трое. Раз вывозить его сейчас опасно, значит, до лучших времён подождём, покуда эта вакханалия, называемая революцией, не закончится. Нас никто не теребит, так что… – Он замолчал и развёл руками.
– Скажи, Василий, а что ещё в кругах ваших балакают? – как только замолчал старец, поинтересовалась Агафья. – Чего нам, людям божьим, бояться, скажи?
– Бандитов бойтесь, много их развелось в Самаре, – вздохнул, отвечая, дьяк. – Власть бойтесь народную, вовсе не народная она. Похлеще бандитов-налётчиков свирепствует власть новая. Так называемую милицию народную от бандитов трудно отличить, особливо ночью. А за городом и того хлеще. Там дезертиров видимо-невидимо. Их целые банды вокруг Самары слоняются. Убивать не убивают, всё разбоем и грабежами промышляют. Попадешься им на глаза – голышом останешься.
Андрон презрительно усмехнулся.
– А вы, попы, с властями новыми якшаетесь? – спросил он.
– Чего? – округлил глаза дьяк. – Правительство сейчас временное, и, как жизнь показывает, власть у него самая минимальная. В стране безвластие, а Самара – это Содом и Гоморра. Разве может церковь мириться с тем, что сейчас происходит?
– А как церковь проявляет свою нетерпимость ко всему происходящему? – осклабился Андрон. – Как вы боретесь с тем, что в Самаре сейчас происходит?
– Как? Да никак, – пожимая плечами, ответил дьяк обескураженно. – Церковь несёт людям слово Божье, вот и всё, что сейчас мы можем сделать и делаем.
– Это как, проповеди в храмах читаете? – ухмыльнулся старец.
– Иного нам не дано, – вздохнул дьяк, пытаясь понять, куда клонит кормчий.
– А как же твоя консистория? Ты вон как нас настырно ковырял при царе-батюшке.
– А что консистория? – смутился дьяк. – Раньше она вес имела, а сейчас… Сейчас нам не велено чем-то проявляться, покуда власть непонятная и, как считает Синод, неустойчивая. Осторожность проявлять везде и всюду – такое решение принято на Синоде.
– Не до жиру, быть бы живу, – с издёвкой уточнил Андрон. – И ещё… Почему ты себя с церковью связываешь, попик? Ты же, как это точнее выразиться, гадкий перевёртыш. Батюшки, кои Богу служат, честными быть должны и бессребрениками, а ты? Ты же падкий на злато червь, Василий! Ты же душу продал Сатане, когда на золото моё позарился! Ты не дьяк уже, а исчадие ада, или я не прав, скажи мне?