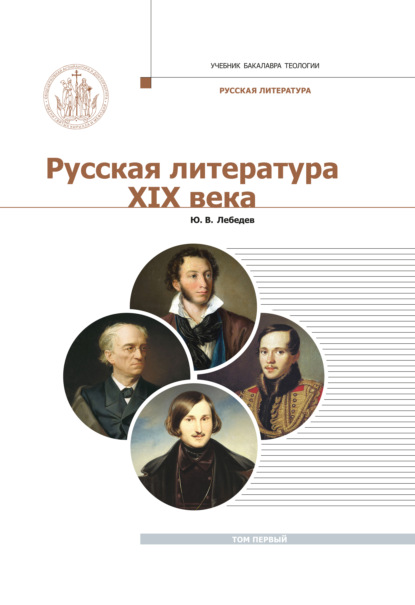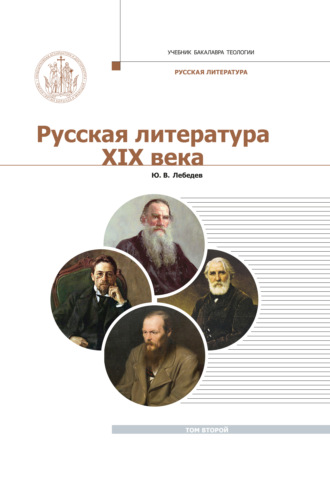
Полная версия
Русская Литература XIX века. Курс лекций для бакалавриата теологии. Том 2
Аполлон Григорьев не принимал основной пафос революционно-демократической эстетики, утверждавшей, что критик не только объясняет явления жизни и искусства, но и произносит приговор над ними, способствующий переделке жизни в интересах народа. По Григорьеву, такая критика видит «не мир, художником создаваемый, а мир, заранее начертанный теориями» и судит «мир художника не по законам, в существе этого мира лежащим, а по законам, сочинённым теориями».
Учеником Григорьева считал себя другой критик почвеннического направления – Н. Н. Страхов. В своих статьях он отмечал зарождение русского культурно-исторического типа, который пользуется открытиями европейского просвещения, но идёт своей дорогой: «В произведениях ряда поэтов и художников, начиная от Пушкина, после некоторого колебания в сторону западноевропейских типов духовной красоты человека, мы замечаем возвращение к самостоятельности и создание типов и характеров, в безусловной нравственной красоте которых мы не можем сомневаться, перед которыми преклоняются, как только узнают их, и западные писатели – и которые вместе с тем совершенно гармонируют с душевным складом, до сих пор живущим в нашем народе».
Формулу этого особого душевного склада русского человека дал, по Страхову, Л. Н. Толстой в романе-эпопее «Война и мир»: «Для нас, с данной нам Христом мерой хорошего и дурного, нет неизмеримого. И нет величия там, где нет простоты, добра и правды». В этой формуле Страхов видел указание на иной, высший тип для всемирной истории, по которому она ещё никогда не двигалась, за исключением, может быть, Отечественной войны 1812 года. Он хранится бессознательно, как нравственный идеал, в душе русского народа.
В современной литературе Толстой играет ту же роль, какую в первой половине XIX века играл Пушкин. В «Войне и мире» Страхов видел русский вариант героической эпопеи. Толстой в ней уловил истоки особого русского героизма: «Мы сильны всем народом, сильны тою силою, которая живёт в самых простых и смирных личностях – вот что хотел сказать гр. Л. Н. Толстой, и он совершенно прав». Истинным героем народной войны, олицетворением духовной силы её неслучайно стал у Толстого не «колючий» Тихон Щербатый, а добрый, простой и правдивый Платон Каратаев. «В лице Каратаева Пьер видел то, как русский народ мыслит и чувствует при самых крайних бедствиях, какая великая вера живёт в его простых сердцах».
Страхов первым в нашей критике показал трагизм характера Базарова в романе Тургенева «Отцы и дети». «Базаров, – писал он, – это титан, восставший против своей матери-земли; как ни велика его сила, она только свидетельствует о величии силы, его породившей и питающей, но не равняется с матернею силою». Страхов же впервые указал на вечный смысл тургеневского романа: «Если Тургенев изобразил не всех отцов и детей или не тех отцов и детей, каких хотелось бы другим, то вообще отцов и вообще детей, и отношение между этими двумя поколениями он изобразил превосходно».
Страхов в истории русской критики второй половины XIX века явился единственным глубоким и тонким истолкователем «Войны и мира» Л. Н. Толстого. Свою работу о «Войне и мире» он не случайно называл «критической поэмой в четырёх песнях». Сам Лев Толстой, считавший Страхова своим единственным духовным другом, сказал: «Одно из счастий, за которое я благодарен судьбе, это то, что есть Н. Н. Страхов».
Вопросы и задания
1. Сопоставьте русскую литературу начала 19 века с литературой второй его половины.
2. Объясните своеобразие «поэтической эпохи» 1850-х годов.
3. Дайте анализ расстановки общественных сил в 1840–1860-е годы.
4. Раскройте своеобразие литературно-критических взглядов Чернышевского и Добролюбова, принципов их «реальной критики».
5. Дайте характеристику общественной и литературно-критической программы нигилистов журнала «Русское слово» Д. И. Писарева и В. А. Зайцева.
6. В чём своеобразие «эстетической критики» либеральных западников А. В. Дружинина и П. В. Анненкова?
7. Раскройте общественную и литературно-критическую программу славянофилов.
8. В чём своеобразие литературной критики «почвенников» А. А. Григорьева и Н. Н. Страхова?
Николай Гаврилович Чернышевский (1828–1889)


Гражданская казнь
19 мая 1864 года на Мытнинской площади в Петербурге произошло событие, которое навсегда вошло в летописи русского общественного движения. Было туманное утро. Моросил холодный дождь. Струйки воды скользили по чёрному столбу с цепями, падали на землю с намокшего дощатого помоста. К восьми часам утра здесь собралось более двух тысяч человек. Показалась карета, окружённая конными жандармами. На помост поднялся Николай Гаврилович Чернышевский. Палач снял с него шапку, началось чтение приговора. Не очень грамотный чиновник в одном месте поперхнулся и вместо «социалистических» выговорил «сицилических идей». По бледному лицу Чернышевского скользнула усмешка. В приговоре объявлялось, что «за злоумышление к ниспровержению существующего порядка» он лишается «всех прав состояния» и ссылается «в каторжную работу на 14 лет», а затем «поселяется в Сибири навсегда».
Чтение прекратилось. Чернышевского поставили на колени, сломали над головой шпагу… По окончании церемонии единомышленники бросились к карете, прорвав линию городовых… Одну женщину, кинувшую цветы, арестовали. Кто-то крикнул: «Прощай, Чернышевский!»
На другой день, 20 мая 1864 года, в кандалах, под охраной жандармов, Чернышевского отправили в Сибирь, где ему суждено было прожить без малого 20 лет в отрыве от общества, от родных, от любимого дела. Хуже всякой каторги оказалось это изнуряющее бездействие, эта обречённость на обдумывание ярко прожитых и внезапно оборванных лет…
Детские годы
Николай Гаврилович Чернышевский родился 12 (24) июля 1828 года в Саратове в семье протоиерея Гавриила Ивановича Чернышевского и его жены Евгении Егоровны (урождённой Голубевой). Оба деда его и прадед по материнской линии были священниками. Дед, Егор Иванович Голубев, протоиерей Сергиевской церкви в Саратове, скончался в 1818 году, и саратовский губернатор обратился к пензенскому архиерею с просьбой прислать на освободившееся место «лучшего студента» с условием, как было принято в духовном сословии, женитьбы на дочери умершего протоиерея. Достойным человеком оказался библиотекарь Пензенской семинарии Гавриил Иванович Чернышевский, человек высокой учёности и безукоризненного поведения. В 1816 году он был замечен известным государственным деятелем М. М. Сперанским, попавшим в опалу и занимавшим должность пензенского губернатора. Сперанский предложил Гавриилу Ивановичу поехать в Петербург, но по настоянию матери он отказался от лестного предложения, сулившего ему блестящую карьеру государственного деятеля. Об этом эпизоде в своей жизни Гавриил Иванович вспоминал не без сожаления и перенёс несбывшиеся мечты молодости на своего единственного сына, талантом и способностями ни в чём не уступавшего отцу.
В доме Чернышевских царили достаток и тёплая семейная атмосфера, одухотворённая глубокими религиозными чувствами. «Все грубые удовольствия, – вспоминал Чернышевский, – казались мне гадки, скучны, нестерпимы; это отвращение от них было во мне с детства, благодаря, конечно, скромному и строго нравственному образу жизни всех моих близких старших родных». К родителям своим Чернышевский всегда относился с сыновним почтением и благоговением, делился с ними заботами и планами, радостями и огорчениями. В свою очередь, мать любила своего сына беззаветно, а для отца он был ещё и предметом нескрываемой гордости. С ранних лет мальчик обнаружил исключительную природную одарённость. Отец уберёг его от духовного училища, предпочитая углублённое домашнее образование. Он сам преподавал сыну латинский и греческий языки, французским мальчик успешно занимался самостоятельно, а немецкому его учил немец-колонист Греф. В доме отца была хорошая библиотека, в которой, наряду с духовной литературой, находились сочинения русских писателей: Пушкина, Жуковского, Гоголя, а также современные журналы. В «Отечественных записках» мальчик читал переводные романы Диккенса, Жорж Санд, увлекался статьями В. Г. Белинского. Так что с детских лет Чернышевский превратился, по его собственным словам, в настоящего «пожирателя книг».
Казалось бы, семейное благополучие, религиозное благочестие, любовь, которой с детства был окружён мальчик, – ничто не предвещало в нём будущего отрицателя, ниспровергателя основ существовавшего в России общественного строя. Однако ещё И. С. Тургенев обратил внимание на одну особенность русских радикалов: «Все истинные отрицатели, которых я знал – без исключения (Белинский, Бакунин, Герцен, Добролюбов, Спешнев и т. д.), происходили от сравнительно добрых и честных родителей. И в этом заключается великий смысл: это отнимает у деятелей, у отрицателей всякую тень личного негодования, личной раздражительности. Они идут по своей дороге потому только, что более чутки к требованиям народной жизни». Сама же эта чуткость к чужому горю и страданиям ближнего предполагала высокое развитие христианских нравственных чувств, совершавшееся в семейной колыбели. Сила отрицания питалась и поддерживалась равновеликой силой веры, надежды и любви. По контрасту с миром и гармонией, царившими в семье, резала глаза общественная неправда, так что с детских лет Чернышевский стал задумываться, почему «происходят беды и страдания людей», пытался «разобрать, что правда и что ложь, что добро и что зло».
Саратовская духовная семинария
В 1842 году Чернышевский поступил в Саратовскую духовную семинарию своекоштным студентом, живущим дома и приезжающим в семинарию лишь на уроки. Смирный, тихий и застенчивый, он был прозван бедными семинаристами «дворянчиком»: слишком отличался юный Чернышевский от большинства своих товарищей – и хорошо одет, и сын всеми почитаемого в городе протоиерея, и в семинарию ездит в собственной пролётке, и по уровню знаний на голову выше однокашников. Сразу же попал он в список лучших учеников, которым вместо обычных домашних уроков педагоги давали специальные задания на предложенную тему.
В семинарии царили средневековые педагогические принципы, основанные на убеждении, что телесные страдания способствуют очищению человеческой души. Сильных студентов поощряли, а слабых наказывали. Преподаватель словесности и латинского языка Воскресенский частенько карал грешную плоть своих воспитанников, а после телесного наказания приглашал домой на чай, направляя их души на стезю добродетели.
В этих условиях умные студенты оказывались своего рода спасителями и защитниками слабых. Чернышевский вспоминал: «В семинарском преподавании осталось много средневековых обычаев, к числу их принадлежат диспуты ученика с учителем. Кончив объяснение урока, учитель говорит: “Кто имеет сделать возражение?” Ученик, желающий отличиться, – отличиться не столько перед учителем, сколько перед товарищами, – встаёт и говорит: “Я имею возражение”. Начинается диспут; кончается он часто ругательствами возразившему от учителя; иногда возразивший посылается и на колени; но зато он приобретает между товарищами славу гения. Надобно сказать, что каждый курс в семинарии имеет человек пять “гениев”, перед которыми совершенно преклоняются товарищи…» Более того, в каждом классе существовал ещё и духовный, интеллектуальный вождь – тот, кто «умнее всех». Чернышевский легко стал таким вождём.
По воспоминаниям его однокашников, «Николай Гаврилович приходил в класс раньше нарочито, чем было то нужно, и с товарищами занимался переводом. Подойдёт группа человек 5–10, он переведёт трудные места и объяснит; только что отойдёт эта – подходит другая, там третья и т. д. И не было случая, чтобы Чернышевский выразил, хоть бы полусловом, своё неудовольствие».
Петербургский университет
Так с ранних лет укрепилось в Чернышевском чувство умственной исключительности, а вслед за ним и вера в силу человеческого разума, преобразующего окружающий мир. Не закончив семинарии, проучившись в ней неполных четыре года из шести, он оставил её с твёрдым намерением продолжить образование в университете. Почему Чернышевский отказался от блестящей духовной карьеры, которая открывалась перед ним? В разговоре с приятелем перед отъездом в Петербург молодой человек сказал: «Славы я желал бы». Вероятно, его незаурядные умственные способности не находили удовлетворения; уровень семинарской учёности он перерос, занимаясь самообразованием.
Не исключено, что к получению светского образования Чернышевского подтолкнул отец, только что переживший незаслуженную опалу со стороны духовного начальства. Положение духовного сословия в тогдашней России было далеко не блестящим. Начиная с синодальной реформы Петра I, Церковь попала в зависимость от государства, от чиновников, от светских властей. Университетское же образование давало при определённых умственных способностях перспективу перехода из духовенства в привилегированное дворянское сословие. Отец помнил о своей молодости и хотел видеть в сыне осуществление своих несбывшихся надежд. Так или иначе, но в мае 1846 года юноша в сопровождении любимой матушки отправился «на долгих» в далёкую столицу держать экзамены в университет.
Недоучившийся семинарист 2 августа 1846 года вступил в дерзкое соперничество с дворянскими сынками, выпускниками пансионов и гимназий, и одержал блестящую победу. 14 августа он зачислен на историко-филологическое отделение философского факультета.
На первом курсе Чернышевский много занимается, читает Лермонтова, Гоголя, Шиллера, начинает вести дневник. Его увлекают идеи нравственного самосовершенствования, настольной книгой по-прежнему является Библия. Чернышевский сочувственно относится к «Выбранным местам из переписки с друзьями» Гоголя и осуждает неприятие этой книги Белинским.
Вспыхнувшая в феврале 1848 года во Франции революция существенно изменяет круг интересов студента-второкурсника. Его увлекают философские и политические вопросы. В дневнике появляются характерные записи: «Не уничтожения собственности и семейства хотят социалисты, а того, чтобы эти блага, теперь привилегия нескольких, расширились на всех!»
В сентябре 1848 года Чернышевский знакомится с участником кружка М. В. Петрашевского Александром Владимировичем Ханыковым, который даёт ему читать сочинения французского социалиста-утописта Фурье. Достоевский замечал, что «зарождающийся социализм сравнивался тогда, даже некоторыми из коноводов его, с христианством и принимался лишь за поправку и улучшение последнего, сообразно веку и цивилизации». В социализме видели «новое откровение», продолжение и развитие основных положений этического учения Иисуса Христа. «Дочитал нынче утром Фурье, – записывает в дневнике Чернышевский. – Теперь вижу, что он собственно не опасен для моих христианских убеждений…»
Но более глубокое знакомство с социалистическими учениями рождает сомнение в тождестве социализма с христианством: «Если это откровение, – последнее откровение, да будет оно, и что за дело до волнения душ слабых, таких, как моя… Но я не верю, чтоб было новое, и жаль мне было бы расстаться с Иисусом Христом, который так благ, так мил душе своею личностью, благой и любящей человечество, и так вливает в душу мир, когда подумаешь о Нём».
Чернышевский уподобляет современную цивилизацию эпохе Рима времён упадка, когда разрушались основы старого миросозерцания и всеми ожидался приход мессии, спасителя, провозвестника новой веры. И юноша готов остаться с истиной нового учения и даже уйти от Христа, если «последнее откровение» социализма разойдётся с христианством.
Более того, он чувствует в своей душе силы необъятные. Ему хочется стать самому родоначальником учения, способного обновить мир и дать «решительно новое направление» всему человечеству. Примечательна в связи с этим такая трогательная деталь. Дневники пишутся специально изобретённым методом скорописи, непонятной для непосвящённых. Однажды Чернышевский замечает: «Если я умру, не перечитавши хорошенько их и не переписавши на общечитаемый язык, то ведь это пропадёт для биографов, которых я жду, потому что в сущности думаю, что буду замечательным человеком».
23 апреля арестовали петрашевцев, в их числе и А. В. Ханыкова. По счастливой случайности Чернышевский не оказался привлечённым по этому политическому процессу. И однако юноша не падает духом. Летом 1849 года он записывает: «Если бы мне теперь власть в руки, тотчас провозгласил бы освобождение крестьян, распустил более половины войска, если не сейчас, то скоро ограничил бы как можно более власть административную и вообще правительственную, особенно мелких лиц (т. е. провинциальных и уездных), как можно более просвещения, учения, школ. Едва ли бы не постарался дать политические права женщинам». По окончании университета он мечтает стать журналистом и предводителем «крайне левой стороны, нечто вроде Луи Блана», известного деятеля французской революции 1848 года.
Саратовская гимназия
Однако годы «мрачного семилетия» не дают развернуться его призванию. Вскоре по окончании университета, в марте 1851 года Чернышевский уезжает в Саратов и определяется учителем в тамошнюю гимназию. По воспоминаниям одного из его учеников, «ум, обширное знание… сердечность, гуманность, необыкновенная простота и доступность… привлекли, связали на всю жизнь сердца учеников с любящим сердцем молодого педагога».
Иначе воспринимали направление молодого учителя его коллеги по гимназии. Директор её восклицал: «Какую свободу допускает у меня Чернышевский! Он говорит ученикам о вреде крепостного права. Это – вольнодумство и вольтерьянство! В Камчатку упекут меня за него!» Причём слова директора ничего не преувеличивали, ибо сам вольнодумец-учитель признавал, что говорит учащимся истины, которые «пахнут каторгою».
И всё же участь провинциального педагога была для кипящих сил Чернышевского явно недостаточной. «Неужели я должен остаться учителем гимназии, или быть столоначальником, или чиновником особых поручений, – сетует в дневнике Чернышевский. – Как бы то ни было, а всё-таки у меня настолько самолюбия ещё есть, что это для меня убийственно. Нет, я должен ехать в Петербург».
Незадолго до отъезда он делает предложение дочери саратовского врача Ольге Сократовне Васильевой. Любовь Чернышевского своеобразна: обычное молодое чувство осложнено мотивом спасения, освобождения невесты из-под деспотической опеки родителей. Первое условие, которое ставит перед избранницей своего сердца Чернышевский, таково: «… Если б вы выбрали себе человека лучше меня – знайте, что я буду рад видеть вас более счастливою, чем вы могли бы быть со мною; но знайте, что это было бы для меня тяжёлым ударом».
Второе условие Чернышевский сформулировал так: «…У нас скоро будет бунт, а если он будет, я буду непременно участвовать в нём… Меня не испугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьём, ни резня». «Не испугает и меня», – ответила Ольга Сократовна в духе «новых женщин», будущих героинь романов Чернышевского.
Подступы к новой эстетике
В мае 1853 года Чернышевский с молодой женой уезжает в Петербург. Здесь он получает место преподавателя словесности в кадетском корпусе, начинает печататься в журналах – сначала в «Отечественных записках» А. А. Краевского, а после знакомства осенью 1853 года с Н. А. Некрасовым – в «Современнике». Как витязь на распутье, он стоит перед выбором, по какому пути идти: журналиста, профессора или столичного чиновника. Однако ещё В. Г. Белинский говорил, что для практического участия в общественной жизни разночинцу были даны «только два средства: кафедра и журнал». По приезде в Петербург Чернышевский начинает подготовку к сдаче магистерских экзаменов по русской словесности и работает над диссертацией «Эстетические отношения искусства к действительности».
Литература и искусство привлекают его внимание не случайно. В «Очерках гоголевского периода русской литературы» Чернышевский говорит: «Литература у нас пока сосредоточивает почти всю умственную жизнь народа…»
После смерти Белинского, в эпоху «мрачного семилетия», его бывшие друзья Дружинин, Анненков, Боткин отошли от принципов демократической критики. Опираясь на эстетическое учение немецкого философа-идеалиста Гегеля, они утверждали, что художественное творчество не зависимо от действительности, что настоящий писатель уходит от противоречий жизни в чистую и свободную от суеты мирской сферу вечных идеалов добра, истины, красоты. Эти вечные ценности не открываются в жизни, а, напротив, привносятся искусством в жизнь, восполняя её роковое несовершенство, её неустранимую дисгармоничность и неполноту. Только искусство способно дать идеал совершенной красоты, которая не может воплотиться в окружающей действительности. Такие эстетические взгляды, по мнению Чернышевского, отвлекали внимание писателя от вопросов общественного переустройства, лишали искусство его действенного характера, его способности обновлять и улучшать жизнь.
В диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» Чернышевский выступил против этого «рабского преклонения перед старыми, давно пережившими себя мнениями». Около двух лет он добивался разрешения на её защиту: университетские круги настораживал и пугал «дух свободного исследования и свободной критики», заключённый в ней.
Наконец 10 мая 1855 года на историко-филологическом факультете Петербургского университета состоялось долгожданное событие. По воспоминанию Н. В. Шелгунова, «небольшая аудитория, отведённая для диспута, была битком набита слушателями. Тут были и студенты, но, кажется, было больше посторонних, офицеров и статской молодёжи. Тесно было очень, так что слушатели стояли на окнах… Чернышевский защищал диссертацию со своей обычной скромностью, но с твёрдостью непоколебимого убеждения. После диспута Плетнёв обратился к Чернышевскому с таким замечанием: “Кажется, я на лекциях читал вам совсем не это!” И действительно, Плетнёв читал не это, а то, что он читал, было бы не в состоянии привести публику в тот восторг, в который её привела диссертация. В ней было всё ново и всё заманчиво…»
Чернышевский, опираясь на материалистическую философию Фейербаха, действительно по-новому решает в диссертации основной вопрос эстетики о прекрасном: «прекрасное есть жизнь», «прекрасно то существо, в котором мы видим жизнь такою, какова должна быть она по нашим понятиям».
В отличие от Гегеля и его русских последователей, Чернышевский видит источник прекрасного не в искусстве, а в жизни. Формы прекрасного не привносятся в жизнь искусством, а существуют объективно, независимо от искусства в самой действительности.
Утверждая формулу «прекрасное есть жизнь», Чернышевский сознает, что объективно существующие в жизни формы сами по себе нейтральны в эстетическом отношении. Они осознаются как прекрасные лишь в свете определённых человеческих понятий. Но каков же тогда критерий прекрасного? Может быть, верна формула, что о вкусах не спорят, может быть, сколько людей – столько и понятий о прекрасном?
Чернышевский показывает, что вкусы людей далеко не произвольны, что они определены социально: у разных сословий общества существуют разные представления о красоте. Причём истинные, здоровые вкусы представляют те сословия общества, которые ведут трудовой образ жизни: «у поселянина в понятии «жизнь» всегда заключается понятие о работе: жить без работы нельзя…» А потому «в описаниях красавицы в народных песнях не найдется ни одного признака красоты, который не был бы выражением цветущего здоровья и равновесия сил в организме, всегдашнего следствия жизни в довольстве при постоянной и нешуточной, но не чрезмерной работе». И наоборот, светская «полувоздушная» красавица кажется поселянину решительно «невзрачною», даже производит на него неприятное впечатление, потому что он привык считать «худобу» следствием болезненности или «горькой доли».
Ясно, что диссертация Чернышевского была первым в России манифестом демократической эстетики. Подчиняя искусство действительности, Чернышевский создавал принципиально новую эстетическую теорию. Его работа, с восторгом встреченная разночинной молодежью, вызвала раздражение у многих выдающихся русских писателей. Тургенев, например, назвал её «мерзостью и наглостью неслыханной». Это было связано с тем, что Чернышевский разрушал фундамент идеалистической эстетики, на которой было воспитано целое поколение русских культурных дворян 30–40-х годов.
К тому же труд Чернышевского не был свободен от явных ошибок и упрощений. «Когда палка искривлена в одну сторону, – говорил он, – её можно выпрямить, только искривив в противоположную сторону: таков закон общественной жизни». В работе Чернышевского таких «искривлений» очень много. Так, он утверждает, например, что «произведения искусства не могут выдержать сравнения с живой действительностью»: гораздо лучше смотреть на самое море, нежели на его изображение, но за недостатком лучшего человек довольствуется худшим, за недостатком вещи – её суррогатом». С подобным принижением роли искусства, разумеется, не могли согласиться ни Тургенев, ни Лев Толстой.