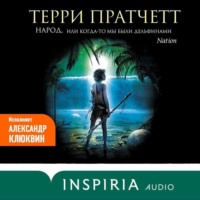Полная версия
Платье цвета полуночи
Девочки с облегчением выдохнули: выходит, их труды не пропали даром; а Тиффани мысленно подготовилась к очередному вопросу. Задала его снова Бекки:
– Стало быть, у вас есть жених, госпожа?
– Нет, прямо сейчас – нету, – коротко отозвалась Тиффани, овладев собою настолько, чтобы в лице её ровным счётом ничего не отразилось. И повертела в руках букетик. – Но как знать, если вы всё сделали правильно, может, я найду себе кого-нибудь, вот и выйдет, что вы лучшие ведьмы, чем я. – Обе девочки просияли от такой откровенно вопиющей лести, и новых вопросов не последовало.
– А теперь вот-вот начнутся сырные гонки, – напомнила Тиффани. – Вы же не хотите их пропустить!
– Не хотим, госпожа, – хором отозвались девочки. И, уже уходя, исполненная облегчения и сознания собственной значимости Бекки потрепала Тиффани по руке. – С женихами оно всегда непросто, – объяснила она с убеждённостью человека, прожившего на свете (как совершенно точно знала Тиффани) целых восемь лет.
– Спасибо, – поблагодарила Тиффани. – Буду иметь в виду.
Что до ярмарочных развлечений – например, корчить рожи, просунув голову в лошадиный хомут, или там подраться подушками на скользком бревне, или даже вылавливать ртом лягушек – что ж, Тиффани могла в них поучаствовать, а могла и нет, на своё усмотрение; и, по правде сказать, предпочитала последнее. Но вот полюбоваться на старые добрые сырные гонки она любила – ну то есть посмотреть, как старый добрый сыр катится себе вниз по склону холма, хотя и не по изображению великана – иначе сыр потом никто и есть бы не стал.
В гонках участвовали твёрдые сыры, иногда сделанные специально для такого случая, а победителю-сыровару, чей сыр скатывался к подножию холма целым и невредимым, доставался пояс с серебряной пряжкой – и всеобщее восхищение.
Тиффани была настоящим мастером-сыроваром, но в гонках никогда не участвовала. Ведьмам в таких состязаниях выступать нельзя, ведь если ты выиграешь – а Тиффани знала, что один-два её сыра непременно победили бы, – все скажут, что это несправедливо, она же ведьма; ну то есть так все подумают, даже если скажут – единицы. А если не выиграешь, люди зафыркают: «Как так, чтоб ведьма – и не умела сварить сыр, который обставил бы самые обыкновенные сыры, сваренные самыми обыкновенными людьми вроде нас?»
В преддверии начала сырных гонок толпа чуть всколыхнулась, хотя аттракцион с лягушками по-прежнему собирал огромное количество зрителей – это ведь развлечение смешное и беспроигрышное, особенно для тех, кто сам не участвует. Ко всеобщему сожалению, фокусник, запускающий себе в штаны хорьков (его личный рекорд составлял девять штук), в этом году не явился; люди прямо забеспокоились, уж не утратил ли он былую хватку. Но рано или поздно все постепенно сойдутся к линии старта сырных гонок. Уж такова традиция.
Склон здесь очень круто уходил вниз, а буйное соперничество между владельцами сыров приводило к предсказуемым последствиям: слово за слово, а там, глядишь, начинают друг друга отталкивать, и отпихивать, и лягаться, и не обходится без синяков; а порою и сломанной руки-ноги. Словом, всё шло своим чередом, участники выстраивали свои сыры в одну линию, но тут Тиффани заметила (и, по-видимому, заметила только она одна), как какой-то рисковый сыр сам по себе вкатился вверх по склону: весь чёрный под слоем пыли и обвязанный клочком грязной сине-белой тряпки.
– Ох, нет! – воскликнула она. – Гораций! Где ты, там жди неприятностей!
Тиффани стремительно обернулась, зорко высматривая хоть малейшие признаки того, чего рядом быть не должно.
– А ну-ка послушайте меня, – прошептала она чуть слышно. – Я знаю, что по крайней мере один из вас где-то рядом. Ярмарка не для вас, это людские дела! Понятно?
Но поздно! Распорядитель Празднества, увенчанный громадной широкополой шляпой с галуном вдоль полей, засвистел в свисток, и сырные гонки, как он выразился, «стартовали» – это ведь звучит куда более торжественно, чем просто «начались». А распорядитель в шляпе с галуном ни за что не воспользуется простым словом, если можно подыскать подлиннее и повнушительнее.
Тиффани боялась даже глядеть в ту сторону. Бегуны не столько бежали, сколько катились кубарем за своими сырами, то и дело оскальзываясь. Но уши-то не заткнешь: оглушительный крик поднимался всякий раз, когда чёрный сыр не только вырывался вперёд, но порою разворачивался и снова вкатывался вверх по холму, чтобы с разгона врезаться в какого-нибудь обыкновенного, ни в чём не повинного собрата. Слышно было, как Гораций тихонько урчит, взлетая на вершину.
Сырные гонщики осыпали его проклятиями, пытались его схватить, колотили по нему палками, но сыр-разбойник пулей пронёсся сквозь толпу и снова приземлился у подножия холма, чуть обогнав жуткую кучу-малу из людей и сыров, что громоздилась всё выше; а затем неспешно откатился обратно наверх и скромно угнездился там, всё ещё возбуждённо подрагивая.
Внизу, у подножия, то и дело вспыхивали драки между гонщиками, у которых ещё оставались силы ткнуть кого-нибудь кулаком, а поскольку внимание зрителей сосредоточилось на этих потасовках, Тиффани, улучив момент, схватила Горация и затолкала его в свою котомку. В конце концов, это её сыр. Ну, то есть она его сделала, хотя в варево, должно быть, попало что-то странное, поскольку Гораций был единственным на её памяти сыром, который жрал мышей и если не приколотить его к полу гвоздями, то и другие сыры тоже. Не диво, что он так славно поладил с Нак-мак-Фиглями[10], которые приняли его в почётные члены клана. Такой сыр им прямо родственная душа.
Украдкой, надеясь, что никто не заметит, Тиффани поднесла котомку к губам и прошептала:
– Разве можно так себя вести? Тебе не стыдно?
Котомка качнулась взад-вперёд, но Тиффани отлично знала, что понятие «стыдно» в активный словарный запас Горация не входит, как, впрочем, и любые другие слова. Девушка опустила котомку, отошла немного в сторону от толпы и промолвила:
– Явор Заядло, я знаю, что ты тут.
Он и впрямь был тут – восседал у неё на плече как ни в чём не бывало. Тиффани почуяла знакомый запах. Несмотря на то что Нак-мак-Фигли мыться не привыкли, разве что под дождём, пахли они всегда как слегка поддатые картофелины.
– Кельда послала мя позырить, как те поживается, – сообщил вождь Фиглей. – Ты в курганс к ней вот уж две недельи как не суйносилась, – продолжал он, – я так думкаю, кельда волнуецца, не стряслонулось ли с тобой каких злей, уж больно непосильно ты трудягаешься.
Тиффани застонала, но про себя. А вслух сказала:
– Очень мило с её стороны. Дел всегда невпроворот; уж кому и знать, как не кельде. И сколько бы я ни работала, работе конца-края нет. Всю не переделаешь. Но беспокоиться не о чем. Со мной всё хорошо. И пожалуйста, не бери больше с собой Горация в людные места – сам видишь, он перевозбуждается.
– Ваще-то вон там, на вывешалке, грится, что эт всё для народа холмьёв, дык мы ж народ холмьёв и есть! Мы – фольхлорный елемент! А фольхлор – эт святое! А ишшо я думкал зайти поздоровкаться с верзуном без штаньёв. Он у нас мил громазд мал-малец, точняк! – Явор помолчал и тихо добавил: – Так мне ей сказануть, что с тобой всё типсы-топсы, ах-ха? – Фигль явно нервничал, как если бы очень хотел сказать больше, да только знал, что добра с того не будет.
– Явор Заядло, я буду очень признательна, если именно так ты и сделаешь, – отозвалась Тиффани, – потому что, если глаза меня не обманывают, мне нужно срочно заняться пострадавшими.
Явор Заядло с видом мученика, взявшегося за неблагодарное дело, лихорадочно выпалил те роковые слова, что велела ему сказать жена:
– Кельда грит, в море рыбсов ишшо навалом!
На мгновение Тиффани словно окаменела. А затем, не глядя на Явора, тихо произнесла:
– Поблагодари кельду за ценные сведения о рыбной ловле. А у меня срочная работа, извини. Пожалуйста, не забудь поблагодарить кельду.
Почти все зрители уже спустились к подножию склона – поглазеть, помочь, может, даже неумело подлечить стонущих сырных гонщиков. Для зевак, понятное дело, всё это было очередным развлечением: в самом деле, часто ли полюбуешься на такую славную кучу-малу из людей и сыров. И – как знать? – вдруг там есть по-настоящему интересные увечья.
Тиффани, радуясь, что ей нашлось дело, поспешила к месту событий; ей даже не пришлось проталкиваться – остроконечная чёрная шляпа заставляла развесёлую толпу расступиться быстрее, чем святой – неглубокое море. Одним взмахом руки девушка пролагала себе путь; подпихнуть пришлось разве что пару тугодумов. Собственно говоря, выяснилось, что урон в этом году невелик: одна сломанная рука, одна нога, одно запястье и огромное множество синяков, царапин и ссадин, ведь гонщики бóльшую часть пути вниз проехались на чём пришлось, а трава не всегда дружелюбна. В результате несколько явно страдающих юношей со всей категоричностью отказывались обсуждать свои телесные повреждения с дамой – спасибо за заботу, но мы уж как-нибудь сами! – так что Тиффани велела им приложить дома холодный компресс к пострадавшей части тела, уж где бы она ни находилась, и те неверной походкой побрели прочь. Девушка проводила их взглядом.
Она ведь всё правильно сделала, так? Показала своё искусство перед любопытствующей толпой и, судя по тому, что ей довелось услышать краем уха от стариков и женщин, справилась очень даже неплохо. Возможно, ей просто почудилось, что один-двое смущённо замялись, когда старик с бородой до пояса, усмехнувшись, заметил: «Девчонка, которая умеет кости вправлять, без мужа всяко не останется». Но это всё было и минуло, и за неимением других дел люди неспешно побрели вверх по длинному склону… и тут мимо проехала карета, и, что ещё хуже, остановилась.
На дверце красовался герб семьи Кипсек. Из кареты вышел юноша. Он выглядел по-своему привлекательно, но держался чопорно и неестественно прямо – хоть простыни на нём гладь. Это был Роланд. Он не успел сделать и шагу, как довольно неприятный голос из глубины кареты отчитал его за то, что не подождал, пока лакей придержит дверцу, и велел поторапливаться, не до ночи же тут прохлаждаться.
Молодой человек быстро зашагал к толпе, и все тут же встрепенулись, выпрямились, оправились, потому что, в конце концов, это же сын барона, которому принадлежат почти все Меловые холмы и почти все дома на них, и хотя барон, конечно, очень даже порядочный старикан – по-своему, по-старикански, – выказать толику уважения его семье – идея, безусловно, не из худших…
– Что тут случилось? Все ли целы? – осведомился юноша.
Жизнь в Меловых холмах обычно текла довольно благостно, и господа и подданные относились друг к другу со взаимным уважением; однако ж фермеры унаследовали мысль о том, что с власть имущими разговоры лучше не разговаривать: вдруг ляпнешь что-нибудь не к месту. В конце концов, в замке и по сей день есть пыточная камера, пусть даже ею не пользовались вот уже много сотен лет… ну, это, лучше поостеречься, лучше отойти и не отсвечивать, пусть ведьма объясняется. Она, если что, всегда может улететь прочь.
– Боюсь, на ярмарке без мелких травм не обойтись, – отозвалась Тиффани, остро осознавая, что она единственная из присутствующих женщин не присела в реверансе. – Несколько переломов быстро срастутся, а кто-то просто запыхался. О пострадавших уже позаботились, спасибо за беспокойство.
– Вижу, вижу! Отличная работа, юная барышня, браво!
На мгновение Тиффани так стиснула зубы, что едва их не разжевала. Услышать «юная барышня» от… него? Такое лишь самую малость до оскорбления недотягивает. Но никто, похоже, ничего не заметил. В конце концов, благородные именно так и изъясняются, когда хотят выказать дружелюбие. Он пытается разговаривать с нами, как его отец, подумала Тиффани, но его отец делал это инстинктивно, сам того не сознавая, – и у него отлично получалось. Нельзя говорить с людьми, точно на общественном собрании.
– Покорно благодарю, сэр, – отозвалась она.
Ну что ж, пока всё шло не так уж и плохо… но тут дверца кареты снова распахнулась, и беленькая изящная ножка ступила на кремневый склон. Это она: не то Настурция, не то Форзиция, не то Летиция, какое-то там имечко прямо с клумбы. На самом деле Тиффани отлично знала, что девушку зовут Летиция, но неужто она не может позволить себе крошечку вредности внутри собственной головы? Летиция! Тоже мне, имечко! Не то разновидность салата, не то кошка чихнула! И вообще, кто она такая, эта Летиция, чтобы не пускать Роланда на расчисточную ярмарку? Его место – там! Его старик-отец был бы там, если бы ему хватило сил! И вы только гляньте! Крохотные беленькие туфельки! Надолго ли таких туфелек хватит, если делом заниматься? Тут Тиффани оборвала себя: повредничала – и хватит.
Летиция оглядела Тиффани и толпу едва ли не в страхе и вымолвила:
– Поедем, пожалуйста, хорошо? Мама уже нервничает…
И вот карета уехала, и шарманщик тоже, к счастью, ушёл, ушло и солнце, а кое-кто остался в тёплой сумеречной тени. И Тиффани полетела домой одна-одинёшенька, на такой высоте, что заглянуть ей в лицо могли только летучие мыши да совы.

Глава 2. Лютая музыка

Тиффани поспала где-то с час – и тут начался кошмар.
Из того вечера ей лучше всего запомнилось, как голова господина Пенни глухо стукалась о стену и перила, когда она вытащила его из постели и поволокла за грязную ночную рубашку вниз по лестнице. Он был тяжёлый, громоздкий и полусонный, ну то есть на одну половину сонный, а на вторую – мертвецки пьяный.
Важно было не давать ему времени на размышление, ни единой минуты, пока Тиффани тянула его за собою как мешок. Он был в три раза тяжелее её, но Тиффани умела пользоваться рычагом. Какая ж ты ведьма, если не в силах управиться с кем-то, кто тяжелее тебя? Как иначе перестелить больному простыни? Так что здоровяк съехал по последним нескольким ступенькам в тесную кухоньку – и его вырвало прямо на пол.
Тиффани тому весьма порадовалась: лежать в вонючей блевотине – это самое меньшее, чего господин Пенни заслуживал; но ей необходимо было немедленно взять происходящее под контроль, пока тот не опомнился.
Как только началось избиение, перепуганная госпожа Пенни, обычно тихая как мышка, громко причитая, пробежала по деревенским улицам к пабу, и отец Тиффани тут же послал мальчишку разбудить дочь. Господин Болен был человеком предусмотрительным и, конечно же, знал, что пивной задор после ярмарочного дня способно всех погубить. Уже летя на метле к дому Пенни, Тиффани уловила первые ноты лютой музыки.
Она шлёпнула господина Пенни по щеке.
– Вы это слышите? – спросила девушка, указывая рукой на тёмный проём окна. – Вы слышите? Это звуки лютой музыки, а играют её для вас, господин Пенни, для вас! И у них колья! И камни! Они похватали всё, что под руку подвернулось, а ещё у них кулаки, а ребёнок вашей дочери умер, господин Пенни. Вы так избили дочь, господин Пенни, что ребёнок умер, женщины утешают вашу жену, и вся деревня знает, что вы сделали, – все знают, все до единого.
Тиффани неотрывно глядела в его налитые кровью глаза. Руки господина Пенни машинально сжались в кулаки, потому что он всегда был из тех, кто думает кулаками. Очень скоро он попытается пустить их в ход; Тиффани знала это заранее, потому что проще ж бить, чем думать. Господин Пенни кулаками прокладывал себе путь в жизни.
Лютая музыка приближалась медленно: ведь очень непросто брести через поля тёмной ночью, когда ты накачался пивом, даже если ты при этом пылаешь гневом праведным. Девушке оставалось только надеяться, что сарай люди обыщут не в первую очередь, потому что тогда господина Пенни вздёрнут тут же, на месте. И если просто-напросто вздёрнут, это ему ещё очень повезёт. Заглянув в тот сарай и увидев, что совершилось убийство, Тиффани сразу поняла: без неё совершится ещё одно. Она наложила на Амбер заклинание, чтобы забрать её боль, и сейчас удерживала этот сгусток над своим плечом. Боль, понятное дело, была невидима, но перед её мысленным взором пылала оранжевым пламенем.
– Это всё тот пацан, – пробормотал здоровяк; по груди его стекала блевотина. – Явился не запылился, вскружил девке голову, та и слушать не желала ни мать, ни меня. А ей всего-то тринадцать. Позорище какое!
– Вильяму тоже тринадцать, – отозвалась Тиффани, стараясь, чтобы голос её звучал ровно. Это было непросто: ярость выплёскивалась и рвалась наружу. – Вы пытаетесь объяснить мне, что она слишком мала, чтоб влюбиться, но достаточно мала, чтобы избить её до полусмерти, да так, что кровь потечёт, откуда вообще течь не должна?
Тиффани не была уверена, пришёл ли здоровяк в сознание и образумился ли, ведь даже в лучшие времена разума у него было так мало, что поди узнай, есть ли он вообще.
– Накуролесили они будь здоров, – возразил он. – А мужик в доме порядок навести должон, что, не так, что ли?
Тиффани без труда представила себе пылкие речи, гремевшие в пабе, что послужили прелюдией к музыке. В деревнях Меловых холмов оружия, по большому счёту, не водилось, зато были серпы, и косы, и кровельные ножи, и здоровенные тяжёлые молоты. Это всё не оружие – до тех пор, пока ты кого-нибудь им не ударишь. А про дурной нрав старого Пенни знали все; его жена не раз объясняла соседям, что синяк у неё под глазом из-за того, что в дверь не вписалась.
О да, Тиффани отлично представляла себе разговоры в пабе, а тут и пиво подключилось, и люди начали вспоминать, где там по сараям висят все эти штуки, которые не оружие. Каждый мужчина – король в своём маленьком замке. Все об этом знают – по крайней мере, все мужчины, так что в чужие замки ты свой нос не суёшь и в тамошние дела не мешаешься, пока из замка не начнёт пованивать, а тогда приходится что-то с этим делать, пока все окрестные замки не обрушились. Господин Пенни был одним из мрачных секретов округи, но теперь тайное стало явным.
– Я – ваш единственный шанс, господин Пенни, – промолвила Тиффани. – Бегите прочь. Хватайте что сможете и бегите не мешкая. Бегите туда, где про вас никогда не слышали, а потом ещё чуть подальше, на всякий случай, потому что я не смогу их остановить, вы понимаете? Лично мне всё равно, что станется с вашей жалкой тушей, но мне не хотелось бы, чтобы хорошие люди превратились в плохих, запятнав себя убийством, так что улепётывайте-ка вы через поля, а я, так и быть, позабуду, в какую сторону вы двинулись.
– Ты не можешь выставить меня из моего собственного дома, – пробормотал он с пьяным упрямством.
– Вы уже потеряли дом, и жену, и дочь… и внука, господин Пенни. Нынче ночью никто за вас не вступится. Я всего лишь предлагаю вам жизнь.
– Это не я виноват, а пойло! – заорал Пенни. – Это всё по пьяни вышло, госпожа!
– Но вы пили пойло, и снова пили пойло, и снова, и ещё раз, – напомнила Тиффани. – Вы пили пойло весь день на ярмарке, а вернулись только потому, что пойлу захотелось баиньки. – В сердце Тиффани ощущала лишь холод.
– Ну, виноват!
– Этого недостаточно, господин Пенни, этим вы не отделаетесь. Ступайте прочь и исправьтесь, и тогда, может быть, когда вы вернётесь другим человеком, люди, глядишь, не побрезгуют поздороваться с вами или хотя бы кивнуть.
Тиффани неотрывно следила за его взглядом: она знала этого человека. Внутри у него всё кипит. Ему стыдно, он растерян и разобижен, а в таких обстоятельствах все Пенни мира бьют не раздумывая.
– Пожалуйста, не надо, господин Пенни, – предостерегла Тиффани. – Вы вообще представляете, что с вами будет, если вы поднимете руку на ведьму?
«С такими-то кулачищами ты, пожалуй, уложишь меня одним ударом, вот почему я намерена хорошенько тебя запугать», – подумала она про себя.
– Это небось ты на меня лютую музыку натравила?
Тиффани вздохнула.
– Музыкой никто не управляет, господин Пенни, вы сами это знаете. Музыка рождается сама собою, когда люди решают, что сыты по горло. Никто не знает, с чего она начинается. Люди просто переглядываются, встречаются глазами друг с другом, коротко кивают, а другие люди это видят. Другие люди перехватывают их взгляды, и так, очень медленно, начинает звучать музыка, и кто-нибудь хватает ложку и колотит ею по тарелке, а кто-то ещё уже стучит кувшином по столу, и башмаки притопывают об пол, всё громче и громче. Это звук гнева, этот звук дает понять: людское терпение иссякло. Вы хотите встретиться с музыкой лицом к лицу?
– Думаешь, ты тут самая умная, да? – прорычал Пенни. – С этой своей метлой и чёрной магией, раскомандовалась тут обнаковенными людями…
Тиффани испытала невольное восхищение. Вот перед нею человек, у которого в целом мире не найдётся ни единого друга, он весь обляпан собственной блевотиной, и – Тиффани принюхалась: да, точно, низ ночной рубашки пропитан мочой – и однако у него ещё хватает глупости огрызаться.
– Не то чтобы самая умная, господин Пенни, просто поумнее вас. А это не так сложно.
– Да ну? Смотри, не ровен час доумничаешься. Соплюха мелкая, а туда же, в чужие дела нос суёт… Что ты станешь делать, когда музыка придёт за тобой, а?
– Бегите, господин Пенни. Убирайтесь отсюда. Это ваш последний шанс, – убеждала Тиффани. И, скорее всего, не ошибалась: в гвалте уже можно было расслышать отдельные голоса.
– Не позволит ли ваше величество человеку хотя бы башмаки надеть? – язвительно осведомился Пенни. Наклонился за ними – башмаки стояли под дверью. Однако прочесть господина Пенни не составляло труда – как малюсенькую книжицу с захватанными страницами, где вместо закладки – кусок сала.
Он выпрямился, размахивая кулаками.
Тиффани шагнула назад, перехватила его запястье – и выпустила боль. Дала ей стечь вниз по руке, оставляя после себя лёгкое покалывание, в сложенную чашечкой ладонь, а из ладони выплеснула в господина Пенни всю боль его дочери за одну секунду. Его швырнуло через кухню и, должно быть, выжгло в нём всё, кроме животного страха. Он врезался в шаткую заднюю дверь, как бык, проломил её и исчез в темноте.
А Тиффани, пошатываясь, побрела обратно в сарай, где горела лампа. Матушка Ветровоск уверяла, что, неся чужую боль, ты её не чувствуешь, но это была ложь. Ложь во спасение. Боль, которую несёшь, очень даже чувствуешь, и поскольку на самом-то деле это не твоя боль, терпеть её как-то можно – но, расставшись с ней, ты потрясена и обессилена.
Когда с лязгом и гомоном нагрянула толпа, Тиффани тихонько сидела в сарае рядом со спящей девушкой. Шум гремел повсюду вокруг дома, но внутрь не врывался: таково одно из неписаных правил. Трудно поверить, что безвластие лютой музыки подчиняется каким-то правилам, но они есть; лютая музыка может продолжаться три ночи или ограничиться одной, и никто не выходит из дома, пока в воздухе грохочет музыка, и никто не прокрадывается домой и не возвращается под крышу, разве что молить о прощении, понимании или десяти минутах на сборы и бегство. Лютую музыку не подготавливают заранее. Она словно бы приходит на ум всем и каждому одновременно. Она начинает звучать, когда деревня решает, что кто-то слишком сильно избил жену или слишком жестоко – собаку, или если женатый мужчина и замужняя женщина позабыли, что состоят в браке не друг с другом. Были и иные, ещё более мрачные преступления против музыки, но о них в открытую не говорили. Иногда людям удавалось, исправившись, заставить музыку умолкнуть; но чаще они собирали пожитки и съезжали ещё до наступления третьей ночи.
Но Пенни намёка не понял бы, Пенни враскачку вышел бы навстречу толпе. Завязалась бы драка, кто-нибудь натворил бы глупостей, ну, то есть ещё бóльших глупостей, чем Пенни. А потом об этом узнал бы барон, и люди потеряли бы средства к существованию, им пришлось бы покинуть Мел и, чего доброго, отправиться за десять миль в поисках работы и начинать жизнь заново среди чужаков.
Отец Тиффани обладал врождённой чуткостью; он тихо приоткрыл дверь сарая через несколько минут после того, как музыка притихла. Девушка понимала, что отцу немного неловко: он – человек почтенный, уважаемый, но теперь так уж сложилось, что его дочь – персона более важная, чем он сам. Ведь ведьме никто не указ; и Тиффани знала, что соседи его на этот счёт слегка поддразнивают.
Тиффани улыбнулась, и господин Болен присел на сено рядом с нею, пока лютая музыка искала и не находила, кого избить, забросать камнями или вздёрнуть. Господин Болен и в лучшие-то времена говорил немного. Он оглянулся, задержал взгляд на крохотном свёрточке, поспешно увязанном в солому и мешковину: Тиффани положила его там, где Амбер не увидит.
– Выходит, это правда, она ждала ребёнка?
– Да, пап.
Отец Тиффани глядел словно бы в никуда.
– Хорошо бы Пенни не нашли, – проговорил он, выдержав долгую паузу.
– Да, – согласилась Тиффани.
– Кое-кто из парней говорит, его вздёрнуть надо. Мы бы их, понятно, остановили, но дурное это дело, когда люди встают друг против друга. Для деревни это всё равно что яд.