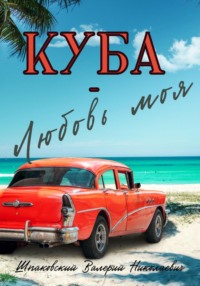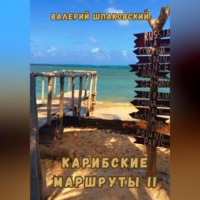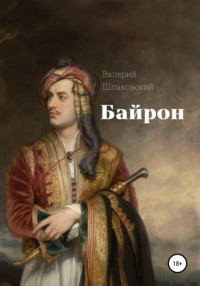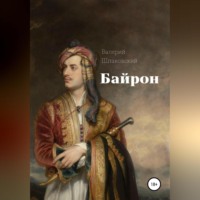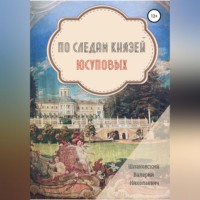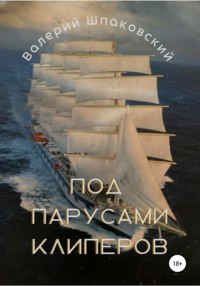Полная версия
По следам Князей Юсуповых
До своей кончины 2 сентября 1730 года князь Г. Д. Юсупов жил в этом дворце в Огородной слободе. Князь был похоронен недалеко от Кремля, в Богоявленском монастыре, к сожалению, могильная плита не сохранилась до наших дней, поэтому современникам не суждено увидеть и прочесть ту надпись, которую велела высечь на надгробии вдова. А надпись гласила: «Князь Григорий Дмитриевич Юсупов прожил 55 лет 9 месяцев 19 дней 1 час и 55 минут». Над надписью-эмблема. Как в печати на просфорах: в круге, представляющем вечность, изображение креста, знамение победы над смертию, и вверху: IC, XC, а внизу греческое слово НИКА, т. е. Иисус Христос Победитель. Земная жизнь этого, безусловно, великого и интереснейшего человека была измерена вплоть до минуты. Князь умер практически в самом начале правления царицы Анны Иоанновны, словно подозревая о том, что ничего хорошего оно не предрекает. На гробнице сподвижника Петра Великого, русского князя Григория Юсупова были начертаны удивительные слова: «Ветвь его от златаго иногда корене князей, многим порфиры носивших».
О «проклятии рода»Шла эпоха правления Анны Иоанновны. Она получила власть, можно сказать, случайно. Может быть, именно поэтому она так ревностно и так серьезно воспринимала каждое слово, сказанное о ней. По странному стечению обстоятельств, до нее дошли слухи, будто бы дочь приближенного когда-то к Петру Григория Юсупова Прасковья отзывается о правительнице вовсе не лестно и собиралась «императрицу склонить к себе в милость через волшебство». И, вскоре после смерти отца, Прасковья Григорьевна была схвачена и отправлена в Тихвин во Введенский монастырь. Но как же побороть в себе пылкий и яростный ногайский характер? Возможно, другая женщина, будучи на ее месте, восприняла бы ситуацию смиренно, ссылаясь на волю бога. Но только не дочь Григория Дмитриевича, Прасковья продолжала осыпать бранными словами царицу, Бога, настоятельницу, монастырь-всё, что ей попадалось на глаза, говорила даже, «что батюшка её ранее времени своего в землю сошёл, от того что наперёд слышал, что Анна не будет нам благодетельница». Разумеется, об этом донесли царице, не заставили себя долго ждать новые, более жесткие наказания; непослушную и неугодную воле правительницы женщину подвергли телесным наказаниям. А также назначили ссылку в более отдаленный монастырь-в Тобольск. Но даже на столь великом расстоянии было «слышно», что инокиня Прокла не желает ходить в монастырь, в соответствующие одеяния не облачается, а на монашеское имя и вовсе не откликается. Петербург был в своем решении непреклонен: глаз с нее не спускать и продолжать держать непокорную и непослушную княгиню в ножных кандалах. Даже под угрозой смерти, гордая наследница эмиров не взяла своих слов обратно и не произносила слов угодных правительнице и власти. Все-таки кровь-не вода! А брат Борис ей помочь не мог, или как говорили современники – не захотел! Даже после смерти Анны Иоанновны освобождения не последовало, известно, что в 1746 году Прасковья Юсупова была еще жива, но о дальнейшей ее судьбе ничего не известно.
Трагическая судьба Прасковьи Юсуповой вдохновила художника Николая Васильевича Неврева (1830–1904) на создание картины «Княжна Прасковья Григорьевна Юсупова перед пострижением». Картина написана в 1886 году, на ней перед важным чиновником и архиереем, выслушивая приговор, стоит под охраной молодая девушка с гордой осанкой, приподнятой головой, всем свои видом говоря о несломленном духе. С губ осужденной готовы сорваться слова негодования по поводу несправедливого обвинения. Картина Неврева в настоящее время хранится в Третьяковской галерее в Москве.

А экскурсия тем временем продолжалась. Наш гид Виталий, подождав пока мы полностью внемлем его словам и насладимся красотами Тронного зала, повел нас далее, в Китайскую гостиную, где я уже был, в Гербовом зале всем понравилась отделка стен шелковыми обоями цвета бордо.
По высокому карнизу Гербового зала были расположены декорации скульптурных медальонов с изображением гербов Юсуповых, в углу зала размещался традиционная печь с изразцами, а по середине зала размещалась круглая старинная кушетка-диван, похожую я видел позже в Питерском дворце на Мойке 94, венецианские зеркала на стенах, большая хрустальная люстра.
Проходя коридорами дворца вслед за Виталием, я оказался рядом с ним и спросил его, знает ли он, что в роскошном Тронном зале Юсуповского дворца еще во времена, когда он был конференц-залом ВАСХНИЛ на стенах висело четыре портрета русских царей. Он ничего не знал о других портретах, и я рассказал ему, что кроме Петра Великого и Петра Второго, третий портрет принадлежал царю Алексею Михайловичу, отцу Петра Первого. Царь Алексей Михайлович (1629–1676) за верную службу сделал большие пожалования Сеюшу-мурзе в северных губерниях России.
Четвертый портрет изображал царя Федора Алексеевича (1661–1682), при нем принял святое крещение под именем Дмитрия Сеюшевича правнук Юсуфа-мурзы Абдул-мурза, придумав себе фамилию Юсупово-Княжево.
Известно, что этот портрет был украден из дворца в советское время, грабителя поймали, но живописное полотно так и исчезло, его потом списали с баланса, оценив в …120 рублей!
В оформлении всего дворца сочетались роскошь и большой вкус. Юсуповы, после приобретения дворца неоднократно занимались перестройками и ремонтами, большую роль в которых играли в основном женщины.
В 1812 г. после наполеоновского вторжения палаты горели. Князь Н. Б. Юсупов, который был тогда в Астрахани, получил рапорт домовладельца о том, что «…московские дома совершенно огнем истреблены и что в них все пропало». Обгоревшие владения вскоре отремонтировали, по возможности сохранив прежнее декоративное убранство. Кирпича в Москве из-за массового строительства после войны не хватало, но князю Юсупову, как особо отличившемуся перед государством во время войны с Наполеоном, было выдано Комиссией по восстановлению Москвы 50 тысяч кирпичей.
В 1860 г. князь Н. Б. Юсупов-младший ремонтировал палаты, тогда же он прикупил у надворного советника П. А. Племянникова «средний» дом.
В 1877 г. Татьяна Александровна Юсупова решила снести старое крыльцо с лестницей на второй этаж и вместо него возвести новое с перестройками по проекту А. Эверта. Городская управа не утвердила первый проект, потребовав выдержать пристройку в общем для всего здания стиле московского барокко.
В 1891 г. начались большие ремонтные работы, вызванные приспособлением дома под семью графа Сумарокова-Эльстон. Крупномасштабную реставрацию возглавил архитектор В. Д. Померанцев.
Тогда над западным «средним» домом надстроили третий каменный этаж, вместо деревянного, и соединили его с древними восточными палатами посредством перехода, занятого зимним садом. В то же время, согласно воспоминаниям Ф. Ф. Юсупова, засыпали подземный ход в Кремль.

В 1892 г. Княгиня Зинаида Николаевна приглашает архитектора П. Р. Султанова, который прославился реставрационными работами в Кускове и Останкине, перестроить восточную часть здания. Султанов создал дом-миф, отражающий представление о палатах 17 века в конце века 19-го. Крыши сделали более крутыми и расписали «в шашку». Восстановили оригинальный, утерянный во время пожара 1812 г. декор кровли-высокие покрытия с дымниками и каменными флюгерами. В окна вставили наружные стекла с разнообразными рисунками переплетов, имитирующие слюдяные окошки 17 века. В домовой церкви Николая Чудотворца и Великомученицы Татьяны, помимо росписи стен и сводов, поставили новый иконостас.
В 1892–95 г. дворец расписали и декорировали в русском стиле по эскизам академика Ф. Г. Солнцева – известного художника и декоратора. Фасады юсуповских владений получили эклектичную полихромную окраску вместо первоначальной монохромной, а росписи каждого из парадных залов имели свой сюжет, что наша экскурсия в данный момент и осматривала.
В кабинете князя находилась коллекция древнерусского искусства, а мы по команде гида уставились на потолок с изображённым на нем Лунным календарем, с Солнцем и планетами солнечной системы, а вокруг светила-двенадцать созвездий. Стены кабинета расписаны в древнерусском стиле, а в углу спряталась очередная изразцовая печь-произведение искусства.
Завершала экскурсию Портретная комната, где на ярко-красных стенах разместились портреты всех поколений князей Юсуповых, начиная с хана Юсуфа.
Дворец принадлежал Юсуповым почти 200 лет – с 1727 по 1917 г. Последним владельцем дворца был князь Феликс Феликсович-младший, он не любил этот дворец и вспоминал об этом в мемуарах: «Все залы были сводчатые и украшены живописью, в самой большой была коллекция прекрасных золотых монет, портреты царей в скульптурных рамах украшали стены. Остальное состояло из множества маленьких комнаток, темных переходов, крошечных лестниц… Мы не любили этот дом… и никогда долго не жили в Москве. Когда отца назначили генерал-губернатором, мы поселились в пристройке, соединенным с главным домом зимним садом. Сам дом был предназначен для праздников и приемов».
Перед эмиграцией он тайно приехал в Москву из Крыма. Вместе с верным дворецким Бужинским они спрятали фамильные сокровища под главной лестницей за кирпичной кладкой до лучших времен, но вернуться на родину Феликсу так и не удалось.
После революции в 1920 г. Государство экспроприировало дворец. В его здании сначала разместились анархисты, потом Музей дворянского быта, затем Военно-исторический музей Красной Армии. Существуют разные версии того, как большевики узнали о местоположении тайников. В своих мемуарах Феликс Юсупов пишет, что несмотря на пытки, верный слуга Бужинский не открыл секрет. Но в 1925 г. сокровища древнего рода нашли – и в питерском особняке на Мойке 94, и в Москве. В последнем обнаружили глухую шестиметровую комнату с несколькими ящиками и сундуками. Тотчас была создана экспертная комиссия во главе с Л. Я. Вайнером, в которую вошли известные искусствоведы. Всего в тайнике насчитали около тысячи предметов, вес серебряных вещей составил 70 пудов (1120 кг), золотых – 33 фунта (13,5 кг). Ценности распределили между Госбанком и московскими музеями, в том числе Оружейной палатой Кремля.
Военно-исторический музей просуществовал в стенах дворца недолго. С 1928 г. в здании размещаются различные организации, такие как Совхозный институт, Институт планирования и экономики. Наконец по личному указанию наркома просвещения А. Луначарского единственным собственником дворца становится Всероссийская сельскохозяйственная академия им. В. И. Ленина (ВАСХНИЛ). Долгие годы ее возглавлял академик Н. И. Вавилов.
В 1960 г. Дворец Юсуповых поставили на государственную охрану и закрепили за ним статус объекта культурного наследия федерального значения.
В начале 21 века дворец пришел в заброшенное состояние, был разработан проект его реставрации, и она частично была произведена в 2004–08 г. Была разработана концепция Международного культурного центра «Дворец Юсупова». Под эгидой центра планируется проводить концерты и выставки, благотворительные акции, корпоративные мероприятия, заседания ученых советов РАСХН.
Сообщив нам эти последние радостные новости из жизни дворца, гид Виталий вывел нашу группу на улицу, и видимо решив добавить «клубнички» на прощание показав на глухую стену высокого кирпичного здания напротив въездных ворот дворца поведал, что некогда этот дом тоже принадлежал князю Н. Б. Юсупову Старшему и в нем располагался крепостной гарем князя из 15–20 красивейших девушек. Гарем был одновременно кордебалетом, а танцам обучал здесь известнейший в Москве в то время танцмейстер Йогель. Представления своего кордебалета Юсупов часто смотрел со старинными приятелями: по его знаку танцовщицы мгновенно сбрасывали с себя одежды и продолжали танцевать в совершенно нагом виде к полному восторгу зрителей. Потом Виталий раздал всем пригласительные билеты и пожелал нам приходить во дворец почаще, так как будут расширяться экспозиции после реставраций новых залов, и будут новые тематические экскурсии, как во дворце на Мойке.
Выйдя в Харитоньевский переулок, я на прощание провел рукой по красивой пыльной решетке и прочитал приглашение, оно гласило, что 14 октября 2012 г. В 19–00, в Тронном зале Юсуповского дворца состоится Концерт Дворцовой музыки эпохи Прусского короля Фридриха II (к 300-летию со дня его рождения) московского ансамбля старинной музыки «Da camera e da chiesa», под руководством художественного руководителя и солиста Виктора Фелициантова.
Ну вот, жизнь старого дворца продолжается, подумал я. Позже я еще несколько раз бывал в этом дворце, бродя по залам дышащими историей, но в конце 2017 года экскурсии в него опять прекратились, и моя дочь, проникнувшаяся историей этого дворца, никак не может в него попасть!
А 12 мая 2020 года пришла долгожданная новость, что дворец опять перешел в федеральную собственность, станет филиалом Архангельского и после масштабной реконструкции возобновятся экскурсии…
Усадьба Спасово–Котово. Июль 2011
Как я уже писал выше, «заболев» историей рода Юсуповых, я решил не останавливаться только на экскурсиях в Большой Харитоньевский переулок, а продолжать «копать пыль времен» дальше и глубже.
Изучив различные источники, я узнал, что почти родовым местом князей Юсуповых считалось подмосковное село Спасское – Котово, где была их первая родовая усыпальница. И вот жарким июльским утром 2011 г. я поехал на машине в город Долгопрудный, где когда-то было это село, следуя дорожным указателям выехал на берег Клязьминского водохранилища, с пляжа которого раздавались истошные крики купающихся детей и сразу увидел макушку православного храма Спаса Нерукотворного Образа.
Оставив машину на парковке возле храма, я пошёл изучать окрестности. Изучать в принципе особо было ничего, справа была Клязьма с пляжем, слева городские кварталы Долгопрудного, для изучения оставался сам храм с территорией, на которой располагались его хозяйственные постройки, сад и небольшой прилегающий погост.
На погосте лежали и стояли старинные колонны и надгробные плиты с выбитыми надписями, я долго лазил по траве вокруг них стараясь прочитать эти надписи и фотографировал их для более детального изучения позже. На одной плите я вроде разобрал полустертые надписи о князе Николае Борисовиче Юсупове, на некоторых плитах почему-то лежали монеты, кто их сюда клал, по какому обычаю?
Как гласит история, имение Спас-Котово на реке Клязьме купил князь Борис Григорьевич Юсупов, будучи московским губернатором в царствования Анны Иоановны и Иоанна Антоновича.

Приобретя имение, князь занялся перестройкой, освещением и реставрацией, уже построенной в 1684 году церкви Спаса Нерукотворного Образа. В 1754 г. князь обратил внимание на построенный «из давних лет» прежними владельцами села (боярами Репниными) придел, который к тому времени не был освещен и использовался для «поклажи церковной утвари и ризницы и в котором как престола, так и жертвенника, и признаков никаких церковных не имелось». Поэтому к весне 1755 г. в храме были устроены престол и Жертвенник, а уже в мае 1755 г. служитель дома Б. Г. Юсупова Щербачев обратился в Московскую Духовную Консисторию с просьбой о освящении вышеназванного придела «во имя Богоматери Владимирския» и получил указ о его освящении на вновь выданном антиминсе протопопом Большого Успенского Собора с братией.
Борис Григорьевич, внесший большой вклад в развитие имения Спасское, умер в 1759 г. и похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской Лавры в Петербурге. С тех пор владелицей усадьбы Спасское-Котово в Подмосковье стала его вдова, Ирина Михайловна, урожденная Зиновьева (1718–1788). У них было пятеро детей: четыре дочери (княжны Елизавета, Александра, Анна и Авдотья) и один сын Николай, лейб-гвардии конного полку корнет.

Ирина Михайловна Юсупова еще почти 30 лет после смерти мужа жила в Спасском и управляла им. В ее распоряжении, как написано в «Экономических примечаниях» Московской губернии за 1766–1770 годы, в селе Спасском-Котово Воскресенского уезда значится «церковь каменная Спаса Нерукотворного Образа, господский дом деревянный, сад с плодовитыми деревьями».
В 1772 г. умерла одна из дочерей Бориса Григорьевича и Ирины Михайловны – Анна Борисовна Протасова. В связи с этим в северном Владимирском приделе около левого клироса под столом был устроен склеп, в котором она была погребена.
По смерти Ирина Михайловна была похоронена рядом с дочерью в склепе храма. Над прахом обеих были положены чугунные доски и поставлена мраморная урна. Так скромная усадебная церковь превратилась в родовую усыпальницу князей Юсуповых, которую позже хотела заменить Зинаида Николаевна Юсупова, построив с помощью архитектора Р. И. Клейна, перед революцией 1917 г. в Архангельском огромный мемориал «Колоннада» Храм-Усыпальницу, но не успев перенести в него прах никого из князей Юсуповых, ни из Спасского-Котово, ни из Петербурга…

Побродив по погосту, я зашел внутрь храма, благо он был открыт, служб не было, и я спокойно мог походить внутри, рассматривая современное состояние храма и подмечая старинные детали, которые сохранились сквозь глубь веков, надгробные чугунные две плиты в углу под клиросом точно оттуда. Зашла молодая служительница храма и начала убирать потухшие огарки свеч, я заговорил с ней и к моему удивлению, она неплохо знала историю храма и поделилась своими знаниями со мной.
Следующим владельцем имения стал сын Бориса Григорьевича и Ирины Михайловны, известный екатерининский вельможа Николай Борисович Юсупов. При нем усадьба Спасское-Котово вошла в апогей своей обустроенности в культурно-бытовом плане, в селе появился кирпичный завод. В 1820 г. в северо-западном углу четверика Спасского храма (центральной части) в склепе под полом была похоронена невестка князя Николая Борисовича, Параскева (Прасковья) Павловна Юсупова, урожденная Щербатова. Место захоронения также обозначено надгробной плитой. Сам князь Николай Борисович хотя и мало бывал в Спасском-Котово, пожелал здесь провести последние годы. Он был похоронен в 1831 г. за алтарем Владимирского придела. Через год его сын, хозяйственник, благотворитель и филантроп Борис Николаевич Юсупов, выстроил над могилой отца часовню-усыпальницу, она сохранилась до наших времен под шаровидным куполом-крышей на мусульманский манер. Когда умер Борис Николаевич в 1849 году, то он был похоронен рядом с первой любимой супругой Прасковьей Павловной в склепе четверика.
До 1850-х годов Спасская церковь имела только один придел, Владимирской иконы. В 1850 г. при Николае Борисовиче Юсупове, внуке одноименного вельможи, был составлен проект южного придела, в честь святителя Николая Чудотворца. Новый придел, освященный в 1853 г. значительно расширил пространство храма.
В 1859 г. Юсуповы устроили при храме богадельню во имя св. мученицы Татианы, в 1863 г. была создана церковно-приходская школа. В начале 20 века появилась роспись стен. Но к тому времени имение приходит в запустение. Последний владелец Спасского-Котово был князь Феликс Феликсович Юсупов.
В 1934 г. храм был закрыт решением советской власти. Спасский храм был разграблен и наполовину разрушен. Оказались уничтожены колокольня от яруса звона, купола, оконные украшения. Расположение окон и дверей было перепроектировано. На месте усыпальницы была запущена угольная котельная. С южной стороны пристроено двухэтажное здание, помимо других построек на территории бывшего храма. Помещения церкви в разное время занимали спичечная и пуговичные фабрики, мыловаренная мастерская, областная типография.
С 1991 г. усилиями верующих началось восстановление храма, в условиях еще действующей на его территории типографии. Первое богослужение состоялось 8 сентября 1991 г. на праздник Владимирской иконы Божьей Матери. Первые после 60 лет запустения службы проводились в Никольском приделе, постепенно храм с пристройкой и территорией был полностью передан церковной общине.
К 1998 г. были восстановлены на купольные кресты. 8 сентября 1996 г. была восстановлена звонница. 31 мая 1998 г. архиепископ Можайский Григорий совершил чин освящения центральной части Спасского храма. 6 мая 2001 г. митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий освятил Никольский придел. Сейчас в храме ежедневно проводятся богослужения, сказала мне молодая служительница Ксения, работает воскресная школа и община храма регулярно принимает участие в общественных мероприятиях города Долгопрудного. Вот так теперь живет старый храм!

Борис Григорьевич Юсупов (1695–1759)
Любимец «Прыкрасныя Елисавет»!
У Григория Дмитриевича кроме дочери было еще три сына. Двое из них умерли, один за одним. И, как гласило пророчество рода Юсуповых, остался только один наследник мужского рода. Им был Борис Григорьевич Юсупов, он в свою очередь имел четверых детей – трех дочерей и одного сына.
Борис Григорьевич появился на свет 18 июля 1695 года. С его рождением была связана какая-то туманная история – брак родителей был заключен непосредственно в год рождения сына и оформлен брачным договором, согласно которому жених имел немало обязательств, разумеется в случае отказа от супружества (есть конечно информация, что родители князя вступили в брак в 1694 г., а не в 1695). В 1717 году, будучи 22-летним мужчиной – а по тому времени уже далеко не юным человеком, князь Борис Юсупов и еще двадцать молодых русских дворян направились в Тулон, где им предстояло окончить училище гардемаринов. Это позволили князю получить отличные инженерные знания, которые, кстати, пригодились ему позже. Более того, изучение французской системы высшего военного образования было полезно князю позже при осуществлении реформирования Петербургского Шляхетского Кадетского корпуса.
Борис Григорьевич первый в семье Юсуповых получил образование в Европе и соприкоснулся с западной культурой. «На своем коште» изучал иностранные языки. «В 1715 г. определен в Морскую Академию. В начале 1716 г. князь Б. Г. Юсупов определён гардемарином и «служил на кораблях «Архангела Гавриила» и «Девоншире»… когда… Петр Великий… командовать изволил четырех нашей флатами, а имянно Российским, агленским, дацким и галанским». Тогда же молодой гардемарин был послан с голландским флотом в Амстердам, а в начале 1717 г. послан из Голландии во французскую службу. В Тулоне в училище гардемаринов Борис Григорьевич находился до 1720 г., а затем на французских кораблях был в компаниях на Средиземном море, побывал на островах Ибица, Майорке, Минорке, в Испании, Алжире, Тунисе, на Сардинии и в Генуе. С 1723 г. находился в Константинополе при русском резиденте при османском дворе. В начале 1725 г. указом императрицы Екатерины I был возвращен в Петербург и состоял при Иностранной коллегии.
После смерти Петра Великого первые пять лет он пребывал в статусе рядового государственного чиновника. В 1730 году императрица Анна Иоанновна, которая не успела должным образом наградить внезапно умершего отца Юсупова – Григория Дмитриевича за помощь в политической борьбе, поэтому внушительную часть полагавшихся милостей преподнесла его сыну.

Ирина Михайловна Юсупова, урож. Зиновьева (1708–1788), сенатора Б. Г. Юсупова. Миниатюра с портрета Рокотова Ф. С. 1849
В 1734 г. князь Б. Г. Юсупов женился на Ирине Михайловне Зиновьевой (1718–1788) из древнего рода, давшего видных государственных и военных деятелей.
«За верность и ревностное радение» Борис Григорьевич удостоился чина действительного камергера Императорского двора «с рангом действительного генерал-майора». В 1736 году Юсупов получил назначение «к присутствию в Правительственном Сенате» и возглавил его. Присутствие в Санкт-Петербурге во время многочисленных поездок императрицы в Москву, выполняя как особые и ответственные поручения, так и исполняя текущие государственные дела. В ту пору это могло быть опасно – капризная правительница и ее фаворит регент Бирон в любом русском, даже ногайского происхождения, видели «врагов Престола и Отечества». В Русском Биографическом словаре чиновничьей деятельности Бориса Григорьевича дана такая характеристика: «Князь умел ловко плыть по течению, действуя, впрочем, умно и в пользу русского просвещения в такое время, когда беспечность позволяла направлять его во вред, угождая немецкой рутине и ограниченности».