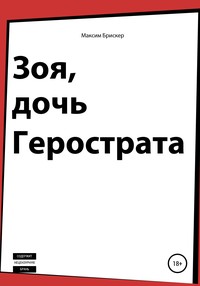полная версия
полная версияЭдипов комплекс
Мы не застали его дома. Его увезла похоронная буквально за полчаса до нашего приезда. Дома была наша Валентина, в слезах. Она и тетя Алла укладывали его, уже умершего. У него свело ноги, они их распрямляли. Когда он умирал, у него брызнули из глаз слезы, как рассказала Валентина. Она возилась на кухне, по своему обыкновению, но что-то заставило ее кинуться в комнату, и она увидела папины последние мгновения. Так что уходил он не в одиночестве, меня это немного успокоило. Мы принялись улаживать дела, покупать похоронные венки, гроб. Всех этих невеселых дел оказалось так много, что мы ими занимались вплоть до похорон.
Похороны: мы и другие родственники, все с материнойой стороны, а также некоторые друзья с женами, приехали к моргу и ждали, когда его выкатят. Тетя Галя подглядывала в окошке морга за приготовлениями с каким-то праздным любопытством. Она даже подошла ко мне и заговорщически прошептала: «Хочешь поглядеть? Он там лежит уже, готовенький». Я отрицательно покачал головой. Когда его выкатили из покрытого трещинами мрачного здания, я словно вдохнул раскаленный воздух. Вот он, лицо вздувшееся, холодное, синюшное после холодильника в морге, не до красоты, в нарядном гробу, с ленточкой на голове, на которой написано «Спаси и сохрани». Брат, православный, заставил всех подойти и поцеловать ленточку на его лбу. Я прикоснулся к ленточке губами, ощутив холод и безмолвие его тела.
Потом все пошло быстро, а я наоборот был как во сне, заторможен: отпевание, посадка в автобус, курс на кладбище, суета, гроб в яме, земля, падающая на него, вот она уже закрыла гроб полностью. Могила готова. К лету надо будет поставить один большой, на двоих, памятник им с матерью. Поминки, на которых сначала все были сдержанны, но мало-помалу начали говорить о всякой ерунде: о ценах на мясо, о коммунальных платежах, которые опять подскочили. Они говорили так жадно, словно хотели успеть насладиться моментом, поверить раз и навсегда в то, что они живы, что так будет всегда. Меня ужасно раздражила эта торжествующая мещанская атмосфера, эта жадность к жизни, которая на поминках в честь матери так не задевала. Родственники не очень-то любили отца, вообще не любили, они скорее терпели его из-за матери, он не был им родным по крови, да еще с таким характером… Он к ним в целом неплохо относился, хотя не забывал пройтись по их недостаткам. А их раздражала его яркость и несдержанный язык, да и кого он только не раздражал! Никто не вспомнил его щедрость, его альтруизм, который в нем просыпался почаще, чем в других. В тостах одни вздохи и воспоминания о последних годах, в которые досталось и матери, и нам, и ему. Сочувственные взгляды, адресованные мне и брату, ведь мы стали круглыми сиротами. Невозможно было остановить этот поток соболезнований, пусть и от всего сердца. Во мне словно проснулся отец – критик, скептик и эрудит, резко реагировавший на пошлость и лицемерие. Брат тоже устал от сетований, от однобоких воспоминаний. Он словно озвучил мои мысли – предложил вспомнить те времена, когда родители были в силе и устраивали праздники. Вместо этого разговор свернул на более насущное: на квартиру, которая нам осталась от родителей. Все сразу оживились; еще бы, речь шла о деньгах, главный вопрос был таков: «Ну что, продавать будете?» Конечно, будем, как можно быстрее расстаться с этим местом, где умерла сначала мать, а теперь отец, с этой квартирой траура.
Глава 32
В конце марта, когда деньги от продажи гаража уже совсем закончились (работу я не искал), позвонил брат и сказал, что на квартиру родителей точно нашлись покупатели. Они тряслись от возбуждения и хотели купить ее немедленно. Нам надо было снова приехать в Тверь и, как двум наследникам, все подписать и получить, в общем, провести сделку.
После продажи квартиры я получил свою долю наследства, ровно половину. Первым делом купил сразу несколько пар обуви, на весну и лето, не слишком дорогой, но добротной. Потом последовали холодильник, стиральная машина, недорогой ноутбук.
Я по-прежнему не искал работу, сидел дома и предавался воспоминаниям. Это, по сути, и была моя работа. Первое важное воспоминание было связано с фотографией, одной из немногих, что я увез после того, как мы поделили с братом вещи родителей. Я взял в основном фотографии и книги. Остальное осталось ему.
На черно-белой постановочной фотографии, сделанной на главной улице Твери (мы специально заказывали фотографа) двадцатипятилетней давности: отец, мать, старший брат и я. Из-за сильного солнца все трое вышли прищурившимися, но смотрят в объектив. Один я заслонился рукой, не в силах терпеть такой яркий свет. Я довольно маленький, мне лет шесть, не больше, я испортил снимок. Пальцы второй руки растопырены. Материно лицо непривычно сильно накрашено, она одета в модное платье-зебру, которое отец привез из последнего загранрейса. Отец выглядит настоящим денди, в идеально отглаженных брюках, в элегантной рубашке, галстук повязан безупречно, лицо вытянуто, словно он на приеме у английской королевы, немного высокомерный взгляд. На брате джинсовая куртка и футболка с надписью «Монреаль», у него отчетливо виден кадык, на голове шапка густых волос, челка почти закрыла глаза (мода того времени). У меня пухлые щеки как у карапуза, недовольное лицо, шорты и яркая футболка с парусом.
Мне казалось, я помнил предшествующие этой съемке события: отец с его натянутым, аристократичным лицом, мать с растерянными, грустными глазами – меня расстраивал этот не идущий ей макияж, делавший ее похожей на японку из фольклорной театральной постановки. Смотря на это фото, я осознал, что готов был уничтожить любого, чтобы она была только моей, чтобы ее никто не расстраивал и не обижал. Я готов был ее защищать, и от него тоже. Я перевел взгляд на брата: он также выглядел не очень счастливым, видимо, его расстроила очередная ссора родителей. Да, родители ругались перед съемкой, были взвинченные. Да много ли было дней, когда они не ругались?
Я также помнил, или мне показалось, что когда мы закончили с фотографированием, то возвращались домой на такси. Отец и мать снова стали ссориться, на этот раз из-за меня. Отец говорил, что я испортил фотографию, подняв руку в самый неподходящий момент, чтобы защититься от солнца. Он обвинял мать в развращении меня: «Воспитала сыночка! Минуту постоять не может спокойно!» Я надулся и ушел в свою комнату – играть и рисовать. Мать не пришла меня утешать. Тем самым она подтвердила, что я виноват. А может она просто устала.
Глава 33
Также я вспомнил, как мне завидовали другие дети во дворе, в доме в те годы, когда отец ходил в моря. Это была непроходимая, непролазная зависть. Как джунгли. Утробная зависть. Когда мы перестали жить лучше всех, я был вынужден играть по-другому – находить что-то, что отличало меня от других. И я нашел: меня отличало чувство собственной уникальности, которое внушала семья, отец и отчасти мать. Но во мне были сильны и другие качества, которые я был склонен называть «темными»: неуверенность, агрессивность. Плюс стремление ни с кем не делить мать. Потом, правда, пришло осознание того, что надо меняться, жить своей жизнью. Но это плохо получалось: я все равно был привязан, привинчен к матери, я зависел от нее все больше, от ее настроения, от ее одобрения. Я панически боялся ее огорчить, как тогда, когда мы, играя, разбили с соседкой Наташкой витражное окно в двери, ведущей на кухню. В тот момент я всерьез думал о том, чтобы покончить с собой, только бы не печалить мать.
На фотографии, где мы были запечатлены всей семьей и которую мне «удалось» испортить, я прежде всего видел того человека, от чьего влияния всегда хотел освободиться – отца. Его интеллигентное лицо внушало мне ужас и восхищение, и отвращение тоже, будило жестокость и агрессию. И мать, накрашенная как японка из театра Но, хрупкая, в модном платье, худющая в свои сорок с лишним, – я должен был защитить ее от него и тех, кто претендовал на ее внимание. Обида на отца за то, что он игнорировал меня, предпочитая общаться со старшим братом, ненависть за то, что он был так жесток с матерью и со мной. Я снова стал несчастным маленьким мальчиком. Да, именно несчастным, потому что родители так много времени проводили в скандалах.
Потом пришли другие воспоминания о том, как отец вернулся из морей, после сокращения – его должность упразднили, она была больше не нужна, КПСС и вся страна дышали на ладан, он был в растерянности, надо было все начинать сначала. Он часто проводил время за столом с выпивкой, с друзьями или с дядей Юрой, позже, когда появился дом в деревне, с братом. Однажды мне пришлось даже идти за ним в какой-то кабак, он вышел оттуда пьяный в жопу, я шел то впереди, то сзади него, но всегда на дистанции, он поймал такси, я сел и сжался на заднем сиденье. Он щедро расплатился с таксистом, который глядел на него с пониманием. Дома был снова скандал. Отец не был алкоголиком, но пил немало, даже чрезмерно, особенно в те «мокрые» годы, когда «сошел на сушу». Времена были тяжелые, но тяжко было всем, не только ему. Эти «марафоны», длившиеся порой целую ночь, с выпиванием, долгими беседами и песнями под гитару, подрывали его здоровье, но ему было все равно. Сначала инфаркт, затем микроинсульты, потом обширный инсульт, который превратил его в полуживого человека на целых семь лет.
Глава 34
На следующий день с некоторой неохотой я пошел в кино, на фильм фон Триера «Рассекая волны». Вначале меня раздражала назойливая камера, дергающаяся и неровная, мельтешение лиц и жестов (эксперименты с «Догмой-95»). Но я быстро включился в сюжет, стал следить за жизнью главных героев, Бетти и Яна. Тема жертвенности и страдания оказалась как никогда кстати. У нас в семье тоже это было: мать, быть может, не так сильно любя отца, но движимая чувством долга, самоотверженно ухаживала за ним, как Бетти за своим Яном. А отца жизнь заставила страдать, сделала его беспомощным, словно это был его выкуп перед ней. Я смотрел на умирающую Бетти, звавшую Яна, и всхлипывал как ребенок. Когда под выворачивающую наизнанку музыку Баха шли титры, я зарыдал в голос.
Так сильно, как я рыдал на фильме, я плакал лишь тогда, когда узнал, что матери осталось совсем немного. Я сидел в больнице, на скамейке, в обшарпанном, тоскливом коридоре, с зелено-белыми стенами, с чудовищным бежевым линолеумом на полу, от которого шел запах. Тетя Галя вылетела и крикнула, глядя мне в глаза: «У нее последняя стадия, «четверка»! Это значит, что остались месяцы, даже вряд ли месяцы… Возможно, недели. Надо готовиться к худшему». Я ревел как белуга, а мать, выйдя из кабинета врача и увидев меня заплаканного, улыбнулась так беззащитно и кротко, что у меня еще больше заныло в сердце, и сказала: «Глупый, ну что ты так убиваешься? Вот придумал, плакать, жалеть меня… Я ведь достаточно пожила!» Неправда: она хотела жить до 80 лет.
Глава 35
В одном из альбомов по искусству я нашел репродукцию картины «Злые матери». Я стал вспоминать, когда я видел мою мать злой или хотя бы разозленной. Часто это случалось из-за ссор с отцом, иногда со старшим братом или даже со мной. Однажды брат нагрубил ей, а я хотел ударить его за это. Порой я тоже был с ней груб. Однажды, в ответ на ее придирки, я послал ее матом. Она очень обиделась. Я так и не попросил у нее за это прощения, но мне было стыдно. Частые ссоры и скандалы с отцом – это главный рефрен всех лет, проведенных вместе, в той квартире, из которой сбежал брат, когда ему исполнилось 18 лет. После них она и правда была злой, нет, скорее подавленной. Как-то она мне призналась, что одно время даже хотела руки на себя наложить. Я не понял этого, пока не прочитал, уже после ее смерти – ее наивную «исповедь», написанную от руки на листах в клеточку из моей школьной тетради. В ней она честно говорила, что ей невыносимо жить «с этим человеком», даже ради детей… Тогда я понял, на какие жертвы она шла ради нас. Правда, после этого мгновения слабости она неожиданно стала сильной – перестала терпеть отца, стала с ним сражаться. Однажды она обожгла его утюгом, и с тех пор он стал ее бояться, она перестала давать себя в обиду. Я был полностью на ее стороне. Во время ссор с матерью отец прохаживался и по мне, он знал, что я ее верный союзник. Потом мы разъехались по комнатам: у нас была трехкомнатная квартира. Мне досталась самая большая и привилегированная комната, «гостиная». Матери отошла самая маленькая, спальня, почти все пространство которой занимала двуспальная кровать, на которой она спала теперь одна. Отцу была отдана моя бывшая «детская», в которой у него был свой холодильник. Родители всерьез готовились к разводу, отец жил на «своих харчах» и не ел то, что готовила мать, ходил в грязном белье; он был абсолютно беспомощен в быту. Развестись они так и не смогли, отец пришел ко мне однажды и сказал, что «любит маму». «Скажи ей сам об этом», – ответил я ему. Мать была настроена решительно, но потом у отца случился инфаркт, он чуть концы не отдал. Когда я навещал его в больнице, он порывисто обнял меня; впервые такая нежность с его стороны. После этого о разводе не было разговоров, тем более что «мягкий развод» состоялся. Отец был рад, что у него появился свой угол, мать тоже: ее ужасно раздражал его храп, его привычка подскакивать среди ночи и бежать на горшок, его придирки и несносное настроение по утрам. После инфаркта он стал чуть мягче. Правда, вскоре характер взял свое, по крайней мере я с ним по-прежнему ссорился. С матерью у него ссор стало гораздо меньше. Однажды они купили новый телевизор, были возбуждены и радостны, он называл ее «Любушка», она его «отец» – самое ласковое, что она себе позволяла в его отношении. А я чуть не в знак протеста накурился травы и нажрался галлюциногенных грибов – мне было лет двадцать. Ходил один по городу, встречал знакомых из универа (я тогда учился на третьем курсе) и рассказывал им про свои впечатления. Звонил домой из телефонной будки. Мать просила меня вернуться домой, я не хотел возвращаться и все блуждал по городу до утра. Зашел со знакомыми со второго курса, которых встретил в центре, в какой-то ночной клуб, стоял там среди танцующих людей и пытался сосредоточиться на собственных ощущениях… Утром мы вышли из клуба, на некоторых девушках был «готический» макияж, смотревшийся жутковато. Неожиданно одна из них упала прямо лицом в асфальт, все забеспокоились, вызвали скорую. «Это героин», – услышал я от кого-то. Приехала скорая, ее откачали, а я все смотрел на ее бледное как полотно лицо в черном макияже. Уже ходили трамваи, я сел на «пятерку» и доехал до дома, не заплатив за проезд. Когда открывал дверь квартиры и проходил к себе в комнату, понял, что мать так и не спала всю ночь, ждала, когда я приду.
Каких героинь напоминала мне мать, когда лежала на смертном одре, если речь зашла о живописи? Бледных женщин с картин Рембрандта, похожих на тени? Но он никогда не писал мертвых. Неистовых фурий Сегантини? Это ведь он написал «Злых матерей», у него были какие-то счеты со своей матерью, если не изменяет память. А может, она мне тогда напомнила тех высохших, неестественно длинных, почти прозрачных, похожих на бесплодные ветки зимних деревьев, женщин на картинах Шиле? В день ее смерти я вглядывался в ее лицо, словно хотел выпытать его тайну. Но лицо молчало, ревниво хранило свой секрет. Знал ли я когда-нибудь это лицо, это тело, этот дух, что покинул ставшее жестким тело? Все, что я видел, была лишь смерть, смерть моей матери. Я чувствовал полное бессилие перед этой непроницаемой материей. Это лицо и неведомый мир, находившийся за ним, плотный и молчаливый, словно гипнотизировал меня. Молчание – вот что было страшнее всего. Молчание смерти – ее смерти, смерти вообще. Она больше ничего не скажет, не даст ни единого намека. Отныне она будет всегда молчать. Вот что я думал, когда вглядывался в эти торжественные, безмолвные черты ее заострившегося лица.
Потом я неожиданно вспомнил колени материнойой подруги, тети Тамары, на которых я так любил спать в детстве. Мы часто ездили вместе – мать, отец, я, тетя Тамара и ее муж, дядя Саша, по городам и деревням неподалеку от нашего города, в Москву за продуктами и просто на отдых. У тети Тамары и дяди Саши был «Москвич». Однажды мы приехали в какое-то село, там, в продуктовом магазине, продавалось мясо. Это было начало восьмидесятых, и мясо в советском магазине было настоящим счастьем. Родители, тетя Тамара и дядя Саша побежали в магазин, а меня оставили в закрытой машине. Прошло, как мне показалось, очень много времени, они все не приходили, и я подумал, что они меня бросили. Я горько заплакал, меня выворачивало от рыданий и от жалости к самому себе… Когда они вернулись, возбужденные и радостные, со своим мясом, они даже не заметили, что я плакал.
Глава 36
Насмотревшись альбомов по искусству, я решил поехать в Вену, на выставку художника-экспрессиониста начала ХХ века Эгона Шиле в музее Леопольда. Когда я увидел его картины и рисунки с угловатыми, нескладными фигурами, я сразу понял, как важно смотреть на оригиналы. Эффект от холстов в натуральную величину многократно усиливался. На выставке были автопортреты, с которых глядели угольно-черные глаза художника, полные тоски и преждевременного разочарования. Интересно было взглянуть и на пейзажи с видами городка Крумау, в котором он жил со своей натурщицей и где на него пожаловались властям жители, возмущенные «безнравственностью» его работ и образом жизни. Он даже недолго сидел в тюрьме после суда. Я вглядывался в его портретные работы, с которых напряженно смотрели его собственные глаза и глаза его моделей, в эти изломанные, немного манерные позы, которые принимали он и его герои. Но особенно меня поразили его поздние, семейные портреты. С них глядели умиротворенные, но полные неизъяснимой печали лица.
На выставке была небольшая раскрашенная деревянная панель под названием «Мертвая мать», чем-то напоминавшая православную икону. С нее смотрела тяжко и меланхолично женщина-луна. Мое сердце сжалось. Die Totte Mutter.
В Австрийской Национальной галерее я увидел запомнившуюся мне картину Сегантини «Злые матери». Она висела не на самом почетном месте, лучшие места были отданы Климту и тому же Шиле. Но именно у нее я провел больше всего времени: в зимнем поле из высохшего дерева словно прорастала рыжеволосая женщина, к ее тощей груди присосался плачущий, тоже рыжий ребенок.
В Вене я походил по городу, зашел в дорогое помпезное кафе на Рингштрассе, съел сухой торт Захер, который мне не понравился, попросил у официантки особенный «венский» кофе под названием «Кайзермеланж» (вычитал про него где-то), она улыбнулась и сказала, что у них нет такого. Тогда любой другой кофе. Она принесла мне «Венский меланж». После этого поехал на Центральное кладбище, там долго бродил в тишине среди надгробий и стел, чувствовал себя одиноко и заброшенно среди кладбищенского безмолвия, но мне нравилось это ощущение. Когда шел от красивой церкви с куполом по центральной аллее, меня обогнала бегущая девушка в спортивной форме, с плеером в ушах. Хотел еще съездить на могилу Моцарта на другом кладбище, но раздумал. Приехав обратно в центр, в старый город, который в Вене называют «Внутренним», бродил там по улицам, никуда не заходя. Оказавшись на улице Берггассе, вспомнил, что где-то рядом должен быть дом-музей Фрейда. И точно, он показался через секунду, я вошел туда по инерции, и все время было чувство, что я здесь уже был. Походив по пустоватой квартире отца психоанализа, из которой под конец жизни его выкинули нацисты и подремав под короткий документальный фильм о нем, купил на выходе несколько открыток с его фотографиями и вышел. Когда засыпал в гостинице, думал, как бы хорошо было, если бы он меня проанализировал. Возможно, ему была бы интересна моя ситуация – молодой мужчина с эдиповым комплексом, долгое время ненавидевший отца и обожавший мать.
Глава 37
Уже будучи «дома», на съемной квартире в Москве, включил телевизор, там шла прямая трансляция с Уимблдонского турнира. Вспомнил, что отец, когда мне было лет десять, смеялся над моей любовью к теннису и издевался над спортивным обозревателем, комментировавшим по ТВ один из матчей Уимблдона. Он считал, что обозреватель говорит не «Уимблдон», а «Умблдон», и за это называл его косноязычным кретином каждый раз, когда тот произносил это слово. Меня достала эта шарманка, мне хотелось заорать на него. Но я боялся его.
После этого мне вспомнилась яркая открытка, которую он однажды привез с Запада. Она стояла на видном месте, в серванте. На ней на тюльпановом поле, полном ярких цветов самых разных оттенков и разновидностей, лежала голландка в ярком национальном костюме, в башмаках и с «довольно вызывающим макияжем» (так сказали бы о ней в советские времена), улыбающаяся и показывающая крупные белые зубы. Мои сверстники, приходившие к нам домой, все как один считали ее проституткой.
Отец вообще был позером, обожал всех поражать и восхищать, у него, у нас, то есть, все должно было быть лучше. Он кичился этими вещами с Запада, открытками, сувенирами, одеждой, едой. Я и брат, мы тоже ходили задрав нос. Когда ко мне в гости приходили соседские дети, я показывал им игральные карты с голыми бабами, обнаруженные в баре. В моей комнате жил попугай Пакито, которого отец провез с Кубы контрабандой. Тогда весь экипаж обзавелся экзотическими птицами. Операция проходила под командованием отца, он был еще тот авантюрист. Потом он жалел, что привез этого «красивого дурака», попугая-самца, который ни хрена не говорил, кроме как «Пакито дурак!» Надо было самку, они хорошо говорят, но невзрачны. Зато наш был и правда красавец: густо-зеленые перья, салатовые под хвостом, красная манишка под клювом, белая голова. Он не летал, а только смешно ковылял своими короткими ногами. Я был к нему очень привязан. Иногда, правда, он меня утомлял. Но я чистил его клетку, а отец его мыл. Во время мытья Пакито жалобно пищал, а тот продолжал его мыть, называл маленькой вонючкой и приговаривал, что теперь-то он будет чистым.
Глава 38
Пакито однажды больно укусил деда Ивана, материногоого отца. Дед Иван был со мной ласков, баловал меня, дарил шоколадки и очень уважал отца. Но в семье дед вовсю отсыпался на своих ближних – патриархат. Мне рассказывал про это дядя Юра, его сын, материн родной брат, он часто у нас жил, когда приезжал издалека, он плохо ладил с Иваном: «Собрались мы все за столом, жрать хочется, мать только что лапши наварила с курицей. Сидим, ждем, когда каждому протянет миску полную с лапшой – запах от нее такой идет, аж слюна течет… Отец мне замечание сделал, я ответил, ему показалось, что невежливо. Ну, он эту плошку-то с лапшой тяжелую схватил и кинул в меня, в голову целился. Я увернулся, реакция была хорошая. Горшок на мелкие кусочки, лапша по столу течет. Вот и поели!»
Дядя Юра стал блестящим футболистом, играл за сборную страны, был настоящей звездой. Женился на самой красивой девушке в Иркутске. Но вскоре брак дал трещину. Он женился вторично, еще более неудачно. Вторая жена просто использовала его, даже не жила с ним. Появлялась только тогда, когда нужно было вытащить из него деньги. Наша семья ее дружно ненавидела, особенно мать. Они тем не менее регулярно приезжали к нам и оставались неделями. Они использовали и дядю Юру, и нас. Мать, несмотря ни на что, принимала их, кормила. Жена дяди Юры пыталась подластиться и к ней, с ее крымской ласковостью и пением сирены. Но мать не покупалась на эти дешевые трюки. А дядя Юра нес на себе этот крест, то есть жену и дочь, которые приезжали лишь для того, чтобы сбить с него бабок, покорно, как Иисус, восходящий на Голгофу. Он стал очень религиозным, хорошо напивался и начинал нескончаемый монолог про святость, ангелов и прочее. Переехав в Тверь, он работал тренером местной футбольной команды, долго жил у нас, пока ему не дали квартиру. Поначалу папе это нравилось, его это развлекало, было с кем выпить-поговорить, но потом надоело: дядя Юра все меньше его слушал, без умолку говорил про ангелов и святых, про фарисеев и саддукеев. Что, дескать, надо отрешиться от земного. «Ну и отрешайся! А нас не трогай!» – хором ответили ему однажды отец и мать. Он стал сильно пить несмотря на тренерскую работу, сидел целыми днями на кухне и рассказывал про ангелов и фарисеев.
Однажды, еще до его переезда в Тверь, первая жена дяди Юры, тетя Люда, приехала к нам погостить. Это было где-то в восьмидесятых, они уже были разведены. Через день приехал и дядя Юра. Тетя Люда лелеяла драму разрыва с ним, трагедию брошенной женщины и разбитого навеки сердца. Она так и не стала ни с кем жить после развода, хотя поклонников у нее было много. Сигарета в ее руке и немного алкоголя в бокале – и ты, глядя на нее, попадал в мир блоковских femmes fatales. Жаль, что она не носила вуаль. Я мог любоваться на нее часами, сидящей с сигаретой, с родинкой над губой как у Мэрилин Монро, с прической а-ля Барбарелла. Она была словно актриса на пенсии, прекрасная has-been, эдакая Вероника Фосс, только не блондинка с героиновой пропастью в сердце, а флегматичная шатенка, французско-американский шарм, хриплый, густой, прокуренный голос, Джоан Кроуфорд, скрещенная с Брижитт Бардо. Немного виски в бокале, красиво прикуривает от папиной зажигалки – наблюдая за ней, я словно смотрел черно-белый американский фильм.