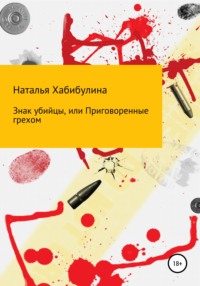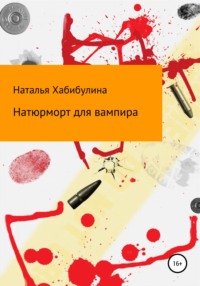полная версия
полная версияДжокер в пустой колоде
Доронин хотел что-то сказать, но в этот момент к скамье подошла Анна Григорьевна.
Глава 18.
ОН уже много часов шел по черному выжженному лесу, пропахшему пороховым дымом. Глаза застилала красная пелена, пот черной грязью струился по лицу. Нещадно болел раненый бок. ОН знал, что рана его не опасна, хоть и сильно кровоточит, но если её не обработать, не перевязать – через несколько часов может начаться заражение. А ОН не мог позволить себе умереть – не потому что жалел себя или боялся смерти, ОН понимал, что смерть – это лишь непристойный физический процесс, – просто не мог позволить умереть вместе с НИМ своему детищу, только-только рожденному дьявольским разумом. ОН знал свое предназначение – ЕМУ принадлежит честь тайного открытия, он нашел свою Гиперборею со своими законами бытия и существования человечества. Для этого ОН появился на свет, а теперь ступил на эту чужую истерзанную землю, затоптанную сапогами своих соплеменников. Сейчас ОН шел к тому, кто ждал ЕГО давно, чтобы вместе с НИМ закончить начатое много лет назад сотворение тайного оружия. ЕГО фюрер жаждет победы – он идет напролом. Тоталитарная сущность главного нациста требует уничтожения враждебного ему, но не менее репрессивного режима человека из Кремля, стремящегося к всеохватывающему контролю над всеми аспектами жизни своего народа. «Железные кони» гитлеровской армии, выбивающие смертоносный огонь из-под копыт и «бешеные псы», беспрестанно гавкающие: «Хайль!», сметают все на своем пути, но при этом сами исчезают в бездне небытия. ЕГО же оружие циничнее и страшнее – крохотное, ни кем не видимое чудо, как тать в ночи, способно пробраться в любую жизнь и растоптать ее, разрушить лишь по одному только ЕГО желанию. Оно может исправить и дополнить сотворенное Господом человеческое существо. И теперь это ЕГО прерогатива – подарить жизнь или отнять ее. ОН приблизил себя к Всевышнему, и не простит себе, если не закончит начатое. ОН сумел и того, кто ждет его здесь, заставить думать его извращенным сознанием. Потому-то, падая беспрестанно на колени от усталости и боли, глядя отекшими глазами в грязное дымное небо и шепча: «O, Main Got!», вновь вставал и шел. Чужая серая гимнастерка пропиталась кровью, и от этой черной желатиновой массы стала каменно-тяжелой, тащила тело вниз, заставляя бесконечно бороться с непреодолимым желанием лечь на упругий, мягкий мох, захватить боль немеющими руками и баюкать ее, засыпая вместе с нею.
Когда ОН, больше не в состоянии сделать ни шага, в очередной раз опустился на колени, прижимая одной рукой другую к ране, наклонив вперед седеющую голову и подавшись ею вперед, медленно-медленно начал падать, скорее почувствовал, чем увидел, летящего к нему ангела. Последней была мысль, что ОН оказался непорочен в своих поступках, что не погрешил против заповедей Господних, что правильно толковал свое предназначение на земле, если сам Бог послал за НИМ это легкое бесплотное существо с нимбом вокруг головы, ибо слуги дьявола, облачённые в черную мантию зла, не могут так вкусно пахнуть разноцветьем трав и родниковой водой, которая живительной влагой вдруг просочилась во все клетки ЕГО страдающего тела.
Потолок над ЕГО головой еще качался, но в мышцах уже чувствовалась жизненная сила, побеждающая боль и немощь, разжигающая огонь обыкновенных плотских желаний, наполнявшая мозг звериной радостью и мыслью: «Жив! Жив! Жив!» Над ним склонилось нежное лицо «ангела» – белокурая девушка с толстой косой вокруг головы гладила его по волосам и тихо говорила: «Ну, вот и хорошо! Скоро поправитесь! Рана неглубокая, затягивается быстро!» – и очень светло улыбалась.
Потом был пахучий травяной чай, блюдечко с янтарным медом, кринка с топленым молоком и краюшки черного хлеба. Тело ЕГО приобрело прежнюю упругость, мышцы постепенно налились сталью. Ноги требовали движения. И в одну из душных ночей уходящего лета ОН тихо встал с мягкой перины, снял с гвоздя у двери старенькие брюки и пиджак ушедшего на фронт хозяина, и быстро, не оглядываясь, ушел в чернеющую даль.
Глава 19.
Анна Григорьевна осторожно опустилась на край скамьи, на которой сидели Калошин с Дорониным. Майор повернулся к женщине:
– Знаете, я думаю, что не ошибусь, если скажу, что вы можете многое рассказать нам, кроме того, что уже сказали. Если вам не трудно, начните с вашего знакомства с доктором Шнайдером. Нас интересуют абсолютно все подробности.
Она согласно кивнула, но добавила, что это может занять немало времени. Калошин успокоил ее, сказав, что они выслушают все, о чем она им расскажет.
– В эту клинику я устроилась в 1940 году, – начала она свое повествование, – мой муж был направлен сюда на работу из Москвы, – к медицине он никакого отношения не имел, – я переехала с дочерью к нему. Сын наш в то время был призван на флот, там он служит по сей день. Когда я устроилась на работу, здесь заведующим был Хейфиц Яков Иосифович, но в начале июня 1941 года он был арестован НКВД по чьему-то грязному доносу. Всем было понятно, по каким статьям его обвиняли – тогда они были у всех одинаковыми. Я недолго была с ним знакома, но мне он казался честнейшим человеком, думаю, что это так и было – его любили и весь медперсонал, и пациенты. Что с ним сталось, никто из ныне работающих не знает до сих пор. Жену с детьми, насколько мне известно, угнали в Германию. Оттуда они не вернулись. После ареста Якова Иосифовича сюда приехал начальник Облздрава и сказал, что из Москвы к нам на работу направлен доктор-психиатр Шнайдер. А пока его замещал, тогда еще совсем молодой, Шаргин. Но к началу войны Шнайдер еще не появился здесь, а через месяц нам пришла телеграмма о немедленной эвакуации всех пациентов клиники. В ней же сообщалось, что вновь назначенный доктор присоединится к нам позже. Эвакуация, к сожалению, затянулась. Отправлять старались сначала более перспективных больных. Их было, правда, совсем немного, но с транспортом постоянно возникали проблемы. Эвакуировали ведь не только нашу клинику, но и детские сады, и школы, и больницы общего профиля. Поэтому мы не успели в срок отправить всех. Правда, осталась лишь небольшая часть пациентов и несколько человек медперсонала. Вот тогда и появился доктор Шнайдер. Несмотря на всеобщую панику, он повел себя очень грамотно и спокойно – распорядился надежно спрятать архив, так как было ясно, что вывести его уже не удастся, всех оставшихся больных – их было чуть больше десятка – перевел в небольшое помещение за основными корпусами, из медперсонала оставил меня и одну санитарку. Больных постарался определить на общедоступные работы в городе, и, даже, когда пришли немцы и расположились в свободных зданиях, он смог несколько человек пристроить в котельную при клинике и на уборку двора. Каким образом он договорился с немецкими офицерами – я не знаю. Но все больные остались живы, а ведь в других местах пациентов таких клиник просто уничтожали. – Калошин дотронулся до ее руки, как бы извиняясь за то, что перебивает:
– А на каком языке он разговаривал с немцами?
– Только на русском. Если офицер не знал языка, то при нем был переводчик. А так… Знаете, многие из них владели русским неплохо. Правда, где-то в конце войны, совершенно случайно, я вдруг узнала, что Шнайдер знает немецкий язык. Но ведь он был по национальности немцем, поэтому я не придала этому факту никакого значения, кроме того, у нас ведь и в школе, и в институтах преподавали немецкий. Кстати, доктор Шаргин тоже знал его прекрасно, и даже подчеркивал это не раз, а вот Шнайдер, как я поняла, тщательно скрывал свое знание языка.
– Вы сказали, что узнали об этом случайно. Как именно?
– Видите ли, мы в войну жили здесь, рядом со своими пациентами. Уходить домой не было смысла. Моя дочь была в эвакуации, маленький сын санитарки находился при ней, доктор Шнайдер семьи не имел, поэтому мы жили здесь небольшой коммуной – и теплее, и сытнее. К концу войны ничего особенно не изменилось. Мой муж, – на ее глаза навернулись слезы, – погиб еще в октябре сорок первого, у Зины – санитарки – тоже, только позже, в сорок четвертом. Доктор, как вы понимаете, семьей не обзавелся, поэтому так и жили до тех пор, пока не вернулись все из эвакуации, а я и сейчас тут живу. Так вот… – она замолчала на некоторое время, как бы собираясь с мыслями. – В один из вечеров Шнайдеру позвонили, но его нигде не было. Шаргин попросил меня найти доктора. Я вышла на улицу, так как видела, что он незадолго до этого сидел вот на этой скамье. – Она похлопала по сиденью рядом с собой. – Но его уже здесь не было. Приглядевшись, я заметила, что он стоит за воротами с каким-то мужчиной. Направилась к ним, подошла довольно близко – мягкие тапочки и асфальтированная дорожка скрывали звук моих шагов. Только хотела было окликнуть, но в этот момент незнакомец заговорил. – Она оглянулась вокруг, как будто боялась, что их могут подслушивать. – Этот лающий язык на всю жизнь поселился в моем мозгу. Я опешила. А когда доктор ответил ему тоже по-немецки, я испугалась, появилось такое чувство, будто вернулись дни оккупации. Было что-то в облике этого незнакомца такое, что казалось – еще миг, и он выбросит вперед правую руку в нацистском приветствии. Слишком часто за военные годы мы видели подобное. Я тихо повернула назад, а уже с крыльца окликнула доктора. Тот мужчина сразу же ушел, и я слышала, как невдалеке отъехала машина.
– Вы кому-нибудь рассказывали об этом?
– Нет… – Она посмотрела на мужчин умоляющим взглядом. – Я понимаю, что поступила плохо, но я видела, как доктор Шнайдер возвращал память советским солдатам после тяжелейших ранений в голову. Здесь после отступления немцев был госпиталь, и очень много раненых прошло через наши руки. Шнайдер принимал самое активное участие в их излечении. Как я могла его предать? Я знала, что он много занимался исследовательской работой. Значит, ещё много пользы мог бы принести людям, если бы не умер.
– Вы знаете причину его смерти? – решил просто уточнить Калошин, но ее ответ привел оперативников в замешательство:
– Да, я знаю. Он умер от ранения в легкое. Правда, оно не было тяжелым. – Увидев, что мужчины удивленно переглянулись, она пояснила: – Доктор по неизвестным мне причинам скрывал от всех этот факт, и, практически, не лечился. Мне же пришлось однажды оказать ему помощь – рана загноилась, и ему было довольно неудобно ее обрабатывать. Он обратился ко мне, но при этом просил о строжайшем соблюдении тайны. Можно сказать, что настаивал на этом. Я – медик, чужие тайны хранить умею. От такого ранения очень часто развивается и бронхит, и воспаление легких, поэтому скрыть истинную причину смерти было не трудно.
– Но ведь кто-то делал вскрытие?
– Да, его коллега – хирург Берсенев. Свидетельство о смерти написал он, и никто не оспаривал его выводов – для этого просто не было причин. – Калошин с Дорониным в очередной раз многозначительно переглянулись. Майор поспешил спросить:
– Вы знали Берсенева? – при этом он сделал ударение на каждом слове.
– Этот человек мне жизнь подарил. – Она скромно улыбнулась. – Когда я заболела, он сам меня прооперировал. Конечно, здоровье полностью ко мне не вернулось, но я могу работать.
– Как долго Шнайдер работал с Берсеневым?
– Берсенев впервые приехал сюда, когда уже немцы оставили наш город. Они сразу же стали вместе оперировать.
– С Шаргиным Берсенев тоже работал?
– Да, но не так часто. Пару раз я видела его – это было незадолго до гибели Шаргина.
– Как вы думаете, был ли Берсенев знаком с неизвестным в маске? – в очередной раз Калошин решил проверить слова Хижина и уточнить, не мог ли сам Берсенев скрывать свое лицо.
– Наверное, он ведь приезжал в то же время, что и неизвестный. По крайней мере, я видела это однажды. – Майор удовлетворенно кивнул – волнующий его вопрос отпал.
– Вы знаете о том, что он погиб? – Калошин постарался сказать это как можно мягче, тем не менее, реакция женщины его поразила – она буквально побелела, схватилась за сердце и, тяжело дыша, откинулась на спинку скамьи. Едва прошептала:
– Не может быть!..
Доронин вынул платок и кинулся обмахивать лицо женщины, не зная, что делать дальше. Калошин тоже растерялся, но быстро взял себя в руки:
– Анна Григорьевна, вам нужна помощь? Кого-нибудь позвать? – заглядывая в посеревшее лицо, спросил он, но она отрицательно замахала рукой:
– Нет-нет! Я сейчас… сейчас… – достала из кармана халата пузырек с таблетками, кинула одну в рот и, виновато взглянув на мужчин, сказала:
– Простите меня, это так неожиданно… – Потом глубоко вдохнув и задержав дыхание, как перед прыжком в воду, выпалила: – Нет, я говорю неправду – это было ожидаемо. Я подозревала, что подобное может случиться с ними со всеми. Да, я боготворила Шнайдера – он творил чудеса с памятью солдат, Берсенев, безусловно, помогал ему в этом – он оперировал этих раненых. Они проводили операции на мозге, я это точно знаю. Как медик, я понимала, что эти операции были скорее экспериментальными работами этих докторов – я слышала их разговоры – они говорили в основном на латыни, но я вполне разбиралась во многих определениях. Да и прооперированные ими больные возвращались в строй. Умер только один, первый. Но ведь была война, и я понимала, как и все другие, что главное – время. Спешить приходилось везде и во всем. – Она тяжело сглотнула, дотронувшись до груди. На вопросительный взгляд Калошина в очередной раз отрицательно помахала рукой:
– Не волнуйтесь, все нормально.
Тогда Калошин попытался задать ей очередной вопрос:
– Анна Григорьевна, но, согласитесь, что ваша реакция на мои слова, как бы это сказать помягче, была слишком… – он никак не мог подобрать правильного слова, но женщина его выручила:
– Не утруждайте себя, я бы на вашем месте тоже удивилась, ведь Берсенев, если разобраться, не был мне близким человеком. А моя реакция на ваши слова – это, скорее, страх.
– Вот как? Перед чем? Кем? – спросил Калошин, Доронин, вторя ему, добавил:
– Вы что-то еще узнали о них?
Женщина задумалась. Василий, проявив нетерпение, хотел было что-то сказать, но майор жестом остановил его. Он понимал её состояние – сегодня она, наверное, впервые после всех прошедших нелёгких лет признавалась в неких преступных деяниях, невольным свидетелем которых была и даже в чем-то ощущала свою вину. И, как будто услыхав мысли Калошина, произнесла тихо, но с каким-то надрывом:
– Я не боюсь признаться в том, что знала и молчала. Причину этого я вам уже вполне объяснила. Если сочтете нужным меня наказать, я приму это как должное. В конце концов, за все на этом свете надо платить. Вот и они заплатили сполна. Я не спрашиваю вас, как погиб Берсенев – поверьте, для меня это непринципиально. А тот человек, что скрывал свое лицо, нес какую-то угрозу для всех, кто был рядом с ним. Я это сразу почувствовала. Думаю, что смерть Шаргина на его совести. Скажу больше: я слышала, как этот человек говорил с ним – очень грубо. Вначале я не разобрала его слов, но когда доктор спросил его: «А вы не боитесь?», он ответил так: «Страх – удел тех, кто ползает по земле, не пытаясь взлететь. А у меня за плечами крылья!» – это было сказано так, что могло бы вызвать даже улыбку. Но, когда я услыхала эти слова, меня буквально парализовало – я уже слышала их однажды – так сказал доктор Шнайдер, когда мы с ним как-то говорили о смерти, и я спросила, не боится ли он умереть. Тогда его слова меня так поразили, что я даже не успела обидеться. В тот момент мне показалось, что это был кто-то другой – он как будто надел чужую маску, но это быстро прошло и все забылось, тем более что он сумел как-то оправдаться передо мной. Но когда я второй раз стала невольным слушателем одного и того же монолога с разницей в десять лет, я поняла, что все это непросто. Да, тогда доктор Шнайдер сказал еще кое-что, может быть, это как-то поможет вам в расследовании: «Даже если я умру – я вернусь». И вот именно это я вспомнила, услыхав слова незнакомого человека. У меня мороз прошел по коже – я будто наяву увидела выходца с того света. Это, поверьте мне, очень страшно. – Она вдруг резко повернулась всем телом к Калошину: – Наконец-то я поняла, что меня так мучило – голос немца, что стоял тогда с доктором Шнайдером – это голос незнакомца в маске. Да, теперь я в этом уверена. Вы спросите, смогу ли я узнать его по голосу? Смогу. Я обязательно помогу вам. Может быть, хоть как-то искуплю свою вину перед погибшими. – Её вдруг стало заметно трясти от возбуждения. – Как же я раньше не вспомнила это? Чувствовала ведь, что этого незнакомца видела где-то раньше, но никак не связала с тем человеком. – Она провела ладонями по лицу, как бы снимая пелену со своих глаз. Покачала осуждающе головой и надолго замолчала.
Доронин, наклонившись к Калошину, тихо сказал:
– По-моему, она совершенно измучилась этими воспоминаниями.
Но майор снова обратился к Анне Григорьевне, выводя ее из задумчивости:
– Ещё пара вопросов, и мы оставим вас в покое.
Она согласно кивнула, хотя было заметно, что весь разговор действительно чрезвычайно утомил ее, выбив совершенно из колеи привычного уже давно существования. Будто призраки прошлого потревожили ее душу.
– Анна Григорьевна, я не медик, но понимаю, что такие сложные операции, какие делали ваши коллеги, два человека провести не могут. Значит, были и другие участники этих экспериментов? Кто они, вы знаете? Почему не приглашали вас?
– Вы правы, другие были всегда. Из здешнего персонала не участвовал в этом никто. Берсенев всегда привозил их с собой – двоих, но разных. Я не видела одних и тех же никогда. Почему они так делали, не знаю.
– Что вы скажете про медсестру Кривец?
Женщина посмотрела Калошину прямо в глаза:
– Вы ведь не верите в то, что сказал вам Хижин? Он заблуждается в том, будто все думают, что она сбежала с любовником. Но, наверное, это и к лучшему. Ему так спокойнее. А она слишком много знала. Но умела, что называется «делать хорошую мину при плохой игре». Я думаю, что ее нет в живых. – Она сокрушенно покачала головой. – И еще: при всех своих замечательных талантах, Шнайдер меньше всего был психиатром. Но он умело это скрывал, как и всё остальное. Была в нем какая-то способность убеждать в том, что было выгодно ему. Он будто гипнотизировал своими словами. А лечением занимался Шаргин. Ну вот, выводы делайте сами.
Мужчины встали, учтиво попрощались и направились к главному корпусу. По дороге Калошин сказал Доронину, что немедленно отправляется в Энск, а ему поручает поговорить с мужем Кривец и ещё некоторыми ее сослуживцами. Сам же должен срочно доложить все Дубовику. Слишком серьезные сведения они получили сегодня в этой клинике.
– Похоже, Василий, это дело выходит за рамки нашей компетенции. Но здесь необходимо довести все до конца. Тебе доверяю собрать всю возможную информацию, какую удастся еще добыть. Кто сюда приедет – не знаю, но необходимо провести здесь опознания по фотографиям. Пусть Дубовик с прокурором решают.
Уже у крыльца они спешно попрощались с Хижиным и, сев в машину, уехали.
Глава 20.
Был уже поздний вечер, когда машина Калошина пересекла городскую черту. Но он не удивился, застав Дубовика в своем кабинете. Тот печатал что-то на стареньком «Ремингтоне», причем делал это дольно проворно. Увидев Калошина, даже не удивился, лишь, хитро улыбнувшись, спросил:
– Накопал-таки?
– Ты, Андрей Ефимович, носом чувствуешь?
– И им тоже. – Он прокрутил с треском валик машинки и вынул отпечатанный лист из каретки. Потянулся, зевнул и, вытянув из портсигара папиросу, повернулся всем телом к Калошину:
– Со мной здесь, Геннадий Евсеевич, провели интереснейший экскурс в науку. Наш эксперт из ученых мужей оказался весьма словоохотливым, да еще при этом и психологом. Многое он мне поведал о наших фигурантах. Каретников для нас пока закрытая, но любопытная личность. У меня к нему теперь масса вопросов. Сам я его еще не видел, но что-то мне в нем уже не нравится. Надо бы нам побыстрее определяться с подозреваемыми. Четыре дня толчем воду в ступе. Гулько ничего не нашел интересного на пресс-папье. Там только отдельные слова, похожие на конечную часть письма. На чемоданчике Чижова с инструментами полно отпечатков, но все принадлежат хозяину. Тот, кто брал его, тщательно протер всю поверхность. Эксперт обнаружил следы спирта. Отпечаток голой ступни довольно размытый. Но когда появятся подозреваемые, попробуем его идентифицировать. Прокурор рвет и мечет. Даже Мелюков побывал здесь, этакий огнедышащий дракон – заволновалась партийная верхушка. Мешаться теперь будут. Но одна польза от них все же есть – держат журналистов на расстоянии от нас, хотя бы ради себя. Ну, теперь давай выкладывай, что там у тебя? Глаза горят, руки ходуном ходят. Волнуешься? – Он протянул Калошину папиросу, прикурив ее от своей, добавил: – Для успокоения.
Выслушав подробный доклад майора, Дубовик буквально преобразился. Он возбужденно потер руки, прихлопнул:
– Слушай, друг Калошин, что у нас с тобой получается! – Взяв чистый лист бумаги, он жестом подозвал поближе майора и стал размашисто писать фамилии, соединяя их стрелками:
– Шнайдер, Берсенев, Шаргин делают операции во время войны. Шнайдер умирает, но есть некто, кто приезжал к нему в то же время, но участия в экспериментах, в то время, похоже, не принимал. Потом этот некто через десять лет появляется, и Шаргин с Берсеневым снова оперируют, надо полагать, что теперь уже под его руководством. Как там Шнайдер сказал: «Я умру, но я вернусь», по всей вероятности, имея в виду своего приемника. Найти этого человека наша первоочередная задача. Дальше. Полежаев получает от Каретникова некое предложение, на которое отвечает отказом. Но перед этим он встречается с Шаргиным и узнает от него нечто, что его настораживает. Через некоторое время погибает Шаргин, и Полежаев, безусловно, связывает эту смерть с тем, что передал ему Шаргин. При чем здесь Каретников? – Дубовик вопросительно посмотрел на Калошина, тот решил высказать свое предположение:
– А может быть, Каретников – это отдельная история? И ничего общего со смертью Полежаева не имеет?
– И такое возможно. Но Чижов… Этот-то напрямую связан с Шаргиным. И если допустить, что Шаргин сообщил Полежаеву некие сведения об этом «фрукте», то Чижова уже можно привязать к этим событиям. Будем делать у него обыск. Орудие преступления принадлежит ему, и вся история с кражей инструментов может быть изощренной выдумкой. Незнакомца из клиники он тоже видел, когда тот заходил к нему в палату. Согласен?
– Но у нас есть ещё одно лицо, которое необходимо найти – некто Туров, второй оперируемый, – добавил Калошин. – Необходимо составить его фоторобот, ведь в клинике его видели многие. Этим займется Доронин.
– Так-так-так! Верно! Ты сказал – тебе и карты в руки. Фотографии Полежаева и Каретникова у нас уже есть. Дождемся Моршанского, он должен привезти все материалы из архива, тогда и проведем опознание. Сейчас, думаю, пора отдыхать.
Калошин полистал записную книжку, в которую заносил все необходимые сведения и, жирно подчеркнув какую-то запись, обратился к собеседнику:
– Андрей Ефимович, попроси своих ребят разыскать один любопытный журнал. Возможно, что его удалили из подшивки намеренно. – Он показал название и номер исчезнувшего журнала.
Дубовик одобрительно посмотрел на майора:
– С тобой легко работать. Думаю, что это дело мы закончим вместе. В нашей системе, сам знаешь, после реорганизации людей поубавилось. Так что, нелегко тебе будет от меня отделаться, – шутливо погрозил пальцем. – Жду тебя утром.
Ранний звонок телефона разбудил Калошина. Он схватил трубку и раздраженно произнес:
– Слушаю! – На другом конце провода раздался немного резковатый голос Дубовика:
– Извини, Геннадий Евсеевич, что звоню в такую рань, но дело наше с тобой не терпит отлагательств. Пришла спецпочта. Жду тебя. – Ничего больше не объясняя, отключился.
Калошин, как всегда, по-военному, быстро собрался и через двадцать минут был в отделе. Дубовик пил горячий чай, вкусно пахнущий травами. Громко прихлёбывая, показал стакан:
– Вот, дежурный заварил по какому-то своему рецепту. Цвет какой! А вкус!.. М-м-м!.. И здорово бодрит. Рекомендую. – Сам же, отставив почти пустой стакан, закурил. Показал глазами на лежащий на столе Калошина пакет: – Изучай. – Придвинув поближе «Ремингтон», стал что-то быстро отстукивать, прищуриваясь от сизого дыма торчащей в уголке губ папиросы.
Калошин, налив чаю, раскрыл пакет, вынул несколько листов и углубился в чтение. В документах были личные дела Каретникова и Полежаева, а также стенограмма допроса Пасюк А.А. – одного из бывших сослуживцев Шнайдера, прочитав которую, Калошин понял, почему его так спешно поднял с постели Дубовик. В ней содержались сведения, в корне расходящиеся с рассказом об этом человеке санитарки Песковой. По словам допрошенного врача Шнайдер имел семью, но она осталась на оккупированной территории Украины, где до войны в одной из неврологических лечебниц он практиковал, причем считался великолепным специалистом в области психиатрии, почему и был переведен сначала в Москву, а потом и в К***. Поскольку заведующий местной клиникой Хейфиц – как и говорила Пескова – был арестован, то на его место направили Шнайдера. Необходимость этого назначения состояла в том, что в данной клинике на излечении в тот момент находилась некая высокопоставленная личность из высших эшелонов власти. Шаргин же, временно замещающий Хейфица, был слишком молод и не имел практики. Семья Шнайдера, как предполагалось, должна была присоединиться позже, но, к сожалению, война внесла свои коррективы. Доктор, не смотря на наступление немцев под Москвой, все же отправился к месту новой службы, чтобы участвовать, как и было сказано ранее, в эвакуации больных. Больше Пасюк не встречался со Шнайдером, и о его судьбе ему в тот момент ничего не было известно. Но после войны он случайно разговорился с одним чиновником из отдела Здравоохранения, так вот тот рассказал, что Шнайдера разыскивала жена, но к тому времени, доктор уже скончался, о чем ей и сообщили. Однако узнав о причине смерти, она написала, что ее муж был абсолютно здоровым человеком, и если чем и страдал, так только ожирением. Пасюк подтвердил, что, действительно, Шнайдер отличался «большими формами при невысоком росте», но война многих меняла до неузнаваемости и болезнями награждала сполна. Чиновник же только посетовал, что сожалеет о смерти такого прекрасного специалиста.