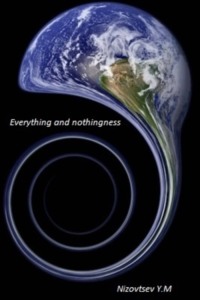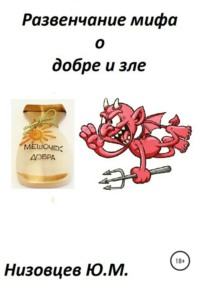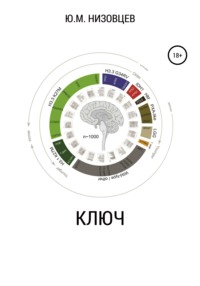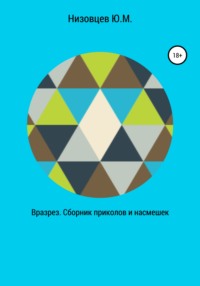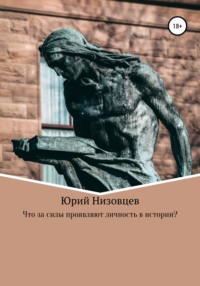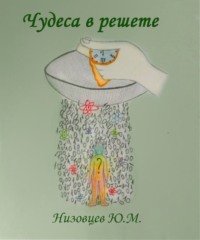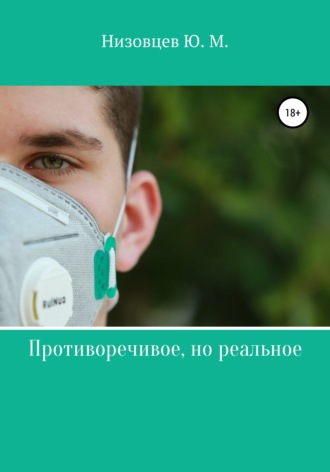
Полная версия
Противоречивое, но реальное
То есть Бердяев опять же вводит счастье в реальность, тогда как в реальности действует неудовлетворенность самосознания человека, как раз не дающая ему остановиться, но предполагающая вновь и вновь устремляться к составленному им самим идеальному образу существования, который никоим образом не может совместиться с текущей реальностью со всеми ее пороками и неприятностями.
Кроме того, Бердяев, как и стоики, а также Эпикур, путает счастье с удовлетворением и успокоением, тогда как счастье есть продукт неудовлетворенности самосознания, который стимулирует человека к достижению того идеального образа, который создается им самим в процессе, преодоления многих трудностей, неприятностей и бед, но человек не способен совпасть даже в своем сознании с выработанным идеалом, но способен существенно изменить своё самосознание в подобном стремлении.
И это стремлении к счастью не противостоит свободе, как считает Бердяев, в напротив, поддерживает это стремление, поскольку свобода тоже продукт неудовлетворенности сознания в целом, претворяющийся в выработку способов изменения самосознания человека путем воздействия на наличное бытие с учетом его противодействия. [20, гл. 1].
Но если счастье проистекает из самосознания, то свобода есть продукт взаимодействия инстинктивного (природного сознания) и осознанного в человеке, взаимодействующих друг с другом в своих противоречивых устремлениях, производя через человека разрушение и созидание реальности [21, часть 3, раздел 3]. И в этом отношении свобода шире счастья, которое исходит только из осознания себя, но зато счастье всегда мерцает впереди как совершенный и сугубо индивидуальный образ, притягивающий человека к нему и, по крайней мере, не делающий его хуже, если он действительно стремится к нему, а не к удовольствиям или безмятежности.
3. Источник, определение и предназначение счастья.
Счастье, если его представлять, как это свойственно большинству, в качестве предельно приятных ощущений, до появления человека из среды живых существ не присутствовало в их сознании, поскольку стремления и действия всех живых существ определялись не представлениями, а только инстинктами и рефлексам, являясь неосознанной реакцией на воздействие окружающей среды. Эта реакция всегда была лишь адаптивной в отношении этой среды, которую они, как и себя. если и меняли, то без всякого целеполагания и без стремления выйти за рамки окружения в каком угодно отношении.
Подсознательность, точнее, присутствие только природного сознания, или отсутствие субъектности, естественно, отвергает понимание такой абстракции в сфере эмоций и интеллекта как счастье. Поэтому все живые существа, кроме человека, от амебы до приматов, довольствуются всего лишь стремлением к приятным ощущениям, не отделяя себя от среды, и не более того.
Воображение в форме неких абстракций свойственно только человеку, который, обладая самосознанием, способен не только приспосабливаться к окружающей среде, но и сознательно менять ее под себя соответствующим целеполаганием, стремясь к построенным им образам в сознании, не существующим в природе, и ставя тем самым себя в той или иной степени над ней.
Поэтому человек способен стремиться не только к одним приятным ощущениям, но и ставить перед собой такие цели, достижение которых, как он иногда считает, обеспечит ему на некоторое время локальный рай. Правда, этот рай каждый субъект представляет по-своему, но он должен удовлетворить его полностью – и умственно, и эмоционально, – желательно, на всю оставшуюся жизнь, хотя и от любого срока присутствия в этом раю-счастье он не отказывается.
Тем не менее, достижение любой цели, будь то слава, почести, власть. деньги, любовь сразу же обесценивает достигнутое, поскольку никакого рая, или счастья не случается, кроме некоторого удовлетворения достигнутым, которое представлялось ранее таким желанным и совершенным, но оказалось грубым, примитивным и ненадежным. При этом болезни, невзгоды, неприятности в общении никуда не уходят, несмотря на любые достижения.
Но каждый человек верит в приход счастья, резонно полагая, что раз есть несчастья, то должно быть и нечто противоположное им, понимая под счастьем именно собственный воображаемый рай, который на самом деле никакого отношения к действительности иметь не может, кроме кратковременной приятности, а также предвкушения достижения страстно желаемого.
Но это желаемое счастье странным образом всё время ускользает, оставляя лишь грубую действительность и надежду, что в следующий раз оно наконец случится.
Это означает, что инстинктивная неудовлетворенность сознания любого живого существа нынешним положением в его стремлении к более приятным ощущениям, в человеческом сознании получает дополнительно уже осознанную неудовлетворенность имеющимся состоянием дел, и эта неудовлетворенность может получать выражение в неких абстракциях, крайним выражением которых является понятие счастья как такого абсолюта, который может дать полное удовлетворение как в состоянии ума, так и эмоций если и не насовсем, так хотя бы на некоторое время.
Но, увы, абстракции никогда не превращаются в реальность, и счастье всегда только манит, оставаясь в рамках возможности, но не действительности.
Однако стремление к счастью, диктуемое неудовлетворенностью самосознания человека предполагает, как правило, интенсификацию его усилий по достижению счастья, что обеспечивает значительную долю прогресса цивилизации и вместе с тем – развитие самосознания человека, поскольку он не может смириться, как животные, с тем что есть, а должен непременно искать и желать счастья, не допуская мысли, что оно существует только в его воображении, в реальности же получая в лучшем случае только позитивные эмоции, за которыми следует разочарование достигнутым, как бы любой человек ни старался, в сочетании со страданиями и бедами разного рода,
Поэтому счастье следует определить, как выражение той стороны неудовлетворенности самосознания, которая, составив совместно с интеллектом идеальный образ завершенного позитивного существования, стремится к нему, но не находит в этом образе разрешения.
Действительно, достижение любой поставленной цели может дать только удовлетворение, но никак не счастье, да и то на незначительный срок, потому что неудовлетворенность в самосознании достигнутым никуда не исчезает как главный стимул активности, и гонит человека дальше, а если он отказывается от этой гонки, стараясь всеми силами подавить неудовлетворенность собственного самосознания и полагая при этом себя счастливым в достигнутой удовлетворенности, то есть в бездеятельности, то он быстро превращается в никчемное существо – живой труп, который не нужен даже собственному сознанию.
Таким образом, максимальное удовлетворение достигнутым и даже самые приятные ощущения при этом, которые некоторые персоны считают за некоторое подобие счастья, не только не ведут человека к счастью, а напротив, могут остановить его в развитии, что равноценно самому большому несчастью, поскольку конкуренты не дремлют.
Получается, что, в сущности, предназначение человека, о котором он не догадывается, потому что не может допустить того, что он всего лишь орудие собственного сознания в форме животного (природного) сознания и самосознания, приобретенного и развивающегося с эпохи гоминидов, состоит в стремлении к невозможному, без чего немыслимо развитие самосознания. А ожидание чего-то лучшего или даже борьба за удовлетворение своих амбиций, что, например, свойственно самцам приматов, которые так и не стали людьми за десятки миллионов лет, всего лишь сводит человека к подобию обезьяны.
С другой стороны, непонимание человеком невозможности достижения счастья в реальной жизни, под которым он может представлять себе что угодно, в частности, одно хорошее или же нечто сомнительное, но нравящееся ему, что, правда. довольно глупо, стимулирует его в лучших побуждениях с полной отдачей сил к достижению как личной, так и всеобщей гармонии, полной удовлетворенности и наивысших наслаждений как в интеллектуальной деятельности, так и в эмоциях.
Это явление напоминает в некоторой степени ничем не обоснованную веру в райские кущи, куда можно попасть, если вести праведную жизнь, с чем, например, был согласен и Иммануил Кант.
Как бы то ни было, но непременная неудовлетворенность самосознания как мотор его активности, являющаяся тем самым источником стремления к счастью в виде сформированного в уме образа совершенного и желанного, всегда отбрасывает прошлое и рвется в будущее, невзирая на препятствия, невзгоды, беды и катастрофы (какое уж тут счастье в форме полной благости), что необходимо для развития самосознания, которое просто неспособно полностью погрузиться в покой и гармонию – «счастливое» бытие, как в чан с вареньем, в котором, несмотря на всю сладость этой замечательной субстанции, можно только захлебнуться.
Тем более что почему-то редко кто вспоминает о действии в человеке его животной природы в форме низшего сознания, которое часто именуют подсознанием.
А это животное сознание, как правило, противодействует намерениям самосознания своим утилитаризмом, стремясь только к приятности, комфорту благоприятным условиям для размножения и доминированию над ближними, и ему только мешают своей несуразностью намерения самосознания в его желании например, совершенствоваться самому и гармонизировать общественные отношения, в чем большинство мыслителей видит итог человеческой деятельности в качестве индивидуального и всеобщего счастья [см., напр., 21, Часть 3].
Еще до того, как человек в процессе развития самосознания научился создавать в своем воображении идеальные и более-менее целостные образы желаемого, ему пришлось в чисто практической деятельности столкнуться с удовлетворением своих сугубо жизненных потребностей. Одни из них были необходимыми, вроде добывания еды, но не интересными, другие привлекали его удовольствием, получаемым, например, в процессе рисования или изготовления оригинальных орудий охоты или хозяйствования.
То есть человек не мог, как животные, удовлетворяться только обеспечением жизненных процессов, и после выполнения всего необходимого для жизнеобеспечения, он в промежутках между работой, испытывал неудовлетворенность исполнением только обязательного, и эта накапливающаяся неудовлетворенность собой в окружающем каждодневном однообразии, рано или поздно толкала его к поиску отличного от существующего, что обычно обозначается термином «интересное» (необычное, провоцирующее, таинственное, невероятное, пугающее, волнующее, возмущающее, удивляющее, одним словом – нечто иное) как в простом, ежедневном обиходе, так и сложных отношениях между людьми, а также в технике и искусстве.
Поэтому заинтересовать человека может, что угодно, лишь бы оно отличалось новизной для него самого, отвлекая от рутины, разнообразя жизнь, и вместе с тем меняя окружение человеческих сообществ, поскольку интересное давало плоды в виде новых способов охоты, приготовления пищи, разведения растений, приручения животных и т. п.
Таким образом, интерес как регулярно возникающее и в определенной мере осознанное влечение к новому для себя в текущих обстоятельствах, свойственно только человеку благодаря имеющемуся у него осознанию себя, с помощью которого он пытается вывести себя из сложившегося порядка. Оно приводит его к открытию интересных для него вещей и явлений, сулящих не столько выгоду, сколько временный отход от опостылевшей реальности.
Иначе говоря, в интересном ищется удовлетворение, но никогда не находится окончательно потому, что, остановившись на одном, можно потерять остальное, чего нельзя допустить, иначе не получить нового удовлетворения в ином интересном, да и само открытое интересное не способно принести полного удовлетворения в силу его несовершенства, устранение которого требует, как правило, длительной, трудоемкой и нудной доработки, что уже не так интересно.
Как бы то ни было, но заниматься скучными, иногда противными, но необходимыми делами всё время невозможно – нужен отвлекающий и развлекающий промежуток между ними для удовольствий и страданий; вместе с тем неплохо иногда погнаться за несбыточным, что, тем не менее, привлекательно в силу бурного поступления новой информации, дающей пищу для чувства и ума.
С другой стороны, задержаться надолго в найденном привлекательном (интересном, то есть промежуточном местечке) никак не удается не только потому, что оно становится привычным и ничем удивить не может, но и тем, что каждодневная работа не ждет, кормиться надо, опять же – рутина заедает: и вся жизнь так и составляется из «пробегов» от одного интересного до следующего через интервалы неинтересного, но необходимого для обеспечения банального существования.
Тем не менее, интересное характерно тем, что существенно увеличивает информационные потоки, захватывающее всё общество не только своими новыми продуктами, но и новыми подходами к образованию и быту, благодаря новым технологиям и новым формам культурного развития.
Подробнее с проблемой интересного можно ознакомиться в работе «Почему и за счет чего проявляются интерес и интересное?» [см., напр., 22, Часть 1. Раздел 4].
По причине непрерывной замены одного интересного на другое, и разнообразии находок, человеку потребовалось нечто интимно собственное, сугубо индивидуально стабильное, как свет маяка, к которому он мог бы стремиться всю жизнь, чему он мог бы беспредельно доверять и не терять надежды достигнуть этой путеводной звезды во тьме обыденности, чего также не могла предоставить религия, чьи пространные догмы и обещания рассчитаны на максимально возможный охват населения.
Сначала человек обратил внимание на красоту, точнее, на то, что казалось ему прекрасным и необычным в своем принципиальном отличии от окружающих его повседневных вещей, приводя его в восторг.
Это были чарующие своей красотой рассветы и закаты, лунное сияние в тишине ночи, необычайные переливы крыльев бабочки, мерцание росы на цветах. Всё это и многое другое прекрасное всегда оставалось неизменным, повторяясь каждый день или каждый сезон, или каждый год, если, конечно, обращать на него внимание.
Все эти неизменные явления, не зависящие от человека, но которые он мог наблюдать, не могли не привести его к мысли, что он сам может попытаться создать для себя нечто подобное – индивидуально прекрасное, которое будет только его, и о котором он никому не расскажет, но это собственное прекрасное будет «согревать» его всю жизнь, даже если оно окажется таким же недоступным для копирования, и в этом отношении – потусторонним, как прекрасное.
Естественно, в отличие внешней, природной красоты создать свое более-менее устойчивое и привлекательное для себя прекрасное человек мог только в собственном воображении, в зависимости от собственных идей, желаний, намерений, опыта, характера, предпочтений и т. п.
Полученный образ искренне и неизменно желанного, конечно, мог корректироваться в течение жизни в силу возраста, меняющихся условий, но в своей основе он оставался неизменным, прекрасным и влекущем по-прежнему, и настолько близким, что, кажется, протяни руку, и он твой. Рука протягивалась, но прекрасный образ собственного желанного всегда отдалялся, оставаясь таким же желанным и прекрасным, но, поскольку этот образ был собственного изготовления, всегда оставалась надежда на его достижение.
И если красота природных явлений или лицезрение шедевров живописи, обращение к гениальным текстам и проникающей в сознание музыке приносит человеку эпизодически только наслаждение этим прекрасным, но не меняет сущности человека, его самосознания, то образ индивидуально прекрасного и желанного, который он сотворил только для себя, и к которому он всегда стремится, преодолевая любые трудности и сомнения, неизменно действует на его самосознание продуктивно, то есть развивает его в этом стремлении.
Однако степень прикосновения к прекрасному в природе или в искусстве, а также и богатство созданного индивидуально образа прекрасного и вместе с тем желанного для человека, которое он обозначил термином счастье, зависит от уровня развития самосознания человека: чем он выше, тем более склонен человек к действительно прекрасному, чем этот уровень ниже, тем большее пристрастие человек испытывает к удовольствиям, мелкому интересному и просто любопытному, поскольку его самосознании сближается с низшей, или животной формой сознания, направленной не на высокие идеи и чувства, не на красоту в мире, не на собственное совершенствование, а лишь на потребление ощущений от еды, размножения, доминирования и удобства собственного размещения, которые тем самым и становятся вполне достижимым счастьем, а на самом деле – его эрзацем, подобным животному благополучию.
Счастье является более высокой ступенью в развитии самосознания человека по сравнению с интересным, совпадая с ним тем не менее в том, что оно так же есть предмет влечения, хотя и иной категории. Но если интересное достижимо, превращаясь тем не менее при его открытии в неинтересное, то счастье не теряет своего качества индивидуально прекрасного, поскольку всё время ускользает вполне закономерно, так как внутренний образ в форме зыбких ощущений и колеблющихся желаний не может совпасть с полученным результатом в грубой реальности.
Поэтому счастье, как и интересное, никогда не находит окончательного разрешения. Но если интересное просто периодически сменяется, то счастье, пребывая до смерти человека в состоянии зыбкого образа, не способно превратиться в конкретный предмет или явление, удовлетворяющий ищущего его, а любое найденное как бы счастье сразу же обесценивается в силу его катастрофического несовпадения с искомым индивидуально прекрасным.
В отличие от интересного, счастье не является непосредственным источником информации в силу крайней отвлеченности, нежизненности и расплывчатости сформированного человеком образа желанного, и в его понимании совершенного, но счастье, влечением к себе, создает процесс, в котором человек волей-неволей меняется, что означает и изменение его самосознания – не обязательно в лучшую сторону, но непременно в иную, что интересно для сознания в целом, аккумулирующего все собственные изменения.
Так что счастье только манит в краткости человеческой жизни, но, тем не менее, всегда оставляет надежду на собственный приход, вследствие чего к нему стремятся снова и снова, и поэтому счастье всегда присутствует в жизни не непосредственно в качестве тех или иных благ, а в образе того, что хочет каждый человек больше всего, а больше всего всегда хочется недоступного и несбыточного пока.
Библиография
1. https://burido.ru/1008-tsitaty-pro-schaste
2. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., Мысль. 1986, с.571. (Diog. Laert. II 75)].
3. Doring K. Aristipp aus Kyrene und die Kyrenaiker// Die Philosophie der Antike. – 1998/ – Bd. 2. – Hbd. 1. – S. 248-249.
4. Виндельбанд В. История древней философии. – Киев. Тандем. 1995. – С. 132].
5. Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. – М., Наука. 1993. С. 94-96 (Xen. Mem. III 8)].
6. Гусев Д. А. Социальные предпосылки зарождения античного скептицизма и специфика стоической теории познания. – Философская мысль. 2015. № 1, с. 148-191.
7. Древнеримские мыслители. Свидетельства. Тексты. Фрагменты. Киев. 1958. С. 47-74.
8 Аристотель. Никомахова этика. Книга 1. Соч. в 4 томах. М., 1983.
9.. Далай-лама XIV. How to practice. The way to a meaningful life (www. Theosophy.ru
10.. Фома Аквинский. Сумма теологии. Том IV. Вопрос 5.
11. Кант И. Основоположения метафизики нравов. Соч. в 8 тт. М., ЧОРО. 1994. Т. 4, с. 221.
12. Кант И. Изречения. Калининград. Издательство РГУ им. И. Канта. 2010. ISBN 978-5-9971-0077-3.
13. Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости. Глава 1. 2015. Litres. ISBN 978-5-699-75854-8.
14. Ницше Ф. Веселая наука. М., «Мысль». 1990
15. Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое. Книга для свободных умов. М., «Мысль». 1990
16. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. Лениздат. 2014
17. Мария Хайнц. Позитивный тайм-менеджмент: Как успевать быть счастливым. М. Альпина Паблишер. 2014. С. 35-128. ISBN 978-5-9614-4795-8
18. Джон Готтман, Джоан Деклер. Эмоциональный интеллект ребенка. Практическое руководство для родителей. М., Манн, Иванов,Фербер. 2015. С. 17
19. Бердяев Н. А. Избранные мысли о вере и Боге. Счастье. Yakov.works /4/texts/Berdyaev/04 Bog.htm].
20. Низовцев Ю.М. В чем, как и для чего действует свобода. 2014 [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. litres.ru
21. Низовцев Ю.М. Сборник «Всё не так !? а как ?!». 2019. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. litres.ru
22. Низовцев Ю. М. Сборник «Всё наоборот. Ответы на каверзные вопросы об интересном». 2018. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.litres.ru ].
2. Почему время жизни таково, каково оно есть?
I
О вечной жизни существует неимоверно большое число спекуляций. Более того, отношение к этой проблеме разделило народонаселение на атеистов и верующих.
Однако в основе своей, этот подход к проблеме жизни ставит ее с ног на голову вследствие взгляда на мироздание изнутри – со стороны человека, находящегося в некоей конструкции.
На самом деле не конструкция заключает в себе человека, диктуя ему, как жить, а всё живое, включая человека, «конструирует» мироздание, но не ради этой структуры, а ради собственного сознания.
Суть состоит в том, что всякий живой организм обладает одной способностью, которая отсутствует у всего неживого.
Живые организмы, единственные из всего, что есть в бытии обладают субъектностью, то есть сознательно, но на разных уровнях владеют информацией, если, конечно, понимать под информацией сведения о состоянии объектов, окружающих организм, которые он распознает имеющимися у него средствами.
Информация, как таковая, отсутствует для всех неживых объектов (вещи), поскольку в их распоряжении нет средств для распознавания, точнее, формирования окружающего, а именно – нет ни органов чувств, ни центров, обрабатывающих поступающие через рецепторы данные таким образом, чтобы вокруг образовывалась изменяющаяся среда, в которой можно жить, размножаться, поддерживать существование собственного рода, развиваться и вместе с тем конкурировать с остальными живыми существами за право занимать различные ниши жизни, сначала не осознавая это, а потом и совершенно сознательно в лице человека.
Другими словами, без способности воспринимать и производить информацию невозможно ничего проявить, если даже это что-то и имеется в скрытом состоянии.
Поэтому, чтобы проявилась «конструкция», в которой можно жить, требуются организмы, способные извлекать и производить информацию, материал, составляющий внутреннюю и внешнюю сферы для существования этих организмов, и длительность, в рамках которой можно действовать, передавая эстафету последующим живым организмам, которые в результате случайных изменений в геноме (программам, записанным на белковых молекулах) смогут лучше приспособиться к изменяющемуся окружению.
Так как кроме живого (активного) и неживого (пассивного) нет ничего, то длительность, в которой можно существовать, развиваясь, живому приходится формировать самому благодаря своим возможностям воспринимать и перерабатывать информацию, выделяя из вневременной бесконечности те сведения, которые оно способно распознавать в соответствии со своими формообразующими способностями в виде копий фрагментов объектов, которые потенциально, но слитно, содержатся во вневременной бесконечности, в которой скрыто всё, что было, есть и всё, что будет.
Эти копии, поступающие в живое существо как импульсы (пакеты информации), содержат закодированные сведения о материальных объектах, которые живое существо благодаря присутствию сознательной части в виде совокупности органов чувств, обрабатывающих информацию центров и формообразующих способностей, оказалось способным идентифицировать. Эти последовательные сигналы-импульсы подобно телевизионной картинке сливаются в живом существе в зрелище непрестанно меняющегося окружающего, поскольку пауза между поступающими друг за другом импульсами нивелируется в сознании живого существа за счет определенной длительности обработки каждой порции информации и возникающей тем самым задержки, делающей для сознания непрерывным (порог восприятия) дискретный процесс поступления информации.
Именно так каждое живое существо формирует собственное окружение в виде движущихся в текущем времени и пространстве объектов собственного бытия, а в своей совокупности живые существа формируют общую среду для своего дискретного, но стабильного в течение жизни существования в виде вселенных со всеми атрибутами.
Поскольку выделение из вневременной бесконечности, в которой сознание и вещи слиты воедино и не способны проявиться без их разделения с последующим соединением, обеспечивает уже временная сверхвысокочастотная голографическая проекция вневременной бесконечности, постольку появляется текущее время (бытие), в котором единая вневременная бесконечность обретает способность «дробиться» на бесконечное число конечных упорядоченных образований – информационных копий собственного скрытого содержания.