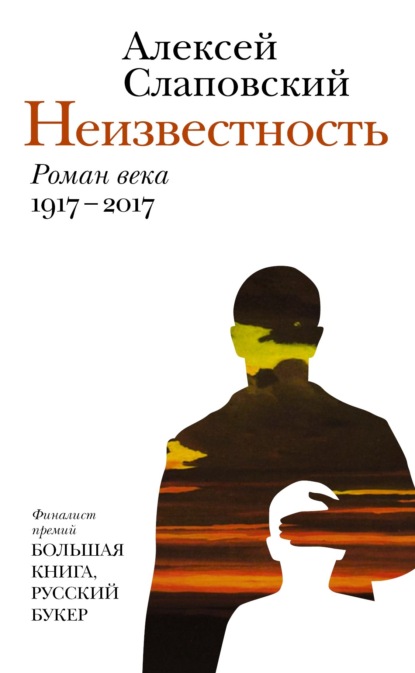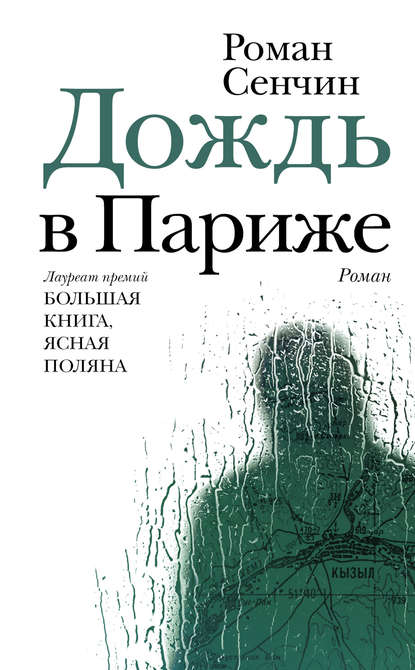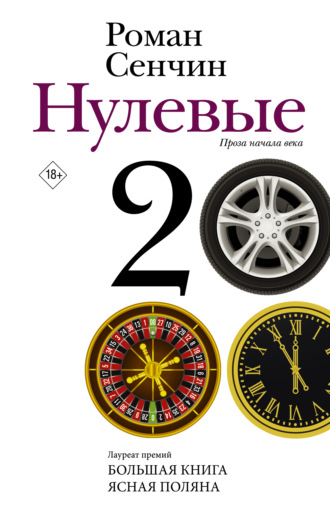
Полная версия
Нулевые
– Что случилось? – спросил сейчас почти испуганно; дел у Дмитрия Павловича к нему за все тридцать лет случалось не густо.
– Да это, видишь ли, не в двух словах. Давай после занятий. А лучше – на большой перемене. Посидим в «Короне», например, поговорим обстоятельно… Как, лады?
– Лады, – кивнул, конечно, Юрий Андреевич.
Войдя в аудиторию, по привычке пробежал глазами по рядам, поднимающимся амфитеатром, внятно, в полный голос объявил:
– Добрый день! Садитесь!
Сам же втиснулся в узкую фанерную трибунку, положил перед собой бумаги, хрестоматию Гудзия, отодвинув ребром ладони в угол шуршащую обертку от «Твикса». Еще раз, теперь уже пристальней, посмотрел на студентов, про себя отметил: «Едва ли треть собралась».
– Тема нашей сегодняшней лекции – «Сатирическая литература шестнадцатого тире семнадцатого веков».
Это была предпоследняя лекция курса. Последнюю, по традиции, Юрий Андреевич посвящал старообрядческой литературе. А затем начинались зачеты, экзамены. В июле – вступительная эпопея. Потом же, наконец, коротенький отпуск…
Двадцать четвертый раз он говорит в этой аудитории, стоя в этой же самой, напоминающей детский гроб, трибунке, одни и те же слова:
– Датировка «Повести о Ерше Ершовиче» вызывает споры. Принято считать, что написана она в середине, а то и ближе к концу семнадцатого столетия. Впрочем, в начале шестидесятых годов стали появляться аргументированные гипотезы, что «Повесть…» создавалась в конце шестнадцатого или в самом начале семнадцатого веков…
Двадцать три волны студентов, двадцать три курса филологов, в каждом из которых по шестьдесят человек. Без малого полторы тысячи набирается… Единицы остались здесь, в родном институте, некоторые уехали в Новосибирск, Питер, в Москву, из них, наверное, с десяток в науке; кое-кто, естественно, работает по специальности – учителями литературы и русского языка. Но большинство-то занимаются совсем не тем, ради чего учились, читали совсем не нужные в повседневной жизни книги, исписывали толстенные тетради конспектами, не спали перед экзаменами, до слез радовались дипломам…
Город не из крупных. Впрочем, считается студенческой столицей Западной Сибири. Да, вузов тут хоть отбавляй… На улицах Юрий Андреевич то и дело встречает знакомые лица тридцати-, двадцатипятилетних парней и девушек; и каждый раз как поленом по голове, когда узнает он в троллейбусной кондукторше бывшую бойкую девчушку, отлично прочитавшую доклад на тему «Областнические тенденции в литературе Древней Руси», или вдруг продавец из палатки с видеокассетами оказывается тем юношей, что так бегло, голосом новгородского дьячка шпарил: «Коркодил зверь лют есть, на что се разгневает, а помочится на древо или на ино что, в тот час се огнем сгорит. Есть в моем земли петухы, на них же люди ездять». А теперь вот увлеченно рассказывает он потенциальному покупателю: «Ну, “Эволюция”! Просто шестисотый фильм! Такой синтез фантастики и стёба. Эффекты не слабее, чем в “Матрице”. Дэвид Духовны в главной роли!..»
Надо бы привыкнуть к подобным столкновениям, но Губин никак не может, да и не хочет привыкать. Он старается поскорее уйти, прячет глаза, словно увидев нечто постыдное. А бывшие ученики реагируют неодинаково – одни тоже отводят взгляд, другие делают вид, что не узнали; бывает, радуются, бурно здороваются, бывает, сочувствующе спрашивают: «А вы всё там же?» И когда он кивает, вздыхают. Явно жалеют его…
Он и на рынок с женой перестал ходить, чтоб не умножать подобные встречи. Тем более – на рынке (не на том, где Губины покупают по субботам продукты, но какая, в принципе, разница?) работает и дочь. Не торговкой, слава богу – одно пока утешает, – в лаборатории, проверяет на нитраты укроп с арбузами… А ведь закончила биохим университета, Мичуриным и Павловым зачитывалась, портрет Вавилова над кроватью держала…
* * *Официально рабочий день начинался в восемь утра. К этому времени открывались тонары и киоски, старушки привозили на тележках овощи со своих огородов. Но Ирина, само собой, всегда немного опаздывала – приходить раньше начальства было глупо, да и путь от дома до рынка совсем неблизкий – с одного края города в другой.
Вообще, умом, работа, хоть малоинтересная и малоденежная, Ирине нравилась. Рынок компактный, аккуратненький, нешумный; огорожен, точно надежным забором, контейнерами с товаром. Находится он на стыке двух микрорайонов, недалеко от автобусной остановки. Люди, возвращаясь домой, просто не могут сюда не зайти, чего-нибудь не купить…
В каморке-лаборатории Ирина просиживала часов до трех. После этого новые торговцы почти никогда не появлялись (ложная и неискоренимая истина, что торговать нужно с утра, хотя здесь вот основной наплыв покупателей бывал как раз в пять-шесть вечера); и, не спеша собравшись, она замыкала каморочку, уходила.
Три дня здесь, потом три дня отдыха. Такой график был для нее удобен, тем более что и мать работала по такому же в своем табачном ларьке, но в другие дни, и поэтому дом всегда был под присмотром… Раньше в выходные Ирина готовилась к аспирантуре. Поступала два раза, но неудачно, и постепенно аспирантура осталась в прошлом, почти забылась. Теперь три свободных дня она проводила с сыном, делала что-нибудь по хозяйству, валялась на кровати, встречалась с подругами. Иногда ей перепадал заказ написать курсовую или реферат для студентов за небольшую плату.
Честно говоря, она обижалась на папу, который вроде совсем равнодушно отнесся к ее неудачам с аспирантурой. Ведь мог бы как-то помочь, посодействовать – он человек в местных научных кругах не из последних, есть у него знакомства… Сама она не заводила с папой разговоров об этом, даже никогда не намекала, а тот то ли не задумывался, то ли просто ввязываться не хотел.
Иногда Ирина с грустью вспоминала себя маленькой и сожалела о том своем исчезнувшем навсегда отношении к папе, когда он казался ей самым сильным, всемогущим, настоящим волшебником. Теперь от этого не осталось следа, лишь сожаление; теперь, наоборот, она замечала, что родители хотят видеть сильной ее, ждут от нее помощи и поддержки, чего-то чуть не волшебного… Ирина боялась признаться себе в догадке: это они стареют, теряют силы, может, и подсознательно готовятся отдать ей руководство семьей…
Да, повзрослев, она узнала, как трудно в жизни дается каждый шаг вперед, любая, даже самая малая перемена к лучшему. Проще всего, конечно, плыть по течению. Хорошо, если плывешь, чаще же – начинаешь тонуть, и волей-неволей приходится барахтаться, стараться быть на плаву…
Вышла из автобуса, по узкой асфальтовой тропинке пересекла двор между двух кирпичных пятиэтажек – и вот он, рыночек. Торгуют в основном продуктами. Лишь в трех тонарах – моющие средства и два киоска с цветами. Иногда еще с лотков продают то книги, то посуду, то косметику. Но это не особо расходится, и потому торговцы быстро исчезают, их место занимают другие и, тоже проведя впустую неделю-полторы, перебираются в какое-нибудь новое место. Пытаются подзаработать там.
Около девяти, рыночек еще почти пуст. Лишь несколько старух раскладывают на прилавках овощи, вяжут пучки ранней редиски, батуна. Азербайджанец Яшар перебирает возле своего киоска прошлогоднюю картошку… На ветке большого тополя, что растет между контейнерами, не по-городскому красиво распевает крошечная серокрылая пташка.
Дворник, улыбчивый юркий человечек полутораметрового роста, кем-то когда-то в самую точку прозванный Шурупом, гонит к мусоросборнику окурки и фантики. Увидев Ирину, взял метлу, как ружье на параде, приветливо гаркнул:
– Здравия желаю, Ирин Юрьна!
– Здравствуйте! – обрадовалась и она, только сейчас сознавая, что настроение у нее сегодня, несмотря на невеселые размышления, на редкость умиротворенное, светлое.
И дело не только в солнечном майском утре – ей в последнее время по душе были дни пасмурные, с ленивым, мелким дождиком: такая погода, казалось, уравнивает людей, создает впечатление, что всем не очень-то весело, у всех проблемы, нескончаемые, досадные неприятности. А в ясные дни, когда лица людей менялись, превращались в улыбающиеся, по-детски жмурящиеся от солнца, сильней давили тоска, неудовлетворенность и остро, до желания закричать, понималось, что жизнь идет мимо, впустую, не так.
Сегодня же и солнце, и красивое пение пташки, и еще не совсем прогревшийся после ночи, но тем более приятный и вкусный воздух, и улыбающийся Шуруп, и приятельский кивок Яшара, воркотня старушек радовали, прибавляли сил. Бодрили. И предстоящие часы работы (да на самом деле и не работы, а скорее дежурства в тесной будке под названием «лаборатория», заполненного монологами администраторши) не вызывали тоски. Что ж, промелькнут эти часы, и впереди целый вечер, а с послезавтра – три свободных дня. Может, сегодняшний вечер или завтрашний или выходные подарят какое-нибудь событие и как-нибудь по-настоящему изменится жизнь. Хм, как во французском кино…
Отперла дверь, включила свет, обогреватель (отопления в будке нет, только краны с холодной и горячей водой), не снимая пока плаща, села за стол. С минуты на минуту, знает, коротко, для проформы постучавшись, заглянет поздороваться ее начальница, администраторша рынка Дарья Валерьевна. Они работают в паре уже больше двух лет, и обычно у Дарьи Валерьевны происходит столько событий, что их совместных дежурств не хватает, чтоб рассказать обо всем. Но разговор начинается не сразу, не с утра, а ближе к обеду, когда они будут пить кофе.
Обогреватель мерно выдувал из решетчатой пасти горячий воздух, в будке становилось уютней… Ирина поднялась, стала медленно стаскивать плащ…
Дверь еле слышно задели костяшками пальцев и прежде, чем Ирина успела произнести: «Да!» – открыли. На пороге полная, крепкая женщина лет пятидесяти – Дарья Валерьевна.
– Привет, Ириночка! Уже пришла? Ты что-то раньше обычного, – сыпанула она горсть ежеутренних фраз; сама еще в пальто, с сумкой. – Как у тебя?
– Да ничего, нормально, – так же обыкновенно отозвалась Ирина. – Без катастроф.
– Ну и хорошо, и хорошо! Это самое главное… А у меня, представляешь!.. – Но, опомнившись, администраторша тут же остановила себя, удержалась пока от подробностей. – Ох, пойду… – Она выглянула на улицу. – Уже очередь за весами стоит. И кстати, Рагим новый завоз сделал, арбузы, виноград… так что посмотри там всё как надо. Не дай бог какая проверка…
– Да, конечно, – кивнула Ирина, – конечно…
Сейчас у администраторши самый напряженный отрезок дежурства. Нужно выдать весы, собрать арендную плату за торговое место, проверить, как убрался Шуруп, сдать выручку приезжающему обычно часов в двенадцать доверенному человеку от хозяина (у хозяина, говорят, таких рыночков штук десять по городу). И Ирине тоже придется немного пошевелиться. Хоть сделать видимость, что работает. Без этого, за простое сидение в будочке, и на десять рублей, ясное дело, рассчитывать нечего.
Поверх кофточки надела белый длиннополый халат. На секунду почувствовала себя прежней студенткой, готовящейся к практическим занятиям… Осторожно, как приучили, вынула из сейфа пробирки, реактивы, прибор для измерения нитратов… Хм, да, пародия на лабораторные опыты. Но что, в принципе, она потеряла? Имела бы сейчас, при лучшем раскладе, звание кандидата, может, дали бы место в каком-нибудь колледже или в медучилище. Только еще вопрос – смогла бы учить?.. А к научной работе и вовсе Ирина давным-давно интерес потеряла, еще курсе на третьем погасло в ней что-то, что заставляло школьницей бегать вечерами в кружок ботаников, дежурить в библиотеке, ожидая, когда принесут с почты новый номер «Науки и жизни»; упрашивать родителей купить микроскоп, дорогущий альбом для гербария… Н-да, нашла себе увлечение двенадцатилетняя девочка… Но тем не менее это увлечение дало ей возможность получить образование, профессию, работу, которая, худо ли, бедно, кормит ее и ее сына… И где такие, кто не растерял прелести детской увлеченности, превратив увлечение в средство зарабатывать на жизнь?
Мама закончила Красноярский художественный институт по специальности «промграфика», несколько лет, как сама рассказывала, пыталась сотрудничать с архитекторами, модельерами, но все заканчивалось в лучшем случае макетами, проектами, эскизами. А потом она вернулась туда, где работала три года по распределению после института – на обойную фабрику, и отсидела в производственном отделе полтора десятка лет, пока фабрику не закрыли. Теперь продает сигареты в ларьке…
Папа, как говорят, крупный специалист по древнерусской литературе. Тоже с детства у него началось… Вместо Жюля Верна читал былины и «Путешествие за три моря»… Ну а что в итоге? Преподает в пединституте, рассказывая из года в год все одно и то же, а потом на экзаменах слушает сбивчивые пересказы собственных лекций… Ничего он вроде теперь не исследует, не пишет, не публикует.
У Ирины много знакомых, почти все закончили вузы, и никого, кто бы, добравшись лет до двадцати пяти, искренне был доволен своей работой, профессией. Одни явно к ней равнодушны и предпочитают говорить о детях, о квартирных проблемах, жалуются на нехватку денег, круглый год мечтают об отпуске; другие (эти, кажется, еще не совсем сдались) изображают снобов. Физики называют Эйнштейна спятившим сифилитиком, а его теорию относительности – бредом, которого никто никогда не понимал и не поймет, потому что просто нечего понимать, сами же ни на шаг ни в чем не отступают от тех постулатов, что вдолбили им в головы во время учебы. Историки любят порассуждать о книгах Носовского и Фоменко, которые перекраивают хронологию, до слез смеются над их утверждениями, что осада Трои и захват крестоносцами Константинополя – одно событие, а сами остановились на том, что навсегда зазубрили сотню-другую исторически значимых дат, годы правления крупнейших монархов…
Да, что-то и позавидовать некому. Все превратили свои увлечения в золотой запас юности (слышала где-то такое сравнение) – в специальность, в ремесло. И радуются, что повезло не вагоны всю жизнь разгружать, а заниматься делом более или менее для себя близким. Но дальше, к открытиям, к настоящей погруженности в дело двигаться никто не желает. Диплом есть – и хорошо, кандидатскую по давно истоптанной проблеме защитил – прекрасно… Вот, может, только муж… бывший муж, Павел, и исключение. Хотя у него как раз наоборот…
Вместе со средней он закончил художественную школу в маленьком северном городке Колпашеве, потом с двух попыток – между которыми была армия – поступил в училище на театрального оформителя. Проучился, кажется, года полтора и бросил. И все-таки его взяли в областной драмтеатр декоратором.
Тогда-то Ирина с ним и познакомилась, почти пять лет назад. В то время она часто ходила на спектакли, после них с подругами и приятелями сидела в театральном кафе «Аншлаг», пила по глоточку джин с тоником, слушала умные разговоры, которые чаще всего выражались в критике только что увиденного спектакля.
Однажды, помнится, кто-то из их компании стал хвалить (редкий случай!) декорации, и тут же, будто подслушивая, подошел молодой, но изможденного вида парень в красном свитере, со щетиной на подбородке, явно нетрезвый, и с гордостью объявил: «А декорации-то мои!» Ребята насторожились, готовые послать подошедшего куда подальше, но тот вовремя, и чуть сбавив гонор, пояснил: «Я декоратор местный, Павел Глушенков. Сцену вот оформляю…» Его пригласили присесть, налили бокал вина.
Парень, посмеиваясь, достаточно комично стал рассказывать про свою работу, про то, как изводят его замечаниями и придирками художники-оформители, режиссеры, а директор то и дело пересчитывает тубы с краской и твердит про экономию; развлек компанию парочкой театральных баек… Рассказывая, он часто и жарко поглядывал на Ирину, а она, почему-то очень нервничая, на него… Что-то было в нем не просто богемное, но такое, точно он способен сотворить огромное, новое, настоящее. Способен к прорыву, что ли…
А потом, как часто, как у многих бывает, он провожал ее домой, снова рассказывал о театре, о живописи, о своих картинах, которые, как в галерее, рядами вывешены в его голове. Вот только надо собраться, вырваться из суетни – и накрасить… Это «накрасить» Ирине очень понравилось, слышались в этом слове и напускное пренебрежение к своему главному делу, и скрытая серьезность, почти одержимость… Они шли вдвоем по пустым ночным улицам, еле знакомые, а Ирине казалось, что они вместе уже тысячу счастливых лет и впереди у них тоже тысяча лет. Таких же счастливых лет… Обычный, древний, но обманывающий, наверно, каждого человека мираж.
Их счастливая пора, как оказалось, уместилась в несколько коротких осенних недель, когда они встречались урывками – то он поджидал ее после лекций возле университета, то она пробиралась в его театральную мастерскую. В те недели, когда еще не наступила настоящая привязанность, а происходила лишь подготовка к ней, стремление друг другу понравиться…
Почти сразу после их первой ночи Павел все чаще и чаще стал жаловаться; он повторял почти то же, что в первый раз, про давление оформителей, режиссеров, но теперь в его словах не слышалось ни капли комического, ни грана иронии, а сплошные сарказм и горечь. Он называл себя маляром, тут же подолгу и как-то отчаянно, в длиннющих монологах расписывал свои «ненакрашенные» картины. Театр он теперь именовал не иначе как тюрягой, в которой его держит даже не зарплата, а крыша над головой (Павлу театр снимал комнату в общежитии спичечной фабрики), ведь дом родной у него в двух сотнях километров отсюда, в Колпашеве…
Как-то однажды само собой получилось – Ирина привела Павла к родителям, познакомила. Ужинали вместе по-праздничному, за большим столом в зале. У мамы с ним оказались общие темы – в некоторой степени ведь коллеги, так или иначе оба художники.
А еще через несколько дней, словно бы мимоходом, подчеркнуто буднично, они зашли в загс и подали заявление; это оказалось очень, до странности просто – паспортные данные, пятьдесят рублей госпошлины, дата регистрации… В тот же вечер Павел с двумя сумками и этюдником переехал к ней.
Чего тогда было больше в Ирине, любви или жалости, или хотелось иметь постоянного мужчину (на нее, тихую и не особенно симпатичную, парни редко обращали внимание), она понять не могла и не хотела копаться в душе. А зря… зря, конечно.
За тот месяц, что отделял подачу заявления от свадьбы, случилось несколько ссор; ежедневно жить с Павлом оказалось делом нелегким. И родители уже не так тепло к нему относились, мама просила Ирину все тщательно взвесить, папа, по обыкновению, помалкивал, но зато выразительно хмурился… Подруги, как одна, отговаривали от такого замужества, а когда она начинала доказывать, какой Павел особенный, фыркали и махали руками: «А, романтичка!..»
Недели через три после свадьбы Павел, рассорившись с кем-то в театре, уволился. Еще через месяц нашел место художника в кинотеатре «Ровесник» и вскоре после рождения сына стал там иногда ночевать – работать, – а потом и жить постоянно.
И вот три с половиной года Ирина то ли замужем, то ли нет. Было несколько попыток и с ее, и с его стороны сойтись, но через несколько дней случался новый разрыв… А ведь ей уже двадцать семь. Из молоденькой девушки-студенточки она превратилась в женщину (так это страшно быстро и незаметно произошло!), а еще через несколько таких же страшно быстрых и незаметных лет станет очередной теткой с рыхлой, бесформенной фигурой, мясистым, вечно усталым лицом. Вроде Дарьи Валерьевны… И сейчас, она сама видит, привлекательной ее язык не повернется назвать, а дальше… И надеяться, кажется, не на что…
Долго звала Рагима принести образцы для анализа. В конце концов принес, вдобавок – водрузил на стол среди пробирок пакет с фруктами.
– Это подарок! – сказал.
Ирина, как обычно, сперва поотказывалась, затем же поставила пакет под раковину, поблагодарила. Занялась образцами.
Рагим присел, разбросал ноги, со сдержанным торжеством сообщил:
– Через три дня на родину еду!
– У-у… Надолго?
– Два месяца. Отпуск.
– Соскучились?
– А как думаешь? Всю зиму здесь, осень. На пятнадцать килограмм похудел!
– Хорошо вам…
Рагим захохотал:
– Что похудел?!
– Что едете. Я б тоже куда-нибудь с радостью…
– Поехали, слушай, со мной. Чего? Сядем в поезд – три дня, и Шамахы!
– Что?
– Ну, Шамахы… Мой город. Родина!.. Чего? Поехали, Ира. Там красиво, лето уже. Горы, вино, виноград скоро будет…
В тоне явная высокомерная шутливость, что свойственна всем, кто вот-вот обретет свободу, попадет в те места, где его ждут, где провел он детство, лучшие дни; и вот так, между делом, он подзадоривает случайно оказавшегося рядом, бросив все, сорваться, оказаться не здесь… Да, в шутку… А если взять и ответить: «Поехали! Какой у тебя поезд? Сейчас сбегаю в кассу, она здесь рядом, куплю билет. Хорошо?» Как он, наверное, перепугается, как, выкатив и без того большие глаза, заикаясь, спросит: «Нет, постой… Ты серьезно?..» Как будет изворачиваться, осторожно, чтоб не уронить свое достоинство, объяснять, что позвал просто так, не всерьез.
Ирина усмехнулась невесело, почти зло. Рагим, кажется, угадав ее состояние, перестал шутить, замолчал.
Только ушел, получив разрешение торговать, появилась Дарья Валерьевна:
– Что, Ириш, есть дела?.. А то пошли кофе пить. Только-только чайничек принесла.
– Спасибо, сейчас…
Кипяток она берет у знакомой из ближайшего дома, где газовые плиты.
Уселись в более просторной, похожей на настоящий кабинет комнатке администраторши. На столе чашки с черным, крепким «Нескафе», печенье в вазочке, рафинад. Не спеша, словно бы разминая язык и челюсти для скорой безудержной гонки, Дарья Валерьевна делилась главной своей проблемой:
– Опять вчера из военкомата повестку принесли. На медосмотр. Я отказывалась расписаться, но какой смысл… Сегодня не распишешься – завтра с милицией явятся… Как до вступительных в институт дотянуть, ума не приложу. Тут же в армию тащут, и тут же по телевизору каждый день: часовой десятерых убил и сбежал, еще какие-то с автоматами убежали, милиционера застрелили, а потом и сами себя… – Дарья Валерьевна поболтала ложечкой в чашке, вздохнула. – Вообще, больше вреда от этой массовой информации. С утра мало что вечно ужасные новости, так еще на одной программе «Чистосердечное признание», на другой «Дорожный патруль», по третьей в то же самое время «Служба спасения»… И с каким настроением я должна жить?..
С темы призыва сына в армию начинается каждая их посиделка. А потом уж – другое.
– У моей соседки-то какое несчастье, Ир! Ты себе не представляешь!
Ирина отреагировала, хотя, честно сказать, ее мало интересовала какая-то незнакомая женщина:
– Что случилось?
Глотнув кофе, Дарья Валерьевна поморщилась, спустила в чашку еще кубик рафинада. Энергично застучала ложкой по стенкам и тут же резко бросила.
– Она няней работает в детском саду. Надя… Я про нее тебе раньше когда-то… У нее муж в том году от рака желудка умер… И она в детский садик устроилась. Уже на пенсии, но копейка же лишняя не помешает, да и детишек так любит…
Администраторша еще раз попробовала кофе и теперь осталась довольна вкусом. Правда, лицо у нее просветлело лишь на секунду.
– Очень, в общем, Надю хвалили, очень ценили. И детишки тоже тянулись, сказки она им рассказывала, и насчет чистоты все очень аккуратно… И тут вот позавчера приходит в слезах. Я, конечно: «Что стряслось опять?» Плачет, задыхается. Корвалола ей накапала. Успокоилась маленько, рассказала.
Ирина осторожно пила кофе, поглядывала на печенье, но взять и начать жевать, когда вот сейчас ей сообщат нечто страшное, не решалась.
– В общем, принесла в группу кастрюлю с молочным супом. Стала разливать по тарелкам, а детишки вокруг играли. Воспитательница отошла куда-то… И тут девочка одна на нее со всего маха как налетит. Кастрюля – на эту девочку. А суп только с плиты, живой кипяток… Обварилась, говорят, очень серьезно… Тут же скорую вызвали…
Ирина поежилась, стряхивая со спины ледяные мурашки, кончики пальцев противно защипало. Так часто бывало с ней, когда слышала про кровь, про боль, когда представляла себя над бездонной пропастью.
– Ужас какой, – искренне прошептала она. – И что теперь? Как девочка?
– В больнице девочка. Ожоги… и на лице… Ей три с небольшим. На всю жизнь следы могут остаться… – Администраторша тяжко вздохнула: – И Наде каково? Она ведь всей душой к ним, и вот – такое. Пожилая ведь, пять лет как на пенсии… Еще и родители-то заявление подать грозятся…
Ирине было жалко и девочку, и няню, понимала она и чувства родителей, и все-таки жалость, сочувствие были неглубоки, почти искусственны, как сочувствие попавшим в беду героям очередного фильма.
– Н-да-а, – встряхнулась Дарья Валерьевна, высказала свою любимую и бесспорную мысль: – Страшная, Ирочка, вещь – эта жизнь. И не знаешь, в какой момент что обрушится… – Глотнув кофе, спросила: – А твой-то как сынок? Ничего, не болеет?