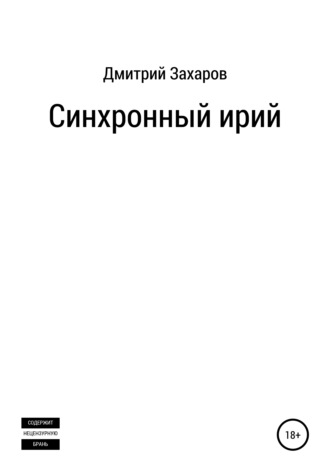
Полная версия
Синхронный ирий
Почему просто не жить как миллионы людей: работать, растить детей, обустраивать быт? Быть недалёким, но вполне эрудированным и в общем и целом умным, интеллигентным, добропорядочным и правильным? В общем нормальным и среднестатистическим? Почему бы не – ведь это очень хорошо и приятно? Почему просто не жить как сотни писателей (или тысячи, но не миллионы – их не будет миллионы никогда)? Почему бы не писать по-литературному, а не по-биззаррически, по-идиотски, быть если не лауреатом, то во всяком случае твёрдым профессионалом, а не болтаться в любителях и дилетантах? Почему бы? А почему бы Зое сегодня не придти? Но вот же!
Литература – это всегда приключение: на любовном фронте, на военном, на политическом, на психологическом, на мистическом, на литературном – на любом. Но если нет приключения… Но вот у меня-то его как раз и нет. Просто обломок какого-то глоссового апокрифа. В литературе добро всё время побеждает зло, или как стало нынче модно, зло одерживает верх, но всё время кто-то с кем-то борется. Война – это воздух человека, и без неё ему невмоготу. А вот у меня никаких войн нет – ни борьбы, ни приключения, ни добра, ни зла, ни их синтеза, ни нейтралитета. Даже мужчина и женщина не вступают в борьбу в пресловутом любовном треугольнике. Зоя, Ирэн и я. И никакой борьбы. Никаких тебе тайн мадридского двора. Никаких победителей и побеждённых. Озлобленный бедняк вымещает свою ярость в том или ином виде на богатом добряке, тупица на интеллектуале, квазимодо на аленделоне, неудачник на счастливчике. А что им ещё остаётся? Потерпевшая сторона жаждет реванша, отвечает местью, которая часто превосходит по силе, коварству и беспощадности (если не сказать садизму) во много раз приченённый урон. И это называется борьба добра и зла. Два последних слова следовало бы взять в кавычки. Бывают, конечно, и исключения. И это всем нравится. И всех возмущает. А я всего этого ни хрена не понимаю. Не понимаю и не принимаю. Поэтому и пишу всякие лжекниги.
Зоя проникает в мои зрачки как луч света в глубину тропического леса; я жду её каждый день, и она бисеринкой чёрной галактики становится моим зрачком, в ней больше звёзд, чем во всех вселенных вместе взятых, и их вовсе не нужно подсчитывать и изучать – только созерцать и слизывать языком, делать ячейкой своей радужной оболочки и очередной спиралью на коже подушечки пальца. Всё её существо развоплощается в моих туманных топях, становится моим феерическим фимиамом и кружится в моём инфрамире без небес и земли, медленно и плавно, переходя от одной аформации к другой.
Зоя – З.О.Я. – Змея особо ядовитая, как расшифровывает вульгарное сознание имя с присущей иронией, подколом и амбивалентностью – ядовитость тешит мазохистские глубины сильного пола. З.О.Я. – зикр острой яри – внедряется в толщи сексофанталогии как зазубр криптовируса.
На этажах рассредоточившегося солнца мы лежали словно два пингвина на антарктических сине-фиолетовых гладях и впитывали образы параноидальных деревьев, каменноугольных джунглей и инфраафриканских саванн. Что было позади? География наших тел (сомаграфия) – эти невидимые для других континенты, проливы, моря, бухты, лагуны, острова, реки, озёра и гейзеры, пустыни, мангровые леса и тропические болота; мы шли по нехоженным тропам, как сомнамбулические путешественники пересекают просторы неугасимых, не устранённых версий своих ещё самим себе неизвестных начинаний, там где в пещерах наших закоулочных ландшафтов спали ихтиозавры неописуемых образов. Верхняя география твоего тела – это полярные голубые снега и просторы под северным сиянием, переливающиеся аметистами и хризобериллами, это мшистые тундры с карликовыми деревьями затаённых желаний, это полосы дюн под неприветливым сумрачным небом и смешанная полоса лесов с их простым и неприхотливым очарованием. Нижняя география – это пояс вулканической активности, ревущие сороковые, бенгальские тигры и бангладешские ливни, каннибальские обряды острова Папуа и стаи летающих лисиц; мадагаскарский культ мёртвых, лабиринты амазонской сельвы и калейдоскоп коралловых рифов. Я опускаюсь из верхних слоёв атмосферы и ничего этого уже нет – только кисть цветущей сирени, в который я уткнулся лицом.
Хорошо, когда всё понятно и нет никаких вопросов, всё наперёд рассчитано, проверено, пронумеровано, проглажено, зафиксировано и запечатано. Жизнь как учебник. Изучил – передал дальше. Пока не истреплется и не осядет пылью. Но вот когда жизнь гримуар ещё не написанный, и тайнопись создаётся только-только под касаниями рук неосязаемых предметов…
Каждый раз переписывать полотно заново, а потом одним взмахом кисти раскрыть все написанные полотна. Измысл и размысл основные краски, и палитра в червоточинах реки под названием жизнь. Сколько бы мы не разговаривали, не выговорим всё равно ничего. Даже внутренним диалогом или монологом. Не выговаривать и не заговаривать, а плыть по собственной реке, а лучше быть рекою-океаном, не опоясывающим. Не выговаривать, но говорить – глоссотечь и молчать. Говорить – это паузы между молчаниями. Всё, чтобы ты не наговорил, всё это ты. ТЫ. Мир не может говорить. Ты говоришь. И молчишь. Мир не может молчать. Не говорить, не молчать. Только соприсутствовать. Ты – Слово-Река-Океан. Слово и Ты – это майтхуна крепче атомарных уз, это идеальный электр, алмазная амальгама. Ты в беспределе Слова – только ТЫ и есть. Ничто не заменит Слова. Ничто не подменит его волны катящейся и катящейся.
Я раздевал Зою будто совершал некий древний таинственный ритуал, за одно участие в котором можно было лишиться головы. Это сакральное действо дурманило меня как ядовитые пары, исходящие из расселин Этны и тянущие своими дымными фиолетовыми щупальцами в подземное царство Персефоны. Я чувствовал как её тело возбуждается и подрагивает и эта вибрация передаётся мне. Мои пальцы исполняли на её одежде умопомрачительные, виртуозные, сверхмузыкальные сонаты, сарабанды, серенады, симфонии, растворяющиеся в её опадающих шёлковых волшебных цветах. Я любовался её обнажённостью, её открытостью, её нежной слабостью. Теперь пришла её очередь участвовать в церемонии раздевания. Её пальцы на моей одежде будто приготавливали из ароматных трав напиток любви и забвения, и мои одежды превращались в приправы и пряности для этого напитка. А он разрастался до огромного горного озера, в которое мы погружались в густых лучах заката, тонули в его алхимических водах, превращавших наши тела в сновидения ангелов и погружавших нас всё глубже и глубже на дно раскрепощённой аметистовой сексуальности.
Зоя долго не уходила. Мы как две белые летучие мыши лежали головой вниз – ноги заброшены на стену. Обнажены. Нам не надоедало видеть друг друга обнажёнными. Адаму и Еве надоело – и они выбрали одежды, за которые надо трудиться в поте лица своего. Там за окном мутные подтёки ночи вырисовывали на холсте дня абстрактных насекомых. Наши ноги соприкасались. Если весь мир вырезать невидимыми ножницами вокруг нас, то ничего не изменится. Мы говорили шёпотом еле слышимые слова, не слышали друг друга, но говорили и почти не догадывались о чём. Этот вечер – огромная бездна, и мы ходили по ней как Христос по воде. И записывали свои письмена белыми иероглифами своих тел на бесконечный свиток чёрной тишины.
–2 пиония-
Дождь. С утра дождь. Слишком сильный. Люблю маленький, моросящий, как рассеянный туман, чтобы можно было без зонтика гулять. Ненавижу зонтики, но дождь не отменишь никакими указами. Если б вместо зонтика держать нимб над головой – не только дождь… Не городи чушь. Иди куда идёшь и думай… да о чём здесь можно думать, когда куда ни глянь – сплошные воспоминания.
Ирэн. Это имя носила одна из героинь генримиллеровского «Тропика Рака» (моего любимого произведения – вот и не верь после этого в мистику). И это обстоятельство, если не ещё больше возбуждало, то как-то по особенному очаровывало. С Ирэн у меня всегда возникали какие-то странные ситуации. Комната, в которой она обитала, была круглой, вернее в форме цилиндра. Ни окон, ни… ну дверь, видимо, была, но замаскирована… Как я туда попадал – не знаю. Мы обычно встречались в Золотоворотском сквере – вот здесь, он сейчас проплывает по левую сторону от меня вместе с дождём. Потом мы бродили по улицам и в какой-то момент она говорила: «Если хочешь ко мне – тебе придётся на десять-пятнадцать минут стать слепым» и доставала из сумочки чёрный шёлковый шарф. Я соглашался. Она плотно завязывала мне глаза, брала за руку и вела. Мне казалось, что мы ходили по кругу. Никаких лифтов, лестниц, подъёмов и спусков… Вдруг она снимала с моих глаз повязку… – комната с одной круглой жёлтой стеной со множеством репродукций и фотографий – в основном работы сюрреалистов и экспрессионистов. Обычно мы ели самую простую кашу, хлеб грубого помола и пили обычную воду с мёдом. Но секс… секс был таким изысканным. В тот раз Ирэн меня ничем не угостила. Села в высокое деревянное кресло и сказала, чтобы я влазил к ней на плечи. Я только хмыкнул и уселся туда, куда она просила. Мой ещё мягкий пах, соприкоснувшись в её нежным затылком, тут же отвердел. Ирэн была в тонком тёмно-зелёном платье без рукавов. Сверху я созерцал её уже немолодую достаточно отвислую грудь – верхнюю часть в натуральном виде, нижнюю – проступающую сквозь шёлковую ткань. Ягоды крупных сосков в зелёном шёлке напоминали виноград на картинах художников-примитивистов.
Ирэн сняла с меня ботинки и носки и погладила ступни моих ног. Я ещё сильнее возбудился, но она совершенно равнодушно достала откуда-то из-под своего платья чашку чая с лимоном, и, монотонно помешивая ложечкой золотистую жидкость, стала петь… да не пить, а именно петь. Даже точно не скажу что. Может быть какие-нибудь древние кельтские песни… песни друидов что-ли… ну что-то такое весьма мрачное. Потом извлекла книгу с диким варварским шрифтом и ярко-красными несуразными рисунками и стала листать с таким видом будто это гламурный глянцевый журнал. Возбуждение моё улетучилось. Стал подкрадываться сон (может она меня гипнотизировала), и чтобы не упасть я схватился за голову Ирэн. Она отбросила книгу и сомкнула свои тонкие будто соломенные пальцы на моём запястье. Сильнее вдавилась затылком мне в пах. Потом резко наклонилась и поцеловала мне левую ногу чуть выше пальцев. Ещё чуть выше. Обернулась – и правую ногу. И кончиком языка стала выписывать узоры на каждом из десяти пальцев. Своеобразная девочка. Потом мы слушали органную музыку.
В другой раз Ирэн уложила меня на пол и встала обеими ногами мне на лобок. «Ты будешь прыгать или петь?» – спросил я. «Я буду гелиопольским обелиском», – Ирэн подняла руки, и нежная голубая вуаль, драпировавшая её тело, лёгкой волной соскользнула на пол, обнажив абсолютно гладкую, словно мраморную, без единого волоска, фигуру. Казалось у Ирэн не было пупка, настолько он был невзрачен. А женский атрибут между ног можно было узнать по едва заметному разрезу только потому, что a priori знаешь, что там что-то должно быть. Инопланетянин и не заметил бы этот разрез. По сравнению с крупной отвислой грудью, эти анатомические элементы выглядели просто микроскопическими. Нижняя половина тела будто принадлежала иному существу – из Эдема, из Сириуса или из утопии андроидов. Грудь Ирэн нависала надо мной как тыквенные ритуальные сосуды, прицепленные к тотемному столбу. Я не видел её глаз и лица. Вместо них – огромные бледно-розовые ареолы с тяжёлыми нефритами сосков. Их каменный неподвижный взгляд рисовал в воображении Медузу Горгону. И округлял моё тело, превращая его в галечную глыбу на берегу загадочной Фуле.
Ирэн читала мне вслух «Улисс». Нет, на слух он совершенно не воспринимается. Его нужно читать одному, обложившись энциклопедиями. Уникальное произведение! Я попросил почитать мне «Одиссею» в оригинале. Ничего непонятно. Но как красиво звучит!
– Кто тебе больше всего нравится из героев «Илиады»? – спросила Ирэн.
– Елена Прекрасная.
– Почему?
– Потому что она Прекрасная.
– Так. А может любимый герой «Одиссеи» у тебя циклоп?
– Нет (хотя мне импонирует твой нестандартный подход). Любимый герой «Одиссеи» – Цирцея.
– Потому что она превратила спутников Одиссея в то, что они есть на самом деле?
– Нет. Это банально. К тому же никого ни во что она не превращала – она только открыла шлюз для превращения. Она мне нравится просто потому, что она необычная женщина, ну вроде тебя. Что думали по этому поводу ахейцы меня не волнует. Кстати, Захер-Мазох тоже любил эту героиню «Одиссеи».
– Ну с этим писателем всё ясно. Он только и желал того, чтобы красивая женщина превратила его в поросёнка. А может и ты этого хочешь?
– Если уж говорить о превращениях, то я бы пожелал стать одеялом, которым ты укрываешься каждую ночь, а заодно и простынёй, на которой ты лежишь.
– Пикантно-утончённо и вместе с тем довольно грубо. Я подумала ты скажешь ещё грубее, вроде того, что хотел бы, чтобы я превратила тебя в своё нижнее бельё.
– Не отказался бы, но я этого не сказал именно потому что ты об этом подумала.
– Я всегда говорила, что ты своеобразный мальчик.
Такие разговоры заканчивались своеобразным сексом. Римская поза восхищала Ирэн чисто теоретически и литературно. Она любила перечитывать подпольные сочинения Марциала и Овидия, так называемые эротопигнии, где описывалась не только эта поза, но эта особенно. Вообще о позах мы никогда не договаривались – всё получалось спонтанно. «Камасутру» я прочитал уже после того как перепробовал не меньше семи десятков вычурных поз, из которых только дюжина совпадала с картинками пресловутого индусского сексуального букваря. Позы прорастали сами, словно лианы в тропической сельве. Руки и ноги перепутывались иной раз так замысловато, что с трудом распутывались и это при том при всём, что ни я, ни Ирэн никогда не занимались йогой и даже просто элементарной растяжкой. Правда, утреннюю зарядку я себе иногда позволял. Но во время эротических игр тело забывает, что оно не тренировано – какое ему дело до какой-либо акробатической подготовки – оно подчиняется неким таинственным энергиям и изгибается в соответствии с ними. Инстинктивно-интуитивно образуются фигуры сюрреальной геометрии, которые невозможно придумать, точно описать и повторить. Приходится довольствоваться только смутными воспоминаниями и теми следами ощущений, которые навсегда остались где-то в глубинах нейронов и эритроцитов. Что-то струящееся по коже и превращающее её гладкие и эластичные эпидермисы в барельефы майяского татуажа на сферах радужных ктеических фасет, когда два тела вычерчивают узоры эллипсов и гиперболических мягких меандров каскадами белых шаманических танцев. Нижние конечности перемещаются вверх, а верхние вниз, чтобы в следующее мгновение образовать спиральную эпюру и волновой захлёст морских узлов и хаотичных петель. Гениталии и лица отклоняются от оси и их смещение создаёт соцветия серафического северного сияния. Наши позы иногда ошарашивали нас самих и нам казалось, что это происходит не с нами, а с двойниками из наших грёз и сновидений. Нам никогда не удавалась так называемая миссионерская поза – наши тела инстинктивно избегали её и с первых же тактов сплетались в мангровый орнамент. Интересно, что само название «миссионерская поза» появилось в Полинезии, когда европейцы-миссионеры – в основном это были католики и пуритане – распространяли среди дикарей тихоокеанских архипелагов библейские догматы. С местными пылкими и фривольными «таитянками» они вступали в сексуальную связь только в позе «лицом к лицу мужчина сверху», тогда как их партнёршам этого было далеко недостаточно и они назвали эту единственную скучную позу с немалой долей сарказма и обиды миссионерской.
Кто только и как только не описывал половой акт, но описать его всё равно никому так и не удалось, и я думаю не удастся, потому что половой акт это не механика и не физика. Это мистика. Анатомические, медицинские и антропологические детали ничего не дают и только перегружают описание. Литературные изыски уводят в сторону. Пуританская лапидарность обезвоживает, а намёки и умолчания – очень важные механизмы – стирают краски и линии, оставляя слишком много места для абстракции. Обилие нюансов описать невозможно – а ведь это самое главное. Один поцелуй, одно объятие, одно прикосновение порой порождают столько чувств, что их даже невозможно зафиксировать, не то что описать – они разлетаются как облака разноцветных бабочек, оставляя в душе просто световое пятно от вспышки.
«Если сновидения занимают одну треть жизни, значит от них невозможно просто так отмахнуться. На довесок ко всем кошмарам утром на длинном узком серебряном подносе одиннадцать одиннадцатигранных призм. – Почему одиннадцать? – спросила Ирэн голосом Зои. – Потому что одиннадцать – запредельное число, – ответил я. – Десять – число завершённое и предельное. Одиннадцать выступает за грани числового круга, числовой ойкумены. Правда, если бы у нас было одиннадцать пальцев, мы бы думали иначе. Ну а если бы во Вселенной вместо звёзд были паутины или рубины…»
Это голос за кадром. Он звучал за кадром во сне. Или за самим сном?
Ни наука, ни религия, ни философия не смогут ответить на вопросы предельные. Но ведь они есть эти предельные вопросы. И задаём их мы, а не какие-нибудь инопланетяне. И ответы на них тоже есть. Только их невозможно услышать, уловить, а уж тем более подать в фиксированном виде. МУЗЫКА И ПОЭЗИЯ – как небо с облаками и океан с волнами, что-то движущееся, хаотическое, диффузное. Как влюблённость в двух женщин одновременно – что-то непонятное, невозможное и вместе с тем возможное, как взаимопроникновение поэзии и музыки: волна сливается с волной, облако растворяется в другом облаке, небо отражается в океане, океан в небе. О этот вечный проклятый любовный треугольник! Почему бы не разомкнуть его и сделать из него плавный завиток, где три точки были бы не на разных полюсах, а в одном росчерке.
Почему древние греки достигли такого совершенства в изображении обнажённого тела? Потому что они часто созерцали обнажённые тела. На Олимпийских играх спортсмены выступали без всякой одежды, чтобы зрители восхищались красотой их тела. Созерцание обнажённых тел не только естественно, не только притягательно, но главное вдохновительно. Оно вдохновляет. Во многих случаях оно является последней каплей, переполняющей чашу вдохновения, оно – спусковой крючок для начала творческого процесса.
Когда рухнула античность, когда разбились античные статуи, тогда же разбилась вдребезги и красота обнажённого человеческого тела, и даже эпоха Возрождения не смогла её окончательно восстановить. До сих пор обнажённое тело подвергается каким-то запретам, цензурам и дискриминациям. Бог создал тело, а не одежду. Это человек создал одежду, чтобы показать, что он умнее Бога. Прикрыл Его творенье ничтожеством своим. Тело такое красивое, а нам всё время пытаются навязать мысль, что тело безобразно и омерзительно, что в нём есть нечто постыдное. Постыдное есть только в некоторых особо квадратных головах с ослабевшими нейронными связями с право- и левосторонними сердцами. Особенно меня раздражают всякие тупые соцсети со своими лицемерными охранными мерами. Обнажённую женскую грудь с эрегированным соском показывать нельзя и дельту Венеры (то есть самые красивые места тела), ибо это чревато… И чем же интересно это чревато? Кастрировал бы этих ублюдков, будь моя воля! Нам Бог для чего глаза дал? Чтобы красоту созерцать. Ум дан для умственного созерцания, а глаза для телесного. А среди телесного самое красивое это обнажённое тело. «Обнажённость женщины мудрее, чем поучения философов» (Макс Эрнст).
Глаза – это солнце человеческого тела, вокруг которого, как планеты, вращаются все его формы. И глаза – это солнце человеческой души, и значит во взгляде сосредоточен весь человек. Поэтому прямо в глаза невозможно долго смотреть – это всё равно, что падать с облаков без парашюта. Но взгляд в взгляд высвобождает колоссальную энергию – не энергию звёзд, но энергию чувств. Достаточно одного взгляда… Зато все остальные части тела… Вертикальные в различных своих изгибах линии носа, горизонтальные в своей волнообразности линии рта, полукруглые линии груди… Вся человеческая геометрия мягкая, плавная, гибкая, особенно женская геометрия. Мне всегда нравилось созерцать наши обнажённые тела в зеркале. Что ни говорите, но человеческое тело совсем не биологично, в нём нечто присутствует из биосферы, но само оно какое-то метафизическое, запредельное. Само его вертикальное положение противоречит всему строю природы. Человеческое тело прекрасно. Не зря древние эллины создали из него культ – они просто обалдели от обнажённого человеческого тела. Упругая, гладкая кожа, покрывающая его, уже сама по себе вызывает восхищение и тактильный, даже едва заметный контакт, может породить фейерверки чувств, мыслей и фантазий. Мой взгляд медленно опускается вниз от твоих светлых, как летний день, волос к тонким изгибам бровей и незабудкам-соцветиям глаз (поистине – их невозможно забыть), к нежным, словно осенние паутинки, мочкам ушей, к твоим губам – двум маленьким розовым аквариумным рыбкам, плывущих рядышком в любовной игре; к шее, повёрнутой вполоборота и словно свитой из пучков лунных лучей, проникших в прозрачную глубину горного озера; к груди – двум водным лилиям, слегка колыхающимся на звёздной глади ночной реки; к твоей талии и белому напёрстку, из которого так хорошо пить ароматы твоей кожи; и дальше вниз, там где в завитках дремлющих водорослей притаилась перламутровая стрекоза с розовой жемчужиной своих пока ещё скрытых фасет; и вот стремительно, как горнолыжник, мчится вниз по белым склонам бёдер и падает в восторженном финише у твоих стоп. И теперь вся красота открывается снизу.
Формы Ирэн были не столь совершенны. Но что такое совершенство? Несовершенство – это одна из ипостасей совершенства. Тёмные пряди волос – словно ночные горизонты целую ночь расчёсывали звёзды. В их ореоле – чёрные дуги бровей гармонируют со взглядом карих умных глаз. Очень бледные тонкие губы – но их волна исполнена изысканнейшим резцом. Покатые, чуть сутулые плечи, торс с неярко очерченной талией и невыразительными бёдрами уводят от идеала в туманную северную мифологию, также как и ослепительно белая кожа. И плоские ягодицы Ирэн не выдерживают конкуренцию с аппетитными пышками Зои. И всё же её тело красиво; оно излучает какую-то странную, сумеречную красоту лапландских богинь, тогда как тело Зои – ослепительную красоту олимпийских. Они дополняют друг друга.
Моё тело, конечно, нельзя сравнить со статуями Поликлета и Микеланджело, но оно вполне подтянуто и в меру спортивно – ничего ни над чем не нависает и не расплывается. Конечно, желательно бы бицепсы и пресс подкачать, но я по натуре лентяй и утреннюю зарядку делаю не всегда. И всё же моё первозданно-адамическое тело неплохо смотрится рядом с первозданно-божественными телами Ирэн и Зои.
Может кому-то из читателей покажется, что я слишком много места уделяю обнажённому телу, но с моей точки зрения я уделяю ему слишком мало места. В обнажённом теле я не вижу ничего предосудительного и порочного, наоборот, в нём воплощена вся красота Вселенной. И сразу вспоминается замечательный фильм выдающегося итальянского режиссёра Лукино Висконти «Леопард». Священник увещевает князя, главного героя этой картины, исповедаться в грехах, так как знает, что князь изменил своей жене с любовницей. На что тот ему отвечает, что, мол, он вовсе не грешен, потому как за многолетнюю жизнь со своей женой, имея от неё семерых детей, ни разу не видел даже её пупка. «Это она грешница, а не я», – заявляет князь. И ещё примечательный эпизод в этом фильме. Князь принимает ванну. К нему на приём срочно просится священник. Князь говорит слуге, чтобы тот впустил его, а сам вылазит из ванной. Входит священник и смущается – князь перед ним полностью обнажённый. «Падре, – говорит улыбаясь князь, – вы видели столько обнажённых душ – обнажённое тело намного невиннее». Это просто золотые слова, которые нужно изо дня в день повторять тем ханжам, которые считают голое человеческое тело матерью всех пороков. Господа, поищите грех где-нибудь в другом месте – там вы его точно найдёте, но в открытом теле и сексе греха точно нет и никогда не было. Иное дело, когда тело и секс начинают эксплуатировать. Вот эксплуатация и есть самый страшный смертельный грех. В фильме «Таксист» Мартина Скорсезе, главный герой повёл девушку на порнофильм, она оскорбилась и разорвала с ним отношения. Он не мог понять, чем же он её оскорбил. В самих по себе порнофильмах нет ничего греховного и унизительного для человека, что вполне искренно и выразил герой своими чувствами. А вот когда сутенёры торгуют телами своих жертв, заставляют заниматься проституцией – это уже смертельный грех и преступление против человечности. Всё это отлично показано в фильме. Главный герой смотрит в кинотеатрах порно, но это никак не отражается на его человеческих качествах, его душа остаётся чистой. Но вот сутенёры ему ненавистны – и он устраивает им кровавую баню. И выходит победителем. Классный фильм! Будь я министром культуры, официально рекомендовал бы просмотр это фильма всем, у кого голые сиськи на экране ассоциируются с концом света.


