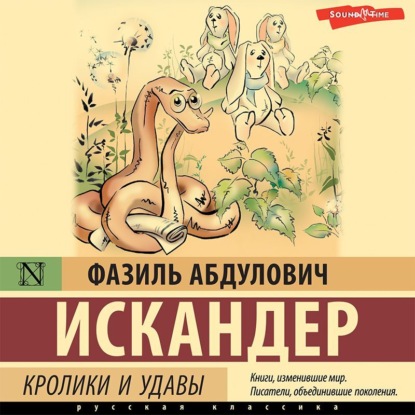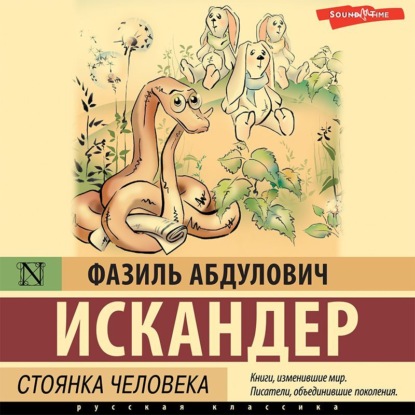Полная версия
Софичка
– Кто он вам? – спросила девушка.
– Муж мой, – сказала Софичка.
– Я сейчас поговорю с фотографом, – неожиданно для себя вымолвила девушка, чтобы как-то смягчить отказ. Ей стало очень жалко эту молоденькую вдову.
– Ты ему скажи, что я за деньгами не постою, – попыталась ее воодушевить Софичка.
– Дело не в деньгах, – грустно сказала девушка и, взяв фотографию, ушла в другую комнату.
Через некоторое время она вышла оттуда с человеком в черном халате, и Софичка решила, что он фотограф умерших людей.
– Мы не можем вам помочь, – сказал он, кладя фотографию на стол, – чтобы на большой фотографии он улыбался, надо, чтобы улыбка была и на маленькой.
У Софички был такой убитый вид, что у него мелькнула и погасла авантюрная мысль подретушировать улыбку.
– Поймите, девушка, – сказал он, – такого вам никто нигде не сделает. Мы можем только увеличить.
– Видно, ему недолго было суждено смеяться, – сказала Софичка в глубокой задумчивости, – делайте тогда так, как есть.
Она так сильно опечалилась, что не заметила, как девушка выписала квитанцию, забрала у нее деньги, вернула сдачу и предупредила, чтобы она приезжала через десять дней.
Софичка поспешила на автостанцию. Она снова вспомнила бравую фотографию дяди Сандро на коне, поднятом на дыбы, и с шашкой в руке. И конь был точно в масть, хотя дядя Сандро не приводил его к фотографу, но, видно, хорошо им описал его. Видно, с живыми они могут делать все, что хотят, а с мертвыми не могут. Так решила Софичка, возвращаясь на автобусе в Анастасовку.
Она поднялась в Чегем и, проходя мимо Большого Дома, на скотном дворе увидела дядю Кязыма. Он ей сказал, что завтра будет сооружать могильную ограду. Колья и жерди уже вытесаны.
Софичка спустилась к себе домой, вошла на кухню, разожгла огонь и приготовила мамалыгу. Она поела, чувствуя, что сильно проголодалась в дороге. Вынесла остатки мамалыги собаке. Бросила под крыльцом. Собака медленно вышла из-под дома и опять, как бы давясь от отвращения, съела мамалыгу. Софичке снова стало совестно за свой аппетит. «Неужели собака любила его больше, чем я? – подумала она. – Нет, – решила она, – собака не могла любить Роуфа больше меня, но собаку от горя ничего не отвлекает».
Потом она взяла лопату и поднялась в чащу над верхнечегемской дорогой. Она решила выкопать саженец лавровишни и посадить его над могилой мужа. Траурно-глянцевитые вечнозеленые листья лавровишни ей казались наиболее уместными. Он и встретился ей первый раз в жизни лицом к лицу с веткой лавровишни в руке.
Она нашла крепкий росток лавровишни и аккуратно, чтобы не повредить корней, откопала его. Она вернулась с ростком домой. Дома она прихватила кувшин и спустилась вниз, где в конце приусадебного участка, недалеко от родника, был по ее воле похоронен муж. На расстоянии примерно метра от могилы она вырыла лопатой ямку, посадила туда росток лавровишни и завалила корни землей. А потом, ладонями вминая землю вокруг ростка, закрепила его на месте.
После этого, отряхнув ладони, она постояла над могилой мужа и рассказала ему все, что приключилось за последние дни. Рассказала, что исполнен его наказ не проливать кровь, рассказала, что Нури навечно изгнан из рода, рассказала про неудачу с его портретом, рассказала, что собака наконец начала есть, про все рассказала.
Рассказывая, она тихо плакала над его могилой и впервые чувствовала, что слезы облегчают ей душу. Потом она нарвала папоротниковых стеблей, спустилась к роднику, набрала воды тыквенной кубышкой, стоящей на поверхности родника, положила на плечо папоротниковую прокладку, взгромоздила туда кувшин с водой и пошла назад. Придерживая одной рукой кувшин, она одолела перелаз и оказалась на своем участке. Подойдя к могиле, она сняла с плеча кувшин, полила росток лавровишни, снова взгромоздила его на плечо и, подхватив лопату, поднялась к себе домой. И впервые после смерти мужа ей показалось, что кувшин стал намного легче, даже учитывая, что часть воды она употребила на полив ростка. Она подумала, что это его душа, витающая тут, помогает ей, потому что одобряет все, что она сделала.
Собака Роуфа – это был крупный пес по кличке Волк неизвестной Софичке породы – вскоре стала ходить на могилу своего хозяина и целыми сутками сидеть возле нее. Раз в день собака приходила домой поесть и снова уходила на могилу хозяина. Там иногда она взлаивала, гоняя ворон, ежей и зайца, забредшего полакомиться фасолью. Домашних кур, которые тоже там иногда паслись, она не трогала, но, если они слишком близко подходили к могиле, она, не вставая, грозным взрыком прогоняла их. Иногда она заливалась лаем, увидев мимоезжего всадника или редкого путника, подошедшего к роднику, чтобы выпить свежей воды.
Могила была у самой изгороди усадьбы, в десяти метрах от родника и тропы, проходящей мимо него, но за изгородь собака никогда не выпрыгивала.
Софичка слыхала о случаях безумной привязанности собак к своему хозяину, но видела такое впервые. Она жалела собаку, которая и в непогоду не отходила от могилы, но не могла себя заставить посадить ее на цепь, чтобы она оставалась дома. Она так любит его, и он так любил ее, думала она, что, может быть, ему приятно, что родная собака дежурит возле его могилы, как близкие дежурят возле постели больного.
И когда Софичка приходила разговаривать с мужем, она чувствовала, что ее одобряет не только душа Роуфа, но и его живая собака, сидящая рядом и слушающая ее. Иногда собака подвывала словам Софички, когда она, всплакивая, что-нибудь рассказывала мужу. И Софичка лишний раз убеждалась, что слова ее правильны и собака своим плачем подтверждает правильность ее слов.
Иногда, когда Софичка с наполненным кувшином, не подходя к могиле мужа, поднималась наверх, собака с грустным упреком смотрела ей вслед, словно хотела сказать: «Ну иди, иди, раз уж у тебя времени нет подойти к могиле мужа».
Зимой Софичка выстлала папоротниковой соломой то место, где сидела собака, чтобы ей было теплее. Она продолжала там сидеть и когда выпал снег. По-прежнему раз в день она приходила домой, где Софичка ее кормила. Теперь Софичка кормила ее у горящего очага, чтобы дать собаке погреться. Собака съедала еду, но оставалась у очага не дольше того времени, которое требовалось на еду.
– Волк, Волк, посиди, – гладила его Софичка, но собака, виновато повиляв хвостом, уходила на могилу.
Однажды Софичка, накормив собаку, закрыла дверь в кухню, но собака, подойдя к двери, с таким скорбным упреком посмотрела на Софичку, что Софичка едва удержалась от слез и выпустила ее.
Среди зимы, видимо, от холода, собака заболела, у нее отнялись задние лапы, но она продолжала сидеть или лежать возле могилы хозяина. Раз в день, как всегда, она теперь приползала домой поесть, волоча по снегу свои задние лапы. Поев, уползала обратно, оставляя за собой на снегу длинный след волочащихся лап.
Однажды собака не пришла есть, и Софичка стала спускаться к могиле мужа, поглядывая на две борозды в снегу, оставляемые волочащимися лапами собаки. Борозды делались все глубже и глубже. В пяти метрах от могилы мужа она обнаружила труп собаки, застывший в устремленной вперед позе. «Не доползла, бедняга», – подумала Софичка. «Вот так и я умру», – неожиданно пришло ей в голову, но никакой горечи от этой мысли она не испытала. Она закопала труп собаки поблизости от могилы мужа, но за изгородью усадьбы. Теперь их души вместе, подумала Софичка, теперь ему там будет не так скучно.
За год перед войной трижды сватали Софичку, приходили в Большой Дом, договаривались. Словно в тоскливом предчувствии кровавой бойни, из которой они не вернутся, словно обреченная плоть хотела в детях перебросить себя через собственную смерть, трое молодых людей искали ее руки. Но Софичка всем отказала. Она еще была по-девичьи хороша: небольшого роста, крепкая фигурка, темный чистый взгляд родниковых глаз, бровастое миловидное лицо и редкая, но озаряющая все вокруг улыбка на пухлых губах. Она особенно была тем мила, что сама явно никогда не замечала своей миловидности и не думала о ней. И каждый, кто замечал ее привлекательность, думал, что именно ему надо в виде особого дара открыть ей тайну ее привлекательности.
Софичка подозревала, кстати без всяких на то оснований, что этих сватающихся парней за большие деньги подговорил Нури, чтобы она в замужестве наконец простила ему его великий грех и он смог бы опять слиться со своим родом.
– С чего бы это я всем им приглянулась? – говаривала она по этому поводу на табачной плантации или в табачном сарае. – Это наш хитрец старается сбыть меня с рук… Думает: спроважу дурочку, и грех мне простят… Нет ему прощения вовеки.
Но вот грянула война. Цвет молодости Чегема забрали в армию. От Нури из города пришел человек в Большой Дом и сказал, что его призывают в армию, а там – фронт и, может быть, смерть. Он хотел бы попрощаться с родными.
Что делать? Семейный совет призадумался.
– Кто же знал, что такое обрушится на нас, – сказал старый Хабуг, – кто из парней нашей крови останется, кто погибнет – один Бог знает. Пусть приезжает попрощаться с родным домом.
Так и было решено на семейном совете. Софичка не возражала, она только сказала, что сама с братом встречаться не будет. После приезда поздно вечером, видимо под влиянием выпитого, Нури умолил тетю Машу пойти за Софичкой. Но Софичка была непреклонна и не пошла в Большой Дом. На следующий день Нури уехал, так и не увидевшись с сестрой. Вскоре его взяли в армию.
Брат Роуфа Шамиль тоже был призван в армию. Дома у него оставались старые родители, жена и двое детей. Софичка любила родителей мужа, любила его брата Шамиля. Он был и по характеру, да и по голосу очень похож на Роуфа. Поэтому она его любила и была благодарна ему, что он, не исполнив закон кровной мести, оставил ее брата в живых. Нет, Софичка никогда в жизни не собиралась прощать злодейство брата, но крови его она не хотела.
Софичка время от времени, примерно раз в неделю, приходила в дом родителей мужа и всегда приносила детям гостинцы: то яблоки-зимники, сохранившиеся у нее, то чурчхели, то копченое мясо. С начала войны с едой стало хуже, колхоз резко сократил выдачу денег и кукурузы на трудодни. Почти всем приходилось обходиться тем, что давал лес и приусадебный участок. Но Софичка была так трудолюбива, что даже в колхозе зарабатывала больше всех женщин.
Так же, примерно раз в неделю, она спускалась на могилу к мужу, где рассказывала ему иногда про себя, а иногда, переходя на негромкий голос, о последних деревенских новостях, о первых повестках, об убитых на фронте.
– Ну о нем-то, – спохватывалась она иногда в таких случаях, – ты и сам знаешь лучше меня. Небось душа летит в Чегем быстрее почты…
Разговаривая с мужем, она иногда пригибалась, чтобы очистить от сорняков стебли тюльпанов и гвоздик, посаженных ею на могиле. Иногда она приходила с мотыгой и выпалывала сорную траву.
Каждый раз, поговорив с мужем, она чувствовала, что он ее выслушал и теперь благодарен ей за то, что узнал, благодарен ей за то, что она не оставляет его сиротствовать в могиле, и благодарен ей за ее образ жизни. Она всей своей ублаготворенной душой чувствовала эту благодарность, и походка ее делалась легче, и темные лучистые глаза струили освеженный свет. Даже кувшин, который она обычно в таких случаях оставляла на роднике, а потом, возвратившись, наполняла водой и тащила на себе, делался намного легче. И это ей служило самым прямым доказательством, что душа его не только одобряет ее образ жизни, но и помогает ей нести кувшин.
Через год война докатилась до Кавказа. Бои шли на перевале, и до деревни, особенно по ночам, доносился гул канонады. У крестьян отобрали лошадей и ослов, потому что армии не хватало средств перевозить боеприпасы и еду до перевала, где шли бои.
Чтобы одной не скучать дома, обычно Софичка брала к себе кого-нибудь из детей дяди Кязыма или тети Маши. В эту ночь у нее ночевала пятилетняя дочь дяди Кязыма.
Ночью Софичка проснулась. Ей показалось, что кто-то тихо стучит в дверь. Софичке стало страшно. Ночь была дождлива. Далеко-далеко с перевала доносилось погромыхивание канонады. Софичка уже было подумала, что этот стук ей примерещился, как вдруг снова его услышала. Кто-то тихо, но настойчиво стучал в дверь. Кто бы это мог быть? Лемец? Абрек? Грабитель?
Снова тихий, настойчивый, осторожный стук. Софичка, стараясь не разбудить маленькую Зину, тихо подошла к дверям с громко колотящимся сердцем.
– Кто? – полушепотом спросила она, задыхаясь от страха.
– Это я, Софичка, – раздался голос, оледенивший ее. Это был голос ее мужа.
– Ты? – удивилась Софичка и все-таки, преодолевая страх, открыла дверь.
В дверях – черный силуэт человека.
– Это я, Шамиль, – сказал он тихо, видимо, чувствуя замешательство Софички.
Ну да, вспомнила Софичка, у них всегда голоса были похожи.
– Какими судьбами? Входи, – шепнула Софичка, и радуясь его появлению, и чувствуя какую-то безотчетную тревогу.
– В доме кто-нибудь есть? – спросил он.
– Зиночка, – тихо сказала Софичка и напомнила: – Младшая дочь дяди Кязыма.
– Пойдем на кухню, – понизив голос, сказал Шамиль.
– Идем, – шепнула Софичка и, вспомнив, что она в ночной рубашке, застыдилась: – Я сейчас.
Она быстро и тихо оделась и вернулась к нему. Они зашли на кухню. Софичка нащупала спички, лежавшие на карнизе очага, чиркнула, сняла стекло с керосиновой лампы, запалила фитиль, вставила стекло на место и обернулась к Шамилю.
Он стоял посреди кухни в мокрой солдатской шинели со страшно похудевшим, остроскулым лицом, заросшим давно небритой бородой, с ввалившимися и сверкающими нехорошим блеском глазами. И больше всего ее поразили эти его одичавшие глаза, изменившие весь его облик. За спиной его блестел ствол автомата.
– Садись, – сказала Софичка, кивая на скамью у очага, – только шинель сними.
Он поставил автомат к стене, снял шинель и повесил рядом. Сел на скамью и вдруг обернулся на свой автомат одичавшими глазами, словно примериваясь, как цапнуть его в случае надобности.
Софичка схватила головешку из очага, разгребла жар, спрятанный под золой, и раздула огонь. Потом она подвесила на огонь чугунок с мамалыжной заваркой, нанизала на вертел копченое мясо, отгребла часть жара из разгоревшегося костра и уселась на низенькую скамейку, покручивая вертел над углями.
Шамиль, сидевший на скамье, низко наклонившись над огнем, чтобы прогреть и подсушить мокрые плечи, не сводил глаз с мяса, поворачивающегося на вертеле и начинающего шипеть. Когда капли жира, стекающего с мяса, падали на жар, пыхнув голубоватым пламенем, он вздрагивал.
Поджарив мясо, Софичка подогрела фасолевый соус в котелке, сварила мамалыгу. Быстро поставила низенький столик перед огнем. Она наложила на него большую порцию дымящейся мамалыги, сдернула с вертела мясо на большую тарелку, плеснула фасолевый соус туда же и придвинула тарелку Шамилю. Он уже в нетерпении отщипывал от дымящейся мамалыжной порции.
– Два дня ничего не ел, – сказал он, шумным вдохом остужая во рту мамалыгу, – а горячего – две недели.
Поев, он рассказал ей свою историю. Месяц назад полк, в котором он служил, перебросили на перевал. Немцы выбивали их с занятых позиций минометным огнем. Сверху бомбили и поливали из пулеметов. Но страшнее бомб и минометного огня для наших бойцов оказался голод. Если с боеприпасами кое-как поспевали, то еду обычно привозили редко. Бойцы по нескольку дней голодали.
Они собирали ягоды. Некоторые приспособились охотиться за немецкими солдатами. Если удавалось солдата убить и подползти к нему, как правило, у него в сумке можно было найти пайку хлеба и кусок масла. Иные бойцы погибали, охотясь за немецкой пайкой хлеба. Каково было живым солдатам видеть, как их товарищ остался лежать на склоне горы за кусок хлеба!
Высота, на которой укрепилась их рота, держалась дольше всех. Но немцы лезли и лезли. Два дня назад они накрыли их позиции таким густым минометным огнем, что все его товарищи погибли или были ранены. И он решил кончать с войной. Ночью он оставил высоту и за два дня лесами, горами, ущельями добрался до Чегема. Так как его родной дом расположен далековато от леса, он решил зайти к Софичке. Здесь лес рядом.
– Но ведь тебя власти арестуют, – сказала Софичка.
– Буду прятаться в лесу, – отвечал Шамиль, – лучше пусть убьют здесь, чем в этом чертовом пекле… Как дома? Дети здоровы?
– Все здоровы, – успокоила его Софичка, – я у них была позавчера…
– Пока буду прятаться в лесу, а там посмотрим, – сказал он задумчиво.
– Как знаешь, – заметила Софичка, – ты мужчина, тебе решать.
– Не боишься за себя? – спросил он.
– Нет, – просто сказала Софичка, – ты брат моего мужа, я должна тебе помогать.
– Спасибо, Софичка, – сказал Шамиль, – даст Бог, отплачу тебе за добро.
– Ты брат моего мужа, – повторила Софичка, – я буду делать для тебя все, что могу.
Шамиль решил поспать до рассвета, а там уйти. Софичка постелила ему на кухонной кушетке и вышла из кухни. Он разделся, поставил автомат у изголовья, лег и заснул как убитый.
Софичка вошла в кухню, взяла его солдатскую одежду и, сунув в огонь очага, сожгла. Шинель долго дымила и шипела. Не хотела гореть. Подкладывая дрова и подтаскивая кончиком вертела шинель к самому большому жару, она и ее сожгла дотла. Потом она выгребла из очага все пуговицы и, положив их на лопату, унесла в огород, где закопала в землю.
Вернувшись домой, Софичка достала одежду мужа: брюки, рубашку, носки, шапку, бурку. Враждебно и опасливо поглядывая на автомат, все это она положила на стул у изголовья спящего. Теперь, если бы его в лесу встретил случайно незнакомый человек, он, одетый в крестьянскую одежду, был бы не так подозрителен. Софичка погасила лампу и вышла из кухни. На рассвете она разбудила Шамиля. Он оделся. Она накормила его и снарядила в дорогу.
Дала ему муку, копченое мясо, спички, соль, топор, кружку и чугунок. Где-нибудь в непроходимых чащобах он должен был устроить себе логово и жить там, время от времени посещая Софичку. По ночам, конечно. Они договорились, что в следующий раз он придет ровно через неделю.
Утром, когда она завтракала с маленькой Зиночкой, та спросила:
– Софичка, а кто это ночью приходил?
– Никто, – смутилась Софичка, – откуда ты взяла?
– Я слышала, – проурчала девочка, вгрызаясь острыми зубками в копченое мясо.
– Разве ты не спала? – спросила Софичка.
– Я спала, но я слышала, – ответила девочка.
– Ешь, ешь, – как можно спокойнее сказала Софичка, – тебе это все приснилось.
– Нет, Софичка, – заупрямилась девочка, – я знаю, когда приснилось, а когда нет.
Софичка промолчала. Она решила, что если с девочкой не спорить, она быстрее забудет о своих ночных видениях. После завтрака, прикрыв дверь кухни, она, взяв мотыгу и перекинув ее через плечо, пошла вместе с девочкой в Большой Дом.
– Мама, а к Софичке ночью кто-то приходил! – воскликнула девочка, когда они вошли в кухню. Сердце у Софички сжалось.
– Кто это, Софичка? – спросила Нуца, отворачивая от очага, где готовила мамалыгу, свое горбоносое лицо.
– Ей приснилось, – сказала Софичка, стараясь скрыть смущение, – ну, я пошла на работу.
– Я же знаю, не приснилось, – услышала она за собой голос Зиночки.
До полудня Софичка мотыжила кукурузу, не прислушиваясь к разговорам других женщин. Она все думала, что будет с Шамилем. Она не могла понять, сколько ему придется скрываться в лесу и что он будет делать, если война окончится.
В полдень женщины разошлись по домам. Софичка тоже пошла домой. Она вылила из кувшина остатки воды и пошла за свежей на родник. Оставив кувшин на камне у родника, она поднялась на могилу к мужу. Она рассказала ему, что ночью к ней приходил Шамиль.
– Его там совсем голодом заморили, – сказала она, оправдывая его бегство с фронта.
Она объяснила ему, что теперь Шамиль будет жить в лесу, время от времени по ночам приходя к ней за едой. Она перечислила все вещи мужа, которые передала Шамилю, и сказала, что будет заботиться о нем так, как положено ей, жене брата. Про то, что племянница что-то заподозрила, она не стала говорить, чтобы напрасно его не беспокоить.
Рассказав ему все, она облегченно вздохнула. Как всегда в таких случаях, на душе у нее посветлело, и она успокоилась. Это был знак оттуда, знак одобрения ее жизни.
Ублаготворенная этим знаком, она вернулась к роднику, поймала плавающую на поверхности родника кубышку с ручкой и, зачерпывая ею воду, наполнила кувшин. Вырвав и умяв несколько стеблей папоротника и положив этот ком на плечо, она легко приподняла кувшин и поставила его на папоротниковую подкладку. Она подумала: кувшин наполнен свежей водой, как она наполнена тихой радостью неслышимой похвалы мужа. Придя домой, она пообедала, все время чувствуя струение тихой радости, а затем, взяв мотыгу, снова пошла на работу.
Через неделю в условленную ночь Шамиль снова пришел к Софичке. Он принес огромный кусок мяса. Оказывается, он убил косулю. Софичка приготовила мамалыгу и накормила его. Ему захотелось вымыться. Софичка нагрела воду, поставила на кухне корыто, дала ему смену нижнего белья и вышла. Шамиль выкупался, сменил белье и оделся.
Он сел у горящего очага и закурил. Софичка стала стирать его грязное нижнее белье. Выстирав, простодушно развесила его на веревке, протянутой вдоль веранды.
Когда она вернулась на кухню, Шамиль ей рассказал, что построил себе шалаш в очень глухом месте, где никогда не бывают ни крестьяне, заготовляющие дрова, ни охотники, ни пастухи. В лесу, в одиночестве, ужасно долго идет время, и, если б не охота, он, наверное, умер бы с тоски.
Софичка глядела на него своими лучистыми глазами и снова дивилась пронзительному, волчьему блеску в его глазах. Раньше, до войны, его глаза не были такими.
На рассвете он покинул дом, взяв с собой мешочек муки и мешочек соли для копчения мяса косули. Они договорились, что он снова придет через неделю.
На следующее утро, подоив корову и отогнав ее за ворота, Софичка сварила мясо косули. Ей очень хотелось угостить нежным мясом косули детей тети Маши и дяди Кязыма. Она чувствовала, что это опасно, но она очень хотела угостить детей свежим мясом косули. В конце концов она придумала, что мясо ей принес тесть. Старик изредка хаживал на охоту.
Софичка переложила мясо в миску, прихватила мотыгу и вышла из дому. Проходя мимо дома тети Маши, она подозвала ее и дала ей часть мяса, сказав, что старый Хасан убил косулю. Поднялась в Большой Дом. Дети радостно набросились на свежее мясо. Софичка с удовольствием глядела, как они едят.
– Откуда ты взяла мясо косули? – удивилась Нуца.
– Отец мужа принес, – ответила Софичка, радуясь своей хитрости.
– Надо же, старик еще охотится, – сказала Нуца и тоже присела к детям и стала есть мясо косули.
Свежего мяса давно никто не ел. Ели копченое, пока оно было.
Софичка взяла мотыгу и отправилась в сторону кукурузного поля. По дороге ее нагнал бригадир. Это был пятидесятилетний мужчина, статный, красивый, но, по мнению Софички, у него были слишком сладкие для мужчины глаза. Она давно заметила, что он слишком часто поглядывает на нее этими бархатистыми глазами, покрывающимися иногда пленкой похоти. Это был первый чегемский хам, но никто еще, и сам он, об этом не подозревал. Он так понял случившееся в стране: закон гор побежден законами долин. Значит, все, что считалось святынями, на самом деле не существует. Остается быть достаточно хитрым, чтобы делать то, что тебе выгодно.
– Софичка, – крикнул он, догоняя ее на тропе и близко заглядывая ей в глаза, – что это за мужик у тебя в доме появился?
– Какой мужик? – спросила Софичка и почувствовала, что у нее сердце остановилось.
– Сейчас проходил мимо твоего дома, – сказал бригадир, заглядывая ей в глаза на что-то хитро намекающими глазами, – видел, мужское белье висит у тебя на веранде.
– Это мужа белье, – не задумываясь, сказала Софичка.
– Вот уж не думал, что муж к тебе приходит из могилы, – сказал бригадир, нехорошо улыбаясь и наслаждаясь смущением Софички, – я тоже как-нибудь загляну к тебе в гости…
Он обогнал ее и пошел впереди, слегка потрясывая своим статным телом. Софичка с ужасом смотрела ему вслед. Она предчувствовала, что он теперь ее так не оставит. О его злозадости, так в Чегеме называли похотливцев, ходили нехорошие слухи.
Бригадир прекрасно понимал, что Софичка не могла завести себе любовника. Тогда чье белье она сушит на веранде? Он мгновенно решил, что это белье принадлежит Чунке. Он дезертир и, видимо, время от времени заходит к Софичке. Почему именно Чунка? Потому что он был самым лихим парнем Чегема и от него с самого начала войны не было писем. Может быть, сам дезертировал, может быть, сдался немцам и немцы его здесь высадили на парашюте. О таких случаях он слышал. Так или иначе, теперь Софичка в его руках, он будет ее пугать, и она наконец отдастся ему. На самом деле Чунка был убит в самом начале войны на белорусской границе. Но об этом близкие узнали гораздо позже.