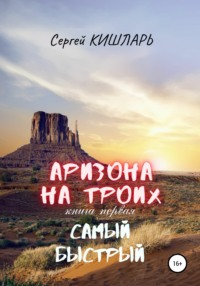Полная версия
Похищение Европы
Из тех давних времён, о которых неволей заговорил Влад, мне смутно вспоминается, как мы однажды возвращались на «копейке» Командора с какого-то пикника. Забились тесно, ехали весело. Отец на переднем сидении, я на заднем у матери на руках, рядом ещё кто-то.
Впереди ехал чёрный «мерседес», знакомый не только всему нашему городку, но и доброй половине Кишинёва. Принадлежал он тому самому Вайсу о котором говорит Влад.
Гаишник вытянулся пред «мерсом» по стойке смирно, отдал честь, потом вдруг спохватился и тормознул нас. Я тогда не понимал всех нюансов в отношениях криминала и полиции, но фразу, сказанную Командором, когда он пристраивал «копейку» на обочине дороги, запомнил на всю жизнь: «Бандитам честь отдают, а честных граждан обирают. Кормиться-то с кого-то надо».
Вспоминая это, начинаю понимать, что Влад не сгущает краски, а действительно влип не по-детски.
– Зачем она отцу рассказала? Не могли всё по-тихому сделать?
– Да хрен их этих малолеток поймёшь! Она матери под большим секретом рассказала, типа посоветоваться, а мать отцу ляпнула. Сейчас, конечно, жалеет, что втихую всё не сделали, но поезд-то ушёл. Ещё и мой старик вписался – двумя руками «за». Он в девяностые тоже в той бандитской компании крутился, хотя он только на словах такой крутой, а на деле, наверное, шестерил где-то там по мелочам. По крайней мере, все из той компании теперь уважаемыми людьми стали, а мой не при делах. Наверное, хочет хотя бы теперь к бизнесу примазаться. Типа сваты, то да сё… Короче, получается, что все за свадьбу и за внуков, только мы с ней против. А кому наше мнение интересно?
– Свобода, конечно, вещь хорошая, – из солидарности с ним вздыхаю я, – но…
– При чём тут свобода? – перебивает меня Влад.
Досадливо кривя рот, прихватывает указательным и большим пальцем мочку уха. Я уже хорошо знаю его: этот жест означает, что Влад либо растерян, либо столкнулся с каким-то тяжёлым выбором. Чем сложнее выбор, тем сильнее он растирает большим пальцем за ухом. Иногда до красноты.
– Дело не в свободе…Мне Стелла нравится.
– Какая Стелла?
– Заместителя начальника «зоны» знаешь? Серебристый «крузак» с тремя девятками на номере.
– Ну?
– Отец её.
– Худенькая такая, длинноногая? – наконец, понимаю, о ком он говорит. – Так она выше тебя ростом, и потом она такая… – не найдя подходящего слова, я козой складываю пальцы, шевелю ими, как улитка рожками, в надежде, что Влад сам подберёт нужное слово. – Забей, эта тебе не по зубам.
– Ничего она не выше…Разве, что с каблуком. А насчёт этого, – он повторяет мой жест, показывая козу. – Она только внешне такая. И потом – тупо сдаться, даже не попытавшись? Это нормально для пацана?
Влад отмахивается от льнущей к нему шторы, достаёт из кармана наушники, втыкает их в гнездо смартфона, прыгает большим пальцем по дисплею.
– Смотри, – суёт мне наушники. – Два дня, без перерыва слушаю.
Громкость такая, что даже подносить к уху не надо: «Океан Эльзы», «Я не здамса без бою».
– Сам себя накручиваю, думаю целыми днями, а выхода не вижу. – Влад жестом отчаяния ударяет ладонью по краю подоконника, с надеждой вскидывает на меня взгляд. – Ведь должен быть выход. А?
Всё что мог я ему уже посоветовал и теперь могу только предложить притушить эмоции.
– Выпить хочешь? У меня где-то полбутылки вискаря осталось.
Влад охотно поднимает на подоконник ногу, расшнуровывает кроссовку.
– Это не тот «Джек Дэниэлс», который тебе мать присылала?
– Тот самый.
– Ну ты пьёшь! У меня бы и дня не задержался.
Мать часто присылает из Италии посылки – всё, что ей приглянулось. Нужно это, не нужно – пусть лежит, когда-нибудь пригодится. Доверху забитые посылками микроавтобусы, курсирующие между городами Молдавии и Италии, стали такой же неотъемлемой частью нашей действительности как виноградники вдоль дорог.
Оттуда присылают шмотки, бытовую технику, наши шлют брынзу, солёные огурцы и помидоры. Кухня в Италии не такая как у нас, и наши иногда скучают по привычной с детства еде. Ну мы и помогаем, чем можем. Не оставлять же такую большую страну без солений.
Теперь у меня дома от этих посылок, как в том старом советском фильме: три утюга, три электробритвы, смартфон… тоже три. Особенно мать любит изыскано мятые – как выражается она – льняные рубашки. Как новая посылка, так рубашка. По большей части так и лежат в шкафу ни разу не надёванные. Я такой человек, что если привыкаю к каким-нибудь вещам, то не вылезаю из них до тех пор, пока они имеют приличный вид.
Найти работу по специальности в Молдавии было сложно, да мать со второй половины девяностых уже и не пыталась. Говорит, той учительской зарплаты было курам на смех. Несколько лет проработала реализатором на центральном рынке. Из того времени мне вспоминаются её красные, не сгибающиеся от мороза руки, совсем не похожие на те мягкие руки, которые я знал с детства.
А ещё помню ворохи квитанций на коммунальные услуги, а поверх них – мятые купюры, которые, сколько не считай их, никак не сойдутся с цифрами из квитанций.
И постоянные ссоры отца и матери.
Я сижу в своей комнате: под попой горячая грелка, на плечах плед. Центральное отопление тогда отключили из-за нехватки топлива. Денег на установку автономки у родителей не было, даже на масляный электрический камин не хватало. Да и что в нём толку, если электричество по графику.
Темнело уже после четырёх. На улице – как любил говаривать отец – тьма Египетская. В окнах чуть приметно колышутся огоньки свечей. Тогда это называлось веерными отключениями света, – на два-три часа в вечернее время, а после двенадцати – на всю ночь.
Передо мной раскрытая школьная тетрадь, в коченеющих от холода пальцах авторучка с искусанным колпачком, плед постоянно сползает с плеча. На столе китайский аккумуляторный фонарь с радио и сиреной.
Батарея садится, тускнеет свет…
– Марина собирается на заработки в Италию, – слышен из кухни голос матери. – Зовёт с собой.
– Слушай… – раздражённый голос простуженного отца на несколько секунд прерывается надсадным кашлем. – Тебе так не терпится из дома убежать?
– Что за глупости? Никуда я не убегаю. Просто надо что-то делать. Это не жизнь.
– Давай ещё год подождём, может закончится эта разруха?
– Ты сам веришь в то, что говоришь? Что закончится? Это разрушать легко, а чтобы привести всё в порядок… Ой, не знаю. Увидим ли мы это на нашем веку, а ребёнку расти надо.
– Ты думаешь, ему будет хорошо расти без матери?
– Ну не трави ты душу!
Родители сидят при свече и тени от её света начинают колыхаться в прихожей всякий раз, как повышаются голоса.
– Слушай, давай так: я ещё с этим договором попробую, – слышен не очень уверенный голос отца. – Вот увидишь, всё получится.
– А если в очередной раз прогоришь? Твой бизнес вот уже где сидит. Долгов набрал, квартира в залоге. Если что не так пойдёт, нам с Денисом на улице жить?
Прислушиваясь к звукам ссоры, я рассеяно переключаю режимы фонаря: лампа дневного света, лампа накаливания, мигалка. Когда голос матери срывается на крик, я ненароком включаю сирену, и тут же испуганно щёлкаю переключателем обратно, но отец с матерью уже стоят на пороге комнаты.
– Случайно нажал, – оправдываюсь я.
Они снова уходят, но я в последний момент возвращаю мать:
– А как правильно пишется: «сница сон» или «снится сон»?
– Сница-синица, – передразнивает она и, поднимая сползший на пол край пледа, запахивает его у меня на груди, склоняется, читая мою писанину в тетради.
Объясняя мне, она немного успокаивается, и когда возвращается к отцу на кухню, ссоры уже не слышно, – так, негромкий разговор. Но фраза, сказанная перед этим в пылу ссоры терпеливой и борющейся за чистоту русского языка матерью, до сих пор режет мне если не слух, то память: «Из тебя бизнесмен, как из говна пуля!»
Свет фонаря медленно, но неуклонно тускнеет и вскоре становится невозможно писать. Уроки опять не закончены. В десять часов, когда дадут свет, я буду уже крепко спать.
Мать входит со свечой в руке, стелет мне постель, суёт с одной стороны под одеяло грелку, с другой – деформированную от горячей воды пластиковую бутылку. Я стою у огромного книжного шкафа, поставленного в мою комнату специально для того, чтобы я с детства привыкал к книгам. Одна из книг нравилась мне больше других потому, что была самой толстой, а чем толще книга, тем она интереснее. При условии, что это не школьный учебник.
Та книга и сейчас стоит на полке: Ирвинг Стоун «Муки и радости», пугая меня своей толщиной с той же силой, с какой в детстве притягивала.
– Ну что застыл? – говорит мать. – Умываться, чистить зубы и спать.
– Давай, я утром почищу, а? Холодна-а!
– Это, что за разговоры? Ты мужчина, или нет? – Она поднимает край висящего с моих плеч пледа, распрямляет его как мантию короля. – Я сегодня твой верный паж. Вперёд, мой господин.
Умывшись, ложусь в обнимку с грелкой. Поцеловав меня и пожелав спокойной ночи, мать ещё ходит по комнате со свечой в руке, собирая разбросанные мною вещи. С потолка на длинном шнуре висит бессмысленный светильник, тень его движется по кругу как на привязи, то укорачиваясь, то удлиняясь. За окном слышны далёкие полицейские сирены, скачет в темноте стрелка настенных часов.
– Воют и воют, – говорит мать, вернувшись в кухню.
– Раз нашли бензин для выезда, значит что-то серьёзное.
Сухой мучительный кашель душит отца, сбивает пламя со свечи. На стенах прихожей гаснет колеблющийся бордовый отсвет. Отец долго кашляет, чиркая о коробок ломающимися спичками.
Свет автомобильных фар бежит по полкам, перебирая книги. Мать любит иногда вот так же скользнуть тылом указательного пальца по корешкам книг, – звонким ноготком как мальчишка палкой по забору: «Здесь мудрость всего человечества за сотни лет».
Автомобиль проезжает, «мудрость человечества» гаснет, а вместе с нею гаснет и циферблат часов, – слышно только как в темноте скачет на одной ноге стрелка, будто играющая в классики девчонка шлёпает подошвой сандалетки по расчерченному мелом асфальту, да бессильно скулят за голубоватым заснеженным окном далёкие полицейские сирены.
Такими я и запомнил те годы после развала Союза.
– В прихожую отнеси, – говорю, глядя, как Влад снимает кроссовки и аккуратно – один к другому – пристраивает их на подоконнике.
– Не, я обратно через окно вылезу.
Спрыгнув в комнату, он разглядывает плакаты на стене, будто впервые видит их. Через минуту кричит мне в гостиную:
– Давно хотел спросить, почему у тебя на всех стенах сплошная разруха?
Найдя в баре забытую бутылку виски и, прихватив квадратный стакан, возвращаюсь в комнату, киваю подбородком на плакат, который рассматривает Влад.
– Это Детройт.
Он недоумённо пожимает плечами, переходит к другому плакату.
– Балаклава, – поясняю я, скручивая с горлышка бутылки колпачок. – Заброшенная база подводных лодок в Крыму, а там – кладбище паровозов в Боливии.
– Ну и зачем тебе всё это? У нас такого добра мало? Я на день по Молдавии с фотоаппаратом поеду, – у тебя места на стенах не останется. Повесил бы здесь «Астон- Мартин-Рапид», – он поочерёдно тычет указательным пальцем в плакаты. – Здесь девятьсот восемнадцатый «Спайдер». Было бы дело.
– В этих местах есть своя красота, – наливая виски в стакан, киваю подбородком на клавиатуру. – Набери «Красота заброшенных мест».
Он набирает, некоторое время смотрит картинки, потом равнодушно поворачивается ко мне.
– Это на любителя. По мне, так никакой красоты в этом нет. Разруха она и в Африке разруха. – Он смотрит на одинокий стакан. – Может, возьмёшь со мной?
– Первый день меня знаешь?
– Ладно, будь здоров! – Он залпом выпивает, морщась, смотрит на дно стакана: – Самогон.
В этом весь Влад. Когда были в Германии, он восхищался, неторопливо потягивая местный виски: «О! Это дело, не то, что наше вино. Европа!» Теперь – самогон! Уедет в Россию, будет говорить: «О! Это настоящая русская водка, не то, что у нас».
– У меня сильный акцент, когда говорю по-русски? – Он возвращает стакан на стол, но не отпускает его – покручивает между большим и средним пальцами.
– Почти не заметно.
– Вот ты чисто говоришь, – в сомнении качает он головой, – а у меня акцент.
– Ну так это мой родной язык, как у меня может быть акцент?
Он переводит взгляд со стакана на меня.
– Так что? Поговоришь с отцом?
– А как же Стелла?
– А свадьба?
– Это решаемо. Дату уже назначили?
– Сказали в первую субботу, как закончится пост.
– Значит, надо действовать быстро, пока колесо не раскрутилось. А то приглашения разошлют, зал забронируют, тогда будет труднее отмотать назад.
– С отцом поговоришь? – клонит он в свою сторону.
– Давай так: ты ещё день-другой «Эльзу» послушай, потом поговорим. Сдаться всегда успеешь.
Влад жёстко сжимает губы. Хмуря брови, смотрит на настенные часы.
Два ночи.
– Пойду потихоньку, – вздыхает он.
Сидя на подоконнике, обувает кроссовки, на прощание поднимает ладонь, прыгает за окно в ядовитый отблеск неона.
Уходит бесшумно, только на секунду до меня доносится из наушников тихий, как тараканий шорох отзвук музыки.
Мелодию разобрать не успеваю, но знаю: там звучит призыв не сдаваться без боя.
Глава 6. Штольни
Шаги деда Тудора у калитки между нашими дворами я всегда слышу издалека. Старик обычно не торопится: поправит покосившийся тычок на помидорной грядке; задержится у виноградника, прикидывая, не пора ли сделать подвязку; оглядит выступающую из густой листвы крышу дома – не сполз ли в очередной раз лист потемневшего от дождей шифера, но в этот раз он идёт не останавливаясь, и только увидев меня, замирает у сбитой из штакетника калитки.
– Дениска! – По старой привычке дед зовёт меня уменьшительно, будто мне по-прежнему десять лет. – Рома и Павел дома?
– Дома были.
– Сходи, позови.
Он пошатывает подгнивший заборный столб, будто проверяет его на прочность и подумывает о ремонте, но, судя по всему, озабочен старик чем-то другим. Хмурит брови, теребит между указательным и большим пальцами дряблую кожу на шее, висящую как горловой мешок игуаны.
Для своих восьмидесяти пяти лет дед ещё тот живчик. Сам управляется с двенадцатью сотками огорода, половину которого занимает виноградник, а с виноградником хлопот невпроворот на всю весну и лето, я уже не говорю об осени, когда приходит время уборки винограда и колдованья над вином.
Оставив ноутбук в кресле, иду к дому, который из-за виноградного неба кажется одноэтажным. Подниматься на второй этаж лень, поэтому я взбираюсь ногами на древнюю кухонную тумбочку, стоящую у двери сарая, потом становлюсь ногой на железный крюк, торчащий из стены, просовываю голову сквозь виноградный заслон, по плечи выступая из него.
– Дядя Павел!.. – кричу в сторону правого балкона.
– Дядь Рома! – поворачиваю голову к левому.
Первым появляется Командор, щурится от солнца, выискивая мою голову среди сплошного ковра виноградных листьев. Спустя секунду на соседнем балконе дядя Павел отстраняет с дверного проёма тюлевую занавеску.
– Чего раскричался?
– Дед Тудор зовёт. Обоих.
Спускаюсь на тумбочку, прыгаю на землю, снова попадая в прохладное царство рябых теней. Сквозь густую листву и недозрелые гроздья винограда с балконов слышатся ленивые голоса стариков:
– Что это ему приспичило?
– Чудит, как обычно.
Подождав стариков у подъезда, иду вместе с ними к задней калитке. Дед молча манит нас вслед за собой к дому. Крайний штакет старой просевшей калитки будто ножкой циркуля цепляется за землю, углубляя проделанную в тропинке дугообразную канавку.
Через огород выходим на укрытый виноградом парадный двор. За воротами – городская окраина, больше похожая на сельскую околицу. По эту сторону разбитой асфальтовой улицы – частные одноэтажные дома сельского типа. По другую – широкая зелёная долина.
На небольшом футбольном поле пасутся гуси. От самодельного баскетбольного щита доносятся приглушённые расстоянием голоса мальчишек, мягкие упругие удары мяча в землю и звонкие – в дребезжащий щит.
Поначалу создаётся впечатление, что дед ведёт нас на улицу, но у подвала он останавливается, открывает одну из дверных створок. Командор сокрушённо хлопает ладонями по бокам:
– Я думал, тебе наша помощь нужна, а ты вон куда. Давай оставим это дело на вечер.
Дед уже опустил одну ногу на ступеньку подвала, стоит, пригнувшись в низком дверном проёме, осуждающе смотрит на Командора.
– Думаешь, я тебе стакан вина хочу предложить?
– А разве нет?
– Налью, но потом. Пока не заслужил.
– А чего сердитый такой?
– День не удался. – Дед ощупью шарит по стене в поисках выключателя. – Идите за мной.
Сгибаемся в дверях в три погибели, бочком спускаемся по крутой каменной лестнице.
В углах ступеней – треугольные лоскуты густой шелковистой паутины.
Пахнет плесенью, сырым камнем.
Лампочка такая тусклая, что свет от неё едва ли ярче пламени свечи. Стеклянная колба укутана облаком распылённого золота, в котором почти безболезненно для глаз видна красная раскалённая спираль.
В одном углу подвала полка с солениями, в другом – две заплесневевшие дубовые бочки на двести пятьдесят литров каждая.
– Здесь осторожною. – Дед манит идущего следом за ним Командора, пальцем показывает в угол за бочку. – Спрашиваешь, почему такой сердитый?
Командор наклоняется, некоторое время смотрит, потом негромко, но с чувством произносит:
– Япона мать!
Его тень на потемневшей от сырости стене распрямляется и, ломаясь, переходит на потолок, отчего голова кажется вытянутой как древние загадочные черепа, которые находят в Перу и приписывают инопланетянам.
Дядя Павел удивлённо присвистывает, его тень чешет затылок, а я нетерпеливо протискиваюсь между спинами стариков и второй бочкой.
– Тише-тише, малой, – придерживает меня дядя Павел.
В углу полная темень – мы спинами прикрыли низко висящую на проводе лампочку, и я не сразу различаю, что земляной пол за бочкой провалился и чёрная дыра ведёт куда-то вниз.
Дед устало присаживается на краешек нижней полки с солениями, опускает голову, сухой ладонью с чёрными глубокими трещинами приглаживает седые волосы от макушки на лоб.
– Сосед к родственникам в село ездил, сестру мою видел. Зашёл к ней в дом, а она засохшую горбушку в миске с водой размачивает…
Дед некоторое время сидит, не отрывая ладонь ото лба, потом вдруг вскидывает голову, жестом непонимания выворачивает кверху ладони.
– Ладно, огурцы-помидоры в огороде есть, летом с голоду не помрёшь. А зимой как с такой пенсией? На дрова, на уголь отложить надо? Надо! Развернуться не успел, а в середине месяца на хлеб уже не хватает. Вот и ходит на старости с мотыгой по селянам, – то одному кукурузу окучит, то другому. Хоть как-то копейку заработать, хотя ноги уже не держат. Люди, когда видят, как её из стороны в сторону качает, деньги ей за работу платят и просят пойти отдохнуть, мол, тётя Домника, мы сами всё сделаем, спасибо. Но она же упёртая как я – пока работу до конца не доведёт, не успокоится, – дед снова опускает голову. – А ты спрашиваешь, почему сердитый. Я не сердитый, я расстроился. А тут ещё эта яма в подвале.
– Да, весёлого мало. – Командор оглядывается на меня. – Малой, неси свой знаменитый фонарь.
Пока я бегал за фонарём, старики сдвинули бочку в сторону и каким-то хилым желтушным фонариком уже светят в провал. Увидев меня, Командор подтягивает шорты, голыми коленями становится на сырой земляной пол, закидывает за спину руку, требовательно шевелит пальцами. Вкладываю ему в руку фонарь, пристраиваюсь рядом на коленях.
Склонившись над провалом, Командор направляет яркий голубоватый луч вниз, клонит голову и в один бок и в другой, заглядывая в яму и высвечивая что-то в ней.
– Штольня, – заключает он, подняв голову.
– Мелковато для штольни, – сомневается дядя Павел.
– Тем не менее, штольня, – подтверждает Командор, вставая на ноги и отряхивая въевшиеся в голые колени крошки земли. – И судя по всему, очень старая. Малой, лестницу неси.
– Не дури, – пытается урезонить его дядя Павел. – Чего там искать?
– Надо же проверить. Вдруг там логово какого-нибудь чудища? – Командор подмигивает мне и глазами показывает, чтобы тащил лестницу. – Ночью выберется и пойдёт бродить по городу как в американской киношке.
– Обвалится, потом выкапывай тебя оттуда, – не одобряет его иронии дядя Павел.
– Мы осторожно. Давай, малой, чего стал? – Он снова светит фонариком в провал. – Здесь и без лестницы можно, по осыпи. Был бы помоложе – рискнул бы.
Вернувшись с лестницей на плече, неловко поворачиваюсь, едва не зацепив банки с солениями. Испуганно кручусь обратно, цепляя другим концом лестницы проволоку, на которой висит лампочка.
Тени шарахаются из одного угла в другой.
Световые отблески на сырой стене то появляются, то исчезают.
– Тихо, тихо. – Командор забирает у меня лестницу.
Опустив её в провал и проверив надёжно ли стоит, он поднимает указательный палец к вентиляционному отверстию, в которое тускло сочиться дневной свет, и виден затканный густой паутиной кружок неба.
– Путь к Богу, – подмигнув мне, он опускает палец, указывая себе под ноги. – И путь в преисподнюю. А мы между ними. Застряли по жизни, как в этом подвале. Оцени мысль, философ.
Философ – это прозвище данное мне Командором за любовь к книгам и рассуждениям. Иногда он ещё называет меня Спинозой – но это реже. Когда я впервые услышал это слово, то был ещё так мал, что отзывался на шутливое родительское «спиногрыз». Тогда мне казалось, что «спиноза» это тот же «спиногрыз», только возрастом постарше.
Живи я в советские времена, никто не стал бы называть меня философом, ибо тогда все читали книги, а в наше время я выгляжу динозавром. Командор не выглядит, и дядя Павел не выглядит, а я – вылитый ископаемый ящер, ибо родился в другом измерении. Когда тебе двадцать два и в твоей руке книга, а не привычный смартфон, кое-кто из прохожих шею сворачивает, чтобы понять, что с тобой не так.
Спустившись на две ступени, Командор стоит по пояс в дыре, с театральным видом помахивая рукой, как Гагарин перед полётом. Потом исчезает внизу. Голубой свет мельтешит в провале как полицейская мигалка, потом вырывается оттуда и, привлекая наше внимание, челноком снуёт по блестящему от сырости потолку подвала.
– Эй, кто со мной? – гулко доносится из преисподней.
Дед Тудор, не раздумывая, лезет в провал. Дядя Павел чуть слышно матерится под нос, приглаживая большим и указательным пальцем усы. У него этот жест получается непроизвольно, когда он в чём-то сомневается. Через секунду-другую он всё же лезет вниз, нащупывая ногами ступени лестницы и приговаривая:
– Приключений ему захотелось на старости. – Голова старика скрывается внизу, голос становится гулким: – Тебе задницу скипидаром намазали?
– Ацетоном, – таким же гулким голосом отзывается из преисподней Командор.
Последним спускаюсь я.
Штольня действительно очень старая, разрабатывали её вручную, а не камнерезным комбайном. Здесь тупик и ещё прохладнее, чем в подвале.
– Судя по всему, твоим бочкам больше ничего не угрожает. – Командор лучом фонаря обводит каменный периметр тупика. – Под остальным подвалом и домом пустот нет.
Он переводит луч фонаря в противоположную сторону, высвечивая длинный коридор с неровными стенами. В нескольких местах пол подземной галереи усыпан камнями.
– Идёт в сторону пустыря, – заключает он. – Здесь они видимо поняли, что массив ракушечника заканчивается, и прекратили выработку.
Сопровождая слова, тонкий луч фонаря порывисто скачет то к одной стене, то к другой, то упирается в потолок, то вязнет в глубине штольни, отчего Командор со стороны напоминает джедая с лазерным мечом.
Мне не привыкать к штольням – в детстве они были любимым местом игр, но в такую старинную и выработанную ручным способом штольню я попадаю впервые.
– Сколько ж ей лет? – Удивлённо слежу за мелькающими в серебристо-голубом пятне света неровностями стен.
– Может ещё с царских времён. – Командор переводит луч фонаря под ноги, разглядывая густо обросший ржавчиной обломок кирки. – А может и с турецких.
В раннем детстве мы боялись заходить далеко в штольни, играя на первой сотне метров от входа. Неизведанная глубина пугала, а после того, как я прочитал «Приключения Тома Сойера», мне и вовсе стал мерещиться в тёмных боковых закоулках индеец Джо.
Потом подвернулся к просмотру «Чужой». Фильмец хоть и старый, но пробирал до мурашек, ощущение которых возникало всякий раз, когда мы с пацанами углублялись в штольни, и расплывчатое световое пятно входа оставалось далеко за спиной.