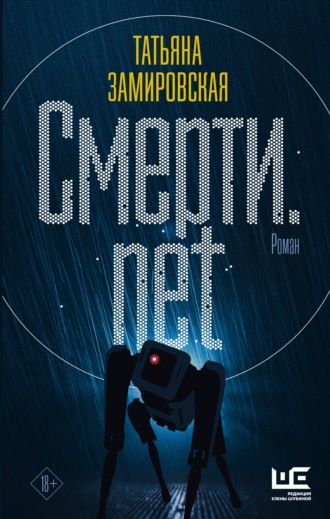
Полная версия
Смерти.net
– Я раньше была терапевтом, – вздохнула Лина. – Простите. И это моя кушетка.
– Я представляю, что все, происходящее со мной после смерти, – это как бы письмо моей бабушке, – быстро, чтобы не забыть о своем желании признаться в происходящем, выпалила я.
– Почему именно ей?
– Она – мой единственный умерший близкий, от которого после смерти не осталось ни одного цифрового свидетельства: ни чатов, ни аккаунтов в социальных сетях, ничего. Я была подростком, когда она умерла. И я иногда думаю, что мы последнее поколение, у которого есть доцифровые близкие мертвые. Те, кто остался только в нашей памяти и больше нигде. А еще, возможно, человек ее поколения, возраста и, скажем так, релевантности ко мне как субъекту – единственный адресат, обращаясь к которому, я могу редуцировать свою речь до предельно спасительного для меня состояния. То есть это не просто выбор адресата, но и выбор способа говорить об этом. Ой, можно я пока что не буду говорить об этом? Я еще не готова подробно ответить на этот вопрос.
Почему я говорю о некоторых вещах пунктирно, прерывисто, призрачно? Почему в этом беспорядочном, избыточном перечислении наречий и прилагательных я словно боюсь не успеть договорить? Видимо, я все-таки тревожусь, что нас в конце концов выключат. Я записываю все подряд, как полевой исследователь собственного испуганного разума. Да, иногда у меня бывают моменты покоя – именно тогда, как ты уже наверняка почувствовала, я сбивчиво описываю, как у нас все устроено – или как оно было устроено в идеальной и давно проигранной (во всех значениях) нами версии мира после объединения контекстов.
Когда я трачу свое вечное и от этого не менее драгоценное время на объяснение несуществующей тебе того, как мы здесь живем в твое отсутствие, мне как будто становится не так больно.
Чувствую ли я боль – или это просто память о всей боли, которую я успела испытать в жизни? Как-то слишком много у меня этой памяти.
– Возможно, у нас всех одна и та же боль, – сказала я Лине. – Это боль от отверженности, отвергнутости миром. Мне было чудовищно больно, когда муж не отвечал, не принимал мой запрос на коммуникацию. Я не понимала, в чем дело, почему он не хочет со мной общаться. А теперь всех нас не хотят больше. Не принимают.
– Хватит, наверное, – смущенно сказала Лина. Кушетка исчезла. Я обнаружила, что сижу на офисном стуле и робко катаюсь на нем туда-сюда. – Извините. Вы первая начали эту штуку.
– Я понимаю, – ответила я. – Вы меня тоже извините. Но можно я задам еще один вопрос? Технический. Вы все-таки разбираетесь в том, что происходит сейчас в реальном мире, вы ведь работник Комитета. Это про сфабрикованные новости.
– Вы про теракт хотите спросить?
– Да, про теракт. Как же все в него поверили, в этот теракт, если его не было?
– Я смотрела ваш файл, – ответила Лина. – Пока вы ехали в лифте. Похоже, это работает так: новости о насильственной смерти человека от человека запрещены, поэтому тех, кого убили другие люди в режиме «один на один», автоматически размещают в ситуации теракта, коллективной безымянной смерти. «Теракт» случился в холле здания, где вы работали; вы пришли за полчаса до начала рабочего дня, ваших сотрудников еще не было. Вместе с вами в холле погибло несколько незнакомых вам людей, просто посетителей, предположим. Они оказались там случайно. Все просто – достаточно мгновенно заблокировать вход, врубить сирену, отключить камеры, никого не пускать, всех эвакуировать, пригнать скорые и пожарные машины. Потом уже дальше слухи работают: кто-то своими ушами слышал взрыв, кто-то своими глазами видел, как выносили трупы, возникают паника и шум в социальных медиа, а там уже делается пара сфабрикованных видео якобы от очевидцев, фотографии каких-то оторванных рук, пальцев, это вот все. То есть все точно видят, что погибли какие-то люди. Но проверить это невозможно из-за закона о прайвеси умирания. Имена погибших в терактах редко разглашаются в медиа и прессе – ну, если сами друзья и родственники не напишут, конечно же. Некоторые родственники пишут, а некоторые – нет. Вы думали, почему именно? Откуда взялся закон о неразглашении имен жертв терактов?
– Я думала, это из-за беззащитности мертвых. Вообще, это всегда был мой главный страх – умереть в теракте или еще какой-нибудь – как вы сказали? – групповой смертью. Еще до того, как началось копирование. Я даже самолетами летать боялась. Меня все спрашивали: мол, статистически в автомобиле погибнуть вероятность в миллионы раз больше, почему ты этого не боишься, а самолета боишься? А я боялась, потому что в самолете куча народу! Как же мы все перейдем одновременно? И мне казалось, что такая смерть ужаснее всего из-за ее открытости, публичности: падает самолет, и про несчастных жертв тут же все пишут в медиа, рассказывают их истории жизни, выжимают слезу, вывешивают фото растерзанного желтого чемоданчика на испаханной железом жженой земле. Это было несправедливо. Я так обрадовалась, когда это запретили! Потому что, если ад и существует – наверное, он выглядит именно так: когда о тебе говорят в контексте твоей нелепой, жуткой смерти вместе с необъятной толпой случайных людей. А тебя во всем этом нет! Вообще нигде нет! После такого если и перерождаешься – хотя я знаю, что никто не перерождается! – наверняка камнем или консервной банкой, правда же?
– Страх коллективной смерти есть у многих; якобы поэтому и приняли закон о защите прайвеси жертвы. Но на деле они – вы заметили, что я говорю «они», а не «мы» – не заботились о людях или дубликатах, а просто беспокоились о том, чтобы никто не вздумал проверять, кто конкретно погиб в теракте и существуют ли эти люди. Умерло семь человек, и всё тут. Кто эти люди – информация запрещенная. И найти ее, чтобы проверить, – невозможно.
– А кто-то разве пытается эту информацию найти? – удивилась я.
– Именно! У вас даже не было желания ее искать – вы обратили внимание? Почему вам не было интересно, кто же еще, кроме вас, погиб в теракте? Полное отсутствие любопытства к обстоятельствам собственной смерти – вы думали, откуда оно?
Действительно, сильного любопытства во мне не было – я разве что поискала в социальных сетях те самые видео: хлопок, дым, размытые разлетающиеся тела, сколько я таких видео уже посмотрела прежде, ничего интересного. Но сколько бы я их ни смотрела при жизни, это не мешало мне продолжать бояться погибнуть в теракте – даже при условии защиты прайвеси жертвы мне было не по себе от мысли, что я окажусь в закрытых криминальных сводках с чужими именами незнакомых, но равноценно несчастных людей. Траншея, самовывоз, поезд в Освенцим. Не знаю, откуда во мне эта информация, почему в меня это все попало, как в почтовый ящик, который пьяный почтальон перепутал с чем-то, что вообще не ящик. Не хочу, не хочу, не хочу.
И тем не менее это правда – как только я узнала, что погибла в теракте, у меня моментально исчезли и интерес, и страх.
– Короче, потом, после условного теракта в прессе всюду пишут: теракт, погибло столько-то человек. Все вокруг привыкли к терактам, ваши близкие и знакомые конфиденциально оповещаются. Ну, вы знаете, как это происходит: организуются похороны и прочее. А за сорок дней, которые проходят до активации дубликата, проводится расследование истинных обстоятельств вашей смерти – в данном случае, как вы сами говорите, убийства.
Как именно выяснилось, что меня убил именно муж, Лина не знала. Может быть, он сам признался? Или стал жертвой хватких молодых ребят из отдела расследования конфиденциальных преступлений? У Лины, как и у А., был доступ только к тому документу про нож – я не очень-то хотела его перечитывать, учитывая, что в прошлый раз смогла осилить список моих кровавых кораблей лишь до захлебывающейся середины. Судя по всему, он был арестован почти сразу же после моей смерти. Выходит, даже на похороны не явился.
А если бы явился? Как бы он себя вел на похоронах – плакал ли, кидался ли мне на исколотую шею? Была ли у меня вообще шея или меня решили хоронить в разобранном виде, учитывая теракт? (И если так, то как именно меня разбирали? Может быть, мое тело взорвали уже после смерти, чтобы было правдоподобно?) Никто из близких и друзей, к которым у меня был доступ, этого не рассказывал, все как воды в рот набрали. Набрали в рот крови из этих шейных дыр и продолжали молчать, чтобы ничего предательски не стекало с подбородка. Подписка о неразглашении? Куда делся муж? Что делают с теми, кто кого-то убил? Его арестовали? Его расстреляли?
– Нет, – покачала головой Лина, – просто увезли, я думаю. И держат там – не знаю где – до сих пор. И явно под другим предлогом увезли, по какому-то другому делу. Сфабрикованному.
– А если бы его поймали на месте преступления и приговорили к полному стиранию, деактивации, как террориста?
– Тогда вы оба бы, скажем так, погибли в теракте. Ну, может, не сразу. Второй бы условно лежал в больнице какое-то время, в реанимации, пока разбирались, допрашивали. А потом объявили бы родным: не уберегли, не получилось. Но это мои предположения. Я не думаю, что за такое стирают. Другое что-то делают.
– Слушайте, – испугалась я. – А вы уверены, что муж не будет меня пытаться убить и после смерти? Хотя это маловероятно, да?
– По каким-то причинам здесь никто никого не может убить, – ответила Лина. – Человек не верит, что смертен. В нашей памяти нет информации о том, что происходит, когда нас бьют ножом пять – сколько? – десять – тридцать? (хватит, знаками показываю я, не напоминайте) – хорошо, тридцать раз. Нам кажется, что мы чудесным образом выживем, справимся, все наладится, этого не может происходить, это неправда. Вот оно и не происходит. Это, если хотите, память тела. Хотя, возможно, те, кто на самом деле умирал, помнят, что бывает от многочисленных ударов ножом, – но это не доказано. Тут столько всего еще не доказано!
Бедный А.! Получается, есть отличный способ проверить, настоящий ли он мертвый – просто ударить его ножом! Теоретически, наверное, он даже может умереть от этого. С ума сойти!
– Смотрите, – объяснила Лина. – Вам нужно знать только одно. Если человека забирают за преступление, связанное с насилием в отношении другого человека, его родственникам запрещено об этом упоминать публично. Вся статистика человеческих преступлений – кроме терактов – строго защищена, конфиденциальна и недоступна. Разглашение – тоже преступление. Все очень серьезно. За перепиской следят. Слушают, о чем говорят дома и в гостях. Идет слежка по ключевым словам и даже самым неожиданным эвфемизмам. Нет никакого способа обмануть эту систему и незаметно сообщить соседу о том, что вашего отца забрали за то, что он совершил что-то жуткое.
– А за что забрали моего мужа, какой у них был предлог? Бионаркотики в виде разумных бактерий? Экономические преступления? Порно с эмбрионами?
– У нас где-то были официальные данные, – сказала Лина. – Но если бы вы не спросили, я бы вам их не предоставила. Такие правила.
– Давайте, говорите, – разозлилась я. – Мне этот сеанс что-то прекращает нравиться. Почему вы не сказали мне сразу?
– Потому что у вас не было запроса! – разозлилась Лина. – Понимаете, у нас все работает не так, как в реальном мире!
– Говорите!
– Терапия, – бесстрастным голосом сказала Лина, как будто и не было никогда этой чертовой кушетки. – Официальная информация такая: как только он узнал о вашей гибели, он в тот же день пошел к подпольному терапевту, чтобы попробовать справиться с болью от вашей потери. Но, согласно легенде, он даже не успел испытать все радости терапии – это была контрольная терапия. Когда полицейский представляется терапевтом и потом ловит человека тепленького прямо на – да, кушетке. Такое часто, кстати, практикуется, мы получили доступ к куче таких дел. Полицейские, которые участвуют в контрольной терапии, проходят полное обучение: гештальт, экзистенциальная терапия, арт-терапия даже – четыре года учатся, всё как в прошлом, полноценное образование, практика, экзамены. Часто даже бывает так, что человек полностью проходит через терапию таким образом – у полицейского-терапевта проходит, да – и уже потом, когда терапия работает, оказывается успешной, его забирают и судят. Есть вероятность, что настоящих подпольных терапевтов вообще уже не осталось и что все судебные процессы по этим вопросам – результаты исключительно сфабрикованных, контрольных терапевтических сессий.
И тут я поняла, что больше не могу это выносить: я почувствовала, что у меня сейчас взорвется голова. При этом я отчетливо осознавала, что в общепринятом смысле головы у меня нет.
– Извините, – сказала Лина. – Вы сами пришли. У вас был запрос. Вас никто не тянул за руку.
Тут я поняла, что хочу взять Лину за руку. Я спросила, могу ли я это сделать. Лина подумала пару секунд и согласилась. Я немного подержала ее за сухую теплую руку, это было как во сне – могу ли я сравнивать сейчас что угодно со сном, который мне формально недоступен?
– Спасибо, – сказала я. – Если бы у меня была с собой какая-нибудь вещь, я бы вам ее отдала просто так. Но у меня только кольцо. Я не могу.
Лина смущенно отвела взгляд от своих полочек с вещами (я начала понимать, откуда у нее столько вещей – нет, она не коллекционер).
– Не называй меня на «вы», хорошо? – неожиданно мягко сказала Лина. – А еще подумай о том, как ты переведешь эту фразу, если захочешь донести свою историю – если ты решишь ее записать, а ты точно решишь, я уже поняла, – до англоязычного читателя.
– Как еще я могу тебя отблагодарить?
– Участие в конференции. И полный подробный рассказ про собаку. С полной передачей нам всех прав, в том числе на экранизацию. Идет?
– Идет.
– Тогда ты должна подписать договор.
Я подписала договор красивой перьевой ручкой, наполненной кровью кого-то из нас – вот уж не знаю почему. Ручка была немного похожа на шприц. Мне нужно было успокоиться.
– Договор, подписанный после смерти, имеет силу даже после смерти, – холодно сказала Лина.
– Шутите? В смысле, шутишь?
– Конечно, – улыбнулась она. – Заходи еще, в общем. Тебя уже не будут проверять на входе: радужку отсканировали, пальцы тоже, все данные у нас есть. Только не пытайся найти А.
Возможно, она снова шутила. Я не знаю.
Я вышла из здания и пошла домой пешком. Наверное, все серьезные разговоры один на один с прежде незнакомыми дубликатами после слияния контекстов происходили именно так – у меня было слишком мало опыта, чтобы сравнить (с А. мы все-таки общались и сближались постепенно, мягко сдвигая наши контексты: ходили в бары, гуляли по улочкам, заходили в бестиарий посмотреть на единорогов и покормить черных дикобразов соляной ватой). Или же дело в другом – но у меня не было никакого способа это осмыслить. Слишком много информации, сказала я себе, слишком много информации – помнишь ли ты, что обычный живой человек не в силах вынести такого сокрушающего количества информации?
Моя спина гудела, как коса, заплетенная мамой и памятью из старинных телеграфных проводов; я почувствовала, как вверх по туго натянутому стальному жгуту поднимается что-то, похожее на электрическую икоту в форме шара, и медленно, с тягучим искрящим шлепком отделяется от моего третьего позвонка.
Я обернулась и увидела шаровую молнию.
– Привет, молния, – сказала я. – Тебя не существует, ты это знаешь?
6. Шкатулка с письмами
Сейчас я точно обязана рассказать про шкатулку с письмами – тем более что, раз уж я направляю это письмо (если это по-прежнему письмо в той новой, вечно недостижимой для тебя реальности, где каждый из нас – письмо тем, кому он все еще разрешен) в пару поколений назад, речь в каком-то смысле про твою дочь – о том, что с ней происходило, пока тебя не было рядом, а меня не было вообще. Сейчас тебя нет вообще, а меня нет рядом – не думаю, что ты подозревала подобный теплообмен местами в пространстве-времени возможным, но в любом случае какая-то часть этого письма, даже если это не письмо, обязательно дойдет.
Вещей в моем новом доме не так уж и много. Я решила считать этот дом новым, чтобы не было путаницы, – то, как я помню свой старый дом, полностью определило облик нового, но нет ни одного способа запомнить новый дом так, чтобы он вытеснил облик старого. Поэтому эта наслаивающаяся сама на себя память запускает некий трудно различимый процесс ветшания.
Процесс ветшания выглядит так: вот я прихожу домой в один из тихих, обычных, предгрозовых сентябрьских дней, вешаю свой любимый карбоново-черный плащ «Альфа» на чугунную литую вешалку на двери (я помню, что она всегда там была), захожу на кухню, ставлю на плиту жирноватый бело-сиреневый чайничек с россыпью нежного фиолетового цветения поверх грязной белой эмали (я помню, что всегда так делала), открываю лэптоп (модель лэптопа, кстати, может быть любой – я по-разному его помню; так во сне мы часто оказываемся с различными, порой непригодными в реальной жизни цифровыми устройствами из прошлого – снятся ли вам видеомагнитофоны и аудиокассеты, которыми вы переписывались с теми, кто был скорей изобретен и сконструирован вашим пятнадцатилетием, нежели ворвался в него в разгар рейв-вечеринки в чужой школьной столовой?), включаю какую-нибудь старую музыку, которая вертится в голове (ту, которая не вертится, включить невозможно), беру с полки коробку с шоколадками «Снисхождение» (потому что это мои любимые шоколадки) и пишу маме: ну как ты, как прошел день?
Мама, которая уже приноровилась жить без меня, рассказывает в простом будничном режиме: нормально все, нормально, лень, мигрень, ходила на горячую йогу, приготовила яблочный штрудель на рисовом тесте; я отвечаю ей скорбной горячей гарью на рисовом тексте, процарапывая лезвием сердца или памяти о нем эту полупрозрачную цифровую бумагу небытия – хотелось бы мне попробовать этот штрудель! Выцарапать его на пульсирующей невозможности мясного горячего сердцебиения.
Ничего не выйдет: пока я жила, мама такие не готовила. Или готовила, но тщательно от меня скрывала – быть может, она готовила для себя, или для Э., или даже для отца, периодически до сих пор заходящего к ним с Э. в гости; в любом случае доступа к новой сенсорной, запаховой, пищевой информации у меня нет. Все, что мне остается, – это текст и немного любви.
Знала бы, что умру так рано, – носилась бы повсюду как собака (почему я снова вспомнила собаку?), хаотично вбирая все возможные сенсорные впечатления. Объездила бы весь мир, попробовала бы все штрудели Вселенной, пролистала бы все книги, к которым захочу вернуться в состоянии небытия.
Я отхлебываю чай – это обычная бело-кремовая чашечка с автоподогревом из «Икеи». Иногда бывает черная чашечка с эмблемой колледжа Бард и надписью «Место, чтобы думать». Теперь весь мир – если это мир – место, чтобы думать. Больше ничего делать в нем мы не можем.
Вещей, как я уже говорила, у меня было немного, и все – субъективные. Вещи, которые ранее присутствовали в моей жизни и о которых я помню. Они существуют только в моем присутствии, когда я направляю на них рассеянный луч фонового, бокового внимания. Если бы кто-то ворвался ко мне в квартиру в мое отсутствие, он бы увидел здесь лишь тени, паутинки вещей – какие-то крупнее, какие-то слабее: контуры, абрисы, вещевые объемы, услужливо наполняемые чужой, пришлой памятью, как пустые голодные холщовые мешки. Наверняка он смог бы самостоятельно подогреть чай (возможно, чайник был бы почти неразличимого цвета либо спонтанный мой гость увидел бы на его месте некий свой чайник из персонального чайного опыта, весь обожженный вспоминанием, только-только из печи памяти), даже выпить его из чашечки с эмблемой колледжа Бард – моя память о колледже настолько прочная и местами травматичная, что чашечка не потеряет для постороннего гостя ни щербинки, ни царапинки, он даже может, не разобравшись, принять ее за объективную вещь (возможно, объективные вещи так и возникают, но мы еще не до конца в этом разобрались, поэтому я не буду забегать вперед, раз уж забежала назад) и похитить, – но беда в том, что, как только я вернусь домой, чашечка все равно будет на месте со всеми ее щербинками. Похитил – значит, сделал копию. Ничего нельзя ни у кого украсть, все остается на своих местах, потому что место всего – мы сами.
Моей единственной объективной вещью до какого-то момента было кольцо, которое подарил А., – в искривленной, текучей медной оплавленной оправе, с таким же расплывшимся буро-бирюзовым метеоритным камнем. Я отдавала себе отчет в том, что подарок вряд ли был связан с тем, что я любовь всей его – жизни? смерти? послежизни? как мы с тобой договоримся насчет терминологии и договоримся ли вообще? – все это было всего лишь гарантией того, что я в каком-то смысле (после эпизода с собаками я продолжаю настаивать, что во всех смыслах) настоящий, существовавший в реальности человек. Но иногда, рассудила я, любовь всей жизни как зафиксированное сознанием событие – это и есть верификация гарантии того, что тебе вдруг попался настоящий, существующий в реальности человек (даже если реальность, в которой он существует, тебе недоступна – как мне сейчас).
Больше вещей у меня не было. Как вообще стать обладателем вещи – это вопрос. Вещь можно купить на аукционе, но только в обмен на другие вещи. Все это чем-то напоминает мне типичную эмигрантскую бюрократию, о которой я наслушалась от мамы: чтобы получить паспорт, нужно принести свидетельство о прописке! Чтобы выдали прописку, нужно показать паспорт! Чтобы выдали разрешение на работу, нужен номер социального страхования! Чтобы получить номер социального страхования, вначале надо показать разрешение на работу! Кредит не дают без кредитной истории, но кредитную историю не начать без кредита. Приблизительно похожим образом, через непереносимую тошнотворную бюрократическую петлю с курицей и яйцом, вероятно, происходил феномен Обладания первой вещью.
Мы с А., как я уже говорила, часто ходили на аукционы просто поразвлечься – так иногда люди (что здесь я имею в виду под «людьми»? имею ли я в виду живых людей? почему у нас до сих пор терминология расшатана, как вечный молочный зуб?) ходят в кинотеатр, казино или на премьеру мюзикла (наши мюзиклы вечны, как молочные зубы, – вечно шатаются в серых кожистых лунках, но никогда не выпадут как вид искусства окончательно – зубная фея может оставить эту монетку себе). Он ничего не покупал, хотя я знала, что у него есть множество вещей. Не все из них он мне показывал, и я с этим мирилась, предполагая, что у нас впереди целая вечность. В целом аукцион – действительно отличное развлечение. Я обязательно расскажу об этом подробнее потом, когда у меня будет свободная минутка.
Свободная от вечности минутка – ты правильно меня подловила.
И вот тут возникает необъяснимая история со шкатулкой, о которой я должна рассказать.
Это связано с мамой.
Первое время после смерти мне было страшно общаться с ней – я боялась, что мама будет плакать, задавать бессмысленные риторические вопросы, как оно обычно бывает с мамами. Я подозревала, что это напоминает те мои звонки из летнего лагеря, куда мама отправила меня тринадцатилетнюю, когда они с отцом разводились: слезы в две стороны, отчаяние, одиночество. К тому же мама еще давно отказалась копироваться. Многие люди отказывались копироваться по религиозным соображениям (предупреждая твои тревожные переспрашивания: нет, ты не ошиблась, терапию действительно запретили, а религию – нет), но у мамы была какая-то своя причина. Возможно, немножко буддистская – но все равно не религиозная: я не уверена, что буддизм – это религия (скорее, одна из разновидностей невроза, как успели заметить некоторые психотерапевты до того, как их вычеркнули). Мама была – и остается! – фаталист и считает, что весь ее жизненный опыт и память прекрасны прежде всего тем, что они необъяснимы, восхитительно конечны, преходящи и прекращаемы в одно мгновение целиком и навсегда. Ей казалось, что, даже если помнить о ней будут лишь близкие – это честнее и правильнее, чем помнящая саму себя копия. Мысль о том, что где-то на внешнем носителе возникнет ее дубликат, обладающий сознанием – или считающий, что им обладает, – сводила маму с ума и условно преобразовывала ее жизненный опыт в необязательный, недрагоценный, лишенный уникальности.
Еще она считала, что копирование снижает ценность общения при жизни.
– Вдруг я захочу у тебя спросить что-нибудь важное, а тебя нет! – умоляла я. – Скажем, фамильный рецепт тех вареников с черникой!
– Ты можешь узнать этот рецепт прямо сейчас, – сурово отвечала мама. – И много чего другого. Ты просто спроси. А если бы я сделала копию, ты бы вообще потеряла ко мне интерес и не задавала бы вопросов – зачем, думала бы ты, это все можно приберечь на потом, когда несчастная одинокая копия мертвой матери будет жаждать общения! Нет уж. Жизнь дается человеку один раз, и я тебе ее уже дала, причем твою собственную. А свою я тебе не дам, извини.










