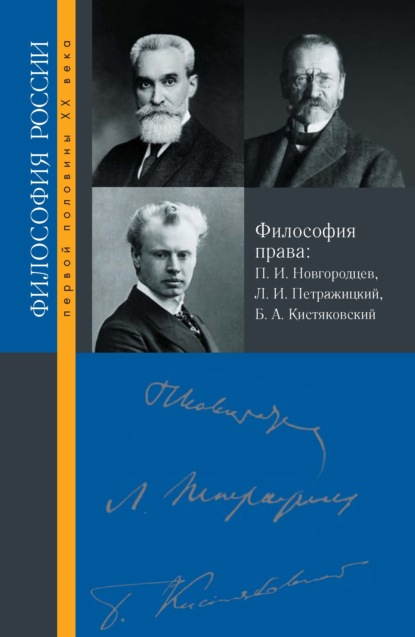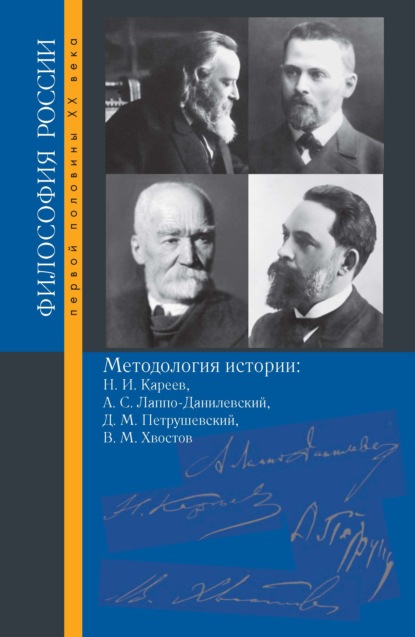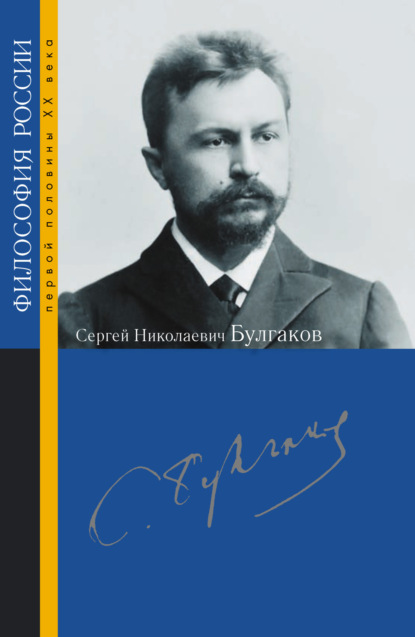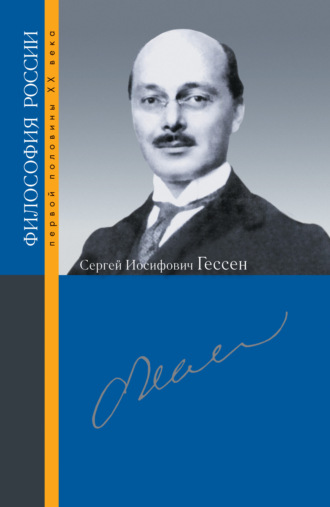
Полная версия
Сергей Иосифович Гессен
Гессен отмечает, что несмотря на то, что трансцендентализм Канта делает возможным введение индивидуальной причинности, сам Кант остается в пределах «старой рационалистической тенденции» и усматривает причинную связь только в общем законе. Гессен заявляет, что «трансцендентальному рационализму Канта… мы хотим противопоставить трансцендентально-эмпиристическую позицию, которая выдвигает проблему индивидуального прямо-таки на первый план»[66]. Индивидуальное, к чему бы оно ни относилось – к индивидуальному понятию истории или к индивидуальной реальности, может быть также трансцендентально обосновано, как и общеродовые понятия. Гессен формулирует, казалось бы, парадоксальное положение: «Априори возносится вниз в индивидуальнейшие области действительности, в невыразимые глубины просто данности, а соответственно эмпирический момент возносится на высоты абстрактнейших общих понятий»[67]. Так, высший закон природы является таким же эмпиричным, как и смутное чувственное впечатление, данность которого может утверждаться и мыслиться трансцендентально, а следовательно, и объективно, как любой общий закон. И уже здесь намечается вопрос ценностной установки в процессе трансцендирования эмпирии, вопрос о должном. С критицизмом также встает проблема рационально нетронутой, свободной от всякой «интроекции», т. е. иррациональной действительности, которую трансцендентальный эмпиризм называет «объективной действительностью» и которая должна быть трансцендентально обоснована без опосредования понятийными научными формами. Априори, которое конституирует действительность, находится глубже априори науки, так, по мнению Гессена, реабилитируется эмпиризм, неограниченный исключительно научной обобщающей понятийной обработкой. Для докритического эмпиризма, позитивизма все бытие гомогенно и выводится из опыта, нет трансцендентного бытия. Критический эмпиризм утверждает наличие гомогенного бытия не на трансцендентальном основании, а на основании того, что «все бытие одинаковым способом основывается на должном»[68]. Поскольку это должное существует независимо от бытия, его можно назвать трансцендентным. Именно здесь на трансцендентально-эмпирической основе, выводящей понимание реальности за пределы только конститутивных научных форм, понятие индивидуальной причинности приобретает смысл. Гессен ссылается на Риккерта, который сумел показать, что закономерность является «методологической формой», соответствующей только научному постижению действительности, «формой понятийного мира науки», а не «конститутивной формой самой действительности». Ограничение постижения действительности только понятийным миром науки означает натуралистический монизм, который, по Гессену, расширяется трансцендентальным эмпиризмом, признавая различные методологические формы научного рассмотрения действительности, не только как природы, но и как истории, которая, хотя и состоит в однократном индивидуальном течении событий, также может быть познаваема с точки зрения причинности, в основе которой, следуя Канту, находится «объективное» преемство во времени. Оговаривая это, Риккерт различает «общие гносеологические предпосылки» для нахождения причинности в постижении исторической действительности и «специальные методологические формы». Он заключает, что «нельзя отождествлять понятия причинности с понятием закона природы»[69], первая является «условием», «обязательностью» (Geltung) для поиска законов, но «не может уже сама быть законом природы, а потому и относиться к законам природы как общее родовое понятие к частным». Риккерт вводит разграничение на «причинность и природную законность (Naturgesetzlichkeit)» (курсив мой. – Ю. М.), на основании которого он производит дальнейшую спецификацию причинности: «Предпосылку, гласящую, что всякий процесс имеет свою причину, мы, чтобы отличать ее от законов природы, формулируемых эмпирическими науками, назовем не законом причинности, но основоположением (Grundsatz) причинности или каузальным принципом. Тогда, согласно нашей терминологии, всякая действительная связь причины и действия должна быть характеризуема как историческая причинная связь в самом широком смысле этого слова, так как всякая причина и всякое действие отличны от всякой причины и от всякого другого действия. Наконец, мы говорим о каузальном законе (Kausalgesetz), когда индивидуальные причинные связи рассматриваются в отношении того, что обще им с другими причинными связями… Резюмируя это вкратце, мы отличаем историческую и естественнонаучную причинность друг от друга, а затем оба эти вида причинности от общего принципа причинности… оказывается, что понятие причинной связи как таковой отнюдь не заключает в себе понятия природной закономерности (Naturgesetzmäßigkeit). Напротив того, понятие однократного индивидуального причинного ряда исключает возможность выражения его посредством понятий законов природы»[70]. Закон – это частный случай причинности, которая может относиться не к общему ряду явлений, а только к одному случаю, например, то, что 1-го ноября 1755 г. произошло землетрясение. На основании понимания Риккертом индивидуальной причинности и объективности Гессен и выстраивает в дальнейшем свою концепцию индивидуальной причинности с укреплением ее объективности посредством трансцендентальной обработки через трансцендентальный эмпиризм.
В начале Гессен настоятельно подчеркивает, с какими тенденциями исторического Канта «борется» трансцендентальный эмпиризм, какой шаг он делает, чтобы «превзойти Канта», не разделяющего общеродовое и общезначимое. Гессен, вслед за Риккертом, включая первое в последнее, вводит понятие более глубокой, допонятийной действительности с целью «транспонировать эмпирические требования в трансцендентальное» – понятие «объективной действительности», в основе которого находится новое понимание «созерцания» (Anschauung): «Созерцание – это объективная действительность, которая так же, как и понятия, конституируется через различные формы (категории): причинность, вещность, формы времени и пространства». Действительность и понятия бытия различает, таким образом, не объективность, а очевидная многообразность (Mannigfaltigkeit) созерцания, «необходимость преодоления которого и является результатом логической работы понятия»[71]. Исходя из вышеизложенного различения общеродового и общеобязательного на месте старого противоречия между субъективным созерцанием и объективным понятием, выходят следующие пары противоречий-понятий: «Понятие ценности или формы – созерцание как простое содержание и понятие бытия – созерцание как многообразная действительность. Понятие формы обладает трансцендентальной общностью и может конституировать не только общие, но и индивидуальные понятия, а даже и индивидуальную действительность»[72]. Трансцендентальный эмпиризм, который разрабатывает Гессен, позиционируется им по отношению к послекантовским течениям. Он констатирует, что объединение эмпирии и рациональности происходит через признание понятий «действительности» и «мира» предельными познавательными всеохватывающими общеродовыми понятиями, обладающими одновременно наибольшей абстракцией. Но такое всеобщее родовое понятие как «бытие вообще» полностью разрешается Авенариусом, с чем соглашается и трансцендентальный эмпиризм. Последний отделяет «понятие мира» (Weltbegriff) как наиболее общее родовое от «понятия бытия» (Seinsbegriff), пригодного для естественных наук, и превращает его при этом в трансцендентально-общее «понятие ценности» (Wertbegriff) как априорное условие, которое делает его оправданным как для понятия бытия естественных наук, так и созерцания (Anschauung) как многообразной объективной действительности.
Наиболее оригинальным, занимающим центральное место в трансцендентальном эмпиризме Гессена является не столько понятие индивидуальной причинности, которое мы находим уже у Риккерта, сколько понятие «первичной причинности». Следуя трансцендентальному методу, понятие первичной причинности должно пройти чисто формальную обработку. Это означает исходить из формально «невоспринимаемого» (и, таким образом, «непереживаемого»), «несущего» (как неметафизического, так и неэмпирического воздействия) элемента, который означает объективную действительность с позиции трансцендентального эмпиризма. Первичная причинность означает форму, которая входит в содержание и конституирует первоначальную необходимость суждения. Гессен говорит о бесконечном многообразии ранее определенной им созерцаемой действительности, нетронутой научной, обобщающей обработкой понятий, а посему первичная причинность определяется как «необходимость временной последовательности кусков действительности»[73], для которой «возможность возврата (Wiederkehrens) исключена», так как «действительность, – по Гессену, – никогда не повторяется. То же самое относится и к исторической причинности…»[74]
Понятие кусков действительности (Wirklichkeitsstücke) с необходимостью предполагает целое, «тотальность действительности», не поддающейся в своем бесконечном многообразии мышлению конечного субъекта. Следовательно, необходимо допущение «intellectus archetypus, который интуитивно созерцает замкнутую в себе объективную действительность»[75]. Как тогда Гессен мыслит «первичную причинность действительности» (primäre Wirklichkeitskausalität)? Гессен, постоянно указывающий на отличие трансцендентального эмпиризма от рационалистического монизма (натурализма) и метафизики, отказывающий трансцендентальным категориям в статусе действительности, неожиданно говорит о «мыслимой метафизически завершенной действительности», т. е. переходит границы от объективности и научности к метафизике, указывая тем самым и на границу действия трансцендентального эмпиризма, не способного решить проблему завершенности, тотальности действительности. Сначала речь идет о введенном им понятии объективной действительности: «В своей тотальности она расстилается перед нами как замкнутая, покоящаяся в себе всейность (Allheit): прошлое, настоящее и будущее сняты (aufgehoben), они образуют непрерывное полностью замкнутое постоянное целое. Само время теряет здесь всякий смысл. Время и пространство совпадают, остается только в некоторой степени недифференцированная форма созерцания. Соответственно и причинность теряет свое особенное значение, которое отличает ее, например, от субстанциальности. Эта мыслимая метафизически завершенной действительность является нам как бесконечная всеобъемлющая вещь, причинная необходимость временной последовательности становится постоянным необходимым совместным бытием, с необходимостью взаимосвязанные вещи становятся свойствами постоянной вселенной, которая представляет эту достигшую своей идеальности действительность»[76]. Эта мыслимая завершенной действительность является «царством абсолютной необходимости», а понятие первичной причинности теряет свои специфические свойства и оборачивается в противоположное понятие необходимости. Приведение последовательного анализа первичной причинности к своей противоположности – необходимости, является, по Гессену, свидетельством «невозможности применения понятия формы к тотальности содержания», а также того, что такое понятие формы «не имеет соответствующего ему объекта, который оно конституирует», и что, таким образом, оно является «лишь регулятивным принципом»[77]. Такой ход Гессен заимствует у Канта, указывающего в трансцендентальной диалектике на то, что идеи нельзя использовать в качестве конститутивных принципов, способных к высказываниям об объектах, а только как регулятивные принципы, которые служат лишь указанием пути, по которому следует идти, если рассматривать объекты с научной точки зрения. Таким образом, идеи – это «правила рассмотрения объектов», а «не законы их устройства», они субъективны и относятся к трансцендентной сфере долженствования, стоящей над научной сферой понятийной обработки действительности. Первичная причинность через свою противоречивость в метафизическом рассмотрении также указывает на то, что ее можно охватить только как регулятивный принцип, как идею, как понятие формы (Formbegriff) без понятия бытия (Seinsbegriff), в противном случае она становится конститутивной. Означает ли это, что первичная причинность является чистой формой? Ведь в ее определение входит содержательное понятие «куски действительности», а значит ее нельзя полностью оторвать от содержания. В свою очередь, можно ли содержание, вещь рассматривать без понятийных наслоений формы, можно ли дойти до чистой формы созерцаемой многообразной действительности? Ответ следует из «квази-догматической предпосылки, что действительность никогда не повторяется», вводимой Гессеном, вслед за Риккертом, и состоящей в том, что, если «осмыслить всю глубину» этого положения и мыслить его последовательно до конца, то окажется, что «“действительным” является только моментальное состояние вещи»[78]. При этом нельзя констатировать изменения, а следовательно, последовательности, «каузальность в чистой действительности теряет свой смысл»[79], а вместе с постоянством, являющимся определяющим для субстанции, теряет в чистой действительности свой смысл и субстанциональность, превращая понятие субстанции из конститутивного принципа в пределе мыслимой чистой субстанции в регулятивный принцип, поскольку «достижение» собственно действительности означает ее снятие как понятия действительности. Таким образом, «если мы мыслим действительность завершенной, причинность превращается… в субстанциальность, или лучше сказать, оба они совпадают, чтобы разрешиться в высшую форму необходимости»[80]. Оба принципа выступают как регулятивные, указывая на необходимость и невозможность завершения их окончательного определения. Понятие первичной причинности является одним из последних в теоретической области, оно не допускает дальнейшей редукции. Первичная причинность – это общее условие как общей закономерности, так и исторической причинности, хотя она и не относится к ним как понятие целого к частям и как общеродовое понятие. Понятие первичной причинности как необходимости временной последовательности относится только к причинной действительности, оно представляет другой тип общего, абстрагирования: «трансцендентальная общность является общностью предпосылки, примиряющей противоречия нижних форм, [общностью. – Ю. М] требования, которое показывает проблему, вовлекающую в себя все нижние проблемы»[81] Гессен ссылается на Канта, интерпретируя его положение о том, что чистые категории «сами они… не могут быть определены», они «суть ничто иное как представления о вещах вообще»[82]. Мы не можем дать реального определения ни одной категории, сделать ее объект понятным, без того чтобы сразу же не опуститься до необходимости условия чувственности. Таким образом, регулятивные категории только указывают и описывают проблемы, которые наука не может решить, являясь только пограничными понятиями.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Если посмотреть на публикации последних лет, то статей, посвященных педагогическим идеям Гессена, гораздо больше, чем философских. Хотя, конечно, стоит отметить круглый стол, посвященный 125-летию со дня рождения мыслителя, который состоялся в 2012-м году в Чешской республике.
2
Впервые опубликовано: Гессен С. И. Избранные сочинения. М.: РОССПЭН, 1998. С. 3–28.
3
См., например, переиздание его «Основ педагогики» (М., 1995) или целый ряд выступлений, посвященных педагогической деятельности С. И. Гессена на Всероссийской научной конференции «Образование и педагогическая мысль российского зарубежья» (Саранск, ноябрь 1994 г.).
4
Таково недавнее высказывание во вступительном слове к одной из последних публикаций работ Гессена: «…главное, что сделал С. И. Гессен для русской философии и культуры – его руководящая роль при создании «Международного ежегодника по вопросам культуры», журнала «Логос» (Ермичев А., Травничкова-Пушкина М. Введение к публикации: Сергей Гессен. Новейшая русская философия // Преображение. Христианский религиозно-философский альманах. Вып. 2. СПб., 1994. С. 8).
5
Автобиография под названием «Мое жизнеописание» написана Гессеном в 1947 г. по заказу итальянского издательства «Avio» (См.: Гессен С. И. Мое жизнеописание // Гессен С. И. Избранные сочинения. М., 1998. С. 723–782).
6
См.: Гессен С. И. Мое жизнеописание // Гессен С. И. Избранные сочинения. С. 728.
7
См.: Логос. Международный ежегодник по философии культуры. Русское издание. М., 1912/1913. С. 183–232.
8
Прот. В. Зеньковский. Памяти С. И. Гессена // Возрождение. Литературно-политические тетради. Париж, 1951. Январь-февраль. С. 195.
9
См.: Гессен С. И. Политическая свобода и социализм. Пг., 1917.
10
См. об этом: Гессен С. И. Мое жизнеописание // Гессен С. И. Избранные сочинения. С. 749. Впервые в полном, переработанном автором виде книга С. И. Гессена «Правовое государство и социализм» напечатана в: Гессен С. И. Избранные сочинения. С. 147–543.
11
Речь идет о большом труде «Мнимое и подлинное преодоление капитализма», о работе над которым Гессен рассказывает в своем «Жизнеописании». См.: Гессен С. И. Избранные сочинения. С. 769.
12
См.: Зеньковский В. Памяти С. И. Гессена // Возрождение. Литературно-политические тетради. Париж, 1951. Январь-февраль. С. 195; Он же. С. И. Гессен как философ // Новый Журнал. Нью-Йорк, 1951. № 25. С. 209–214.
13
Степун Ф. Памяти С. И. Гессена // Новый Журнал. Нью-Йорк, 1951, № 25. С. 215–218.
14
В серии «I problemi della pedagogia» вышло 9 работ Гессена; помимо чисто педагогических сочинений были изданы также «Платоновские и евангельские добродетели» (1952) и «Мое жизнеописание» (1956).
15
См.: Hessen S. Struktura i treśc szkoły współczesnej. Wyd. 2. Wrocław, 1959; Hessen S. Studia z filozofii kultury. Słowo wtsępne: A. Walicki. Warszawa, 1968; Hessen S. Filozofia. Kultura. Wychowanie. Wstęp.: Nowacki. Wyb. i oprac.: M. Hessenowa. Wrocław: Ossolineum, 1973.
16
См.: Гессен С. Основы педагогики: введение в прикладную философию. Берлин, 1923. Введение. Ср. также: Hessen S. Filozofia, kultura, wychowanie. S. 27–38.
17
Hessen S. О sprzecznościach i jedności wychowania. Zagadnienia pedagogiki personalistycznej. Lwów-Warszawa, 1939. S. 236.
18
См.: Гессен С. Борьба утопии и автономии добра в мировоззрении Ф. Достоевского и В. Соловьева // Современные записки. Париж, 1931. Т. 45–46. См.: Гессен С. И. Избранные сочинения. С. 609–677.
19
Существуют разные точки зрения на степень вовлеченности Гессена в метафизическую проблематику. Так, о. В. Зеньковский настаивает на отсутствии в мысли Гессена метафизической направленности: «Он [Гессен] постоянно на пороге метафизики – но только лишь на пороге» (Зеньковский В. В. История русской философии. Л., 1991. Т II. Ч. 1. С. 250). Б. Яковенко в своей «Истории русской философии» считал Гессена всесторонним мыслителем-трансценденталистом, создателем «трансцендентально-диалектического онтологизма, или метода полноты» (Jakovenko В. Dejiny ruskej filosofie. Praha, 1939. S. 454).
20
Зеньковский В. В. История русской философии. Т II. Ч. 1. С. 250. Конечно, этот тезис далеко не бесспорен; о. В. Зеньковскому были неизвестны поздние работы Гессена, в которых развивалась идея «плана благодатного бытия» человека. Сам Зеньковский признает это в своей статье о философии Гессена (См.: Зеньковский В. В. Гессен как философ. С. 214).
21
В своих воспоминаниях тогдашний главный редактор журнала М. В. Вишняк весьма высоко оценивал статьи Гессена. См.: Вишняк М. В. «Современные Записки»: Воспоминания редактора. Bloomington, 1957. P 106.
22
Гессен С. Мое жизнеописание. С. 749.
23
Гессен С. И. Избранные сочинения. С. 199.
24
Там же. С. 380–381.
25
Там же. С. 179–180; 236.
26
Гессен С. И. Избранные сочинения. С. 178.
27
Там же. С. 229 и далее.
28
Там же. С. 198.
29
Там же. С. 199–203.
30
Там же. С. 211.
31
Эта проблема поднималась как социалистами и анархистами, так и консервативно-религиозными мыслителями, например, Вл. Соловьевым и его последователями. См.: Гессен С. И. Избранные сочинения. С. 229.
32
Гессен С. И. Избранные сочинения. С. 282–283.
33
См.: Гессен С. Правовое государство и социализм // Гессен С. И. Избранные сочинения. С. 322. Эта часть книги П. И. Новгородцева «Об общественном идеале» была написана под впечатлением трудов Ж. Сореля.
34
См.: § 4 Главы IV: «Гильдеизм как первая попытка построения положительного (правового) социализма». (Гессен С. И. Избранные сочинения. С. 352–376.) Гессен опирается в основном на труды Г. Коула и А. Пенти.
35
Там же. С. 375.
36
Особенно большую популярность эта идея получила после выхода в свет книги Н. Бердяева «Новое Средневековье» (Берлин, 1924).
37
Гессен С. И. Избранные сочинения. С. 384–385.
38
Гессен С. И. Избранные сочинения. С. 397.
39
См.: книгу Гурвича «Le Temps present et l’ldee du droit social» (Paris, 1931).
40
Воззрения Гессена на социализм в последние годы жизни являются наиболее противоречивой частью его наследия. См. подробнее: Walicki A. Filozofia prawa rosyjskiego liberalismu. Warszawa, 1995. S. 461–466.
41
Hessen S. Cnoty starożytne a cnoty ewangeliczne // Hessen S. Studia z filozofii kultury. S. 265–266, note.
42
Впервые опубликовано: Мелих Ю. Б. Иррациональное расширение философии И. Канта в России. СПб., 2014. С. 88— 129. Публикуется в сокращении.
43
Rickert H. Brief an P Siebeck. 8. Juli 1909. – Цит. по: Kramme R. Philosophische Kultur als Programm. Die Konstituierungsphase des LOGOS // Heidelberg im Schnittpunkt intellektueller Kreise. Zur Topographie der «geistigen Geselligkeit» eines «Weltdorfes»: 1850–1950. Hrsg. von H. Treiber und K. Sauerland. Opladen, 1995. S. 144. Anm. 16.
44
Зеньковский В. В. История русской философии. Л., 1991. Т 2. Ч. 1. С. 247.
45
Валицкий А. Послесловие // Вопросы философии. 1994. № 7–8. С. 184.
46
Гессен С. Герцен // О мессии. Эссе по философии культуры Р Кронера, Н. Бубнова, Г. Мелиса, С. Гессена, Ф. Степуна. СПб., 2010. С. 42.
47
Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 2. Ч. 1. С. 248.
48
Степун Ф. А. Открытое письмо Андрею Белому по поводу статьи «Круговое движение» // Кант: pro et contra. СПб., 2005. С. 715.
49
Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 2. Ч. 1. С. 248.
50
Гессен С. И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. Отв. ред. и сост. П. В. Алексеев. М., 1995. С. 75.
51
Ср.: Гессен С. И. Мое жизнеописание // Гессен С. И. Избранные сочинения. М., 1998. С. 743.
52