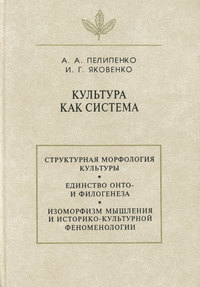Полная версия
Пристально вглядываясь. Кривое зеркало русской реальности. Статьи 2014-2017 годов
Если массовый советский человек просто не задумывался об экономическом измерении жизни, поскольку в окружающей его реальности ничего подобного не было, то дворянин и аристократ ограждали себя от экономического сознания по принципиальным соображениям. Все эти материи были достоянием выскочек, буржуазии, интеллектуальной обслуги, призванной брать на себя грязный и недостойный приличного человека труд.
Российский интеллигент также ограждал себя от экономического сознания по принципиальным соображениям. Ибо видел в зрелой рыночной экономике ту силу, которая разрушает прекрасный мир интеллигентской мечты и противостоит надеждам и упованиям интеллигента. Кроме того, все это было неинтересно, приземленно, не возвышенно. Интеллигентская система ценностей отторгала как отдельные компетенции, так и систему экономического мышления в целом. Человек из интеллигентской среды, пошедший по пути экономических практик, просто превращался в предпринимателя и утрачивал исходную идентичность. Подобная история с неподражаемой чеховской иронией излагается в рассказе «История одного торгового предприятия».
Рассказ этот про то, как некий молодой человек получил значительное наследство и решил открыть книжный магазин, ибо «город коснел в невежестве и предрассудках, старики только ходили в баню, чиновники играли в карты и трескали водку, дамы сплетничали, молодежь жила без идеалов». Однако покупателей не было. Через три недели зашел первый покупатель и спросил грифели. Герой закупил канцелярские принадлежности, и к нему изредка стали заходить покупатели. Так, отвечая на запросы клиентов, герой повествования смещался, все далее уходя от исходных книг. Сейчас он «торгует посудой, табаком, дегтем, мылом, бубликами, красным, галантерейным и москательным товаром, ружьями, кожами и окороками». А книги «давно уже проданы по 1 р. 5 к. за пуд».
Вообще говоря, с Чеховым можно поспорить. Для изменения ситуации в городе N требовался не магазин, а некоммерческое культурно-просветительское учреждение: библиотека, клуб, театр-судия. С другой стороны, книги – юношеское увлечение героя, а не органика его личности. Отсюда и стремительная эволюция молодого человека. И, наконец, движение навстречу запросам клиентов раскрывается в рассказе как путь деградации героя, что отвечает народнически-интеллигентской мифологии, призывающей интеллигента «вести народ к вершинам добра и справедливости», но в практике коммерческой деятельности все далеко не так. Реальность диалектичнее и противоречивее.
Российское мещанство, городские низы, хотя и жили в большом обществе, где деньги были вечно актуальной проблемой, – жили вне культуры, ориентированной на экономическое измерение жизни. У них не было ни предпосылок, ни желания погружаться в экономическое измерение бытия. Герой рассказа Гоголя «Шинель» – бедный и нищий человек, жил в горизонте сиюминутных нужд и не видел для себя выхода. Те же немногие, кому удавалось пойти по пути предпринимательства, покидали мещанскую среду.
Обобщающее суждение профессора Пайпса: в России собственность понимается как безусловное зло – страшная истина, о которой мы стараемся не задумываться. Обратимся к пьесе Чехова «Вишневый сад». Для героев пьесы, к которым автор относится с сочувствием и безусловной симпатией, старый сад – мир, в котором прошла вся их жизнь. Прекрасный и единственно освоенный.
И вот на этих людей надвигается драма. Дело в том, что за жизнь на земле надо платить. Расплачиваться наличными в самом прямом, исходном смысле слова. Поэтому имение приходится продавать за долги. Идея о том, что территорию, на которой разбит сад, можно использовать коммерчески, лежит вне сознания и пространства мышления героев пьесы. Малосимпатичный зрителю, чуждый миру насельников вишневого сада купец Лопахин предлагает разбить сад на участки и предлагать в аренду под дачи. Экономически это абсолютно разумное решение. Но в логике пьесы оно вызывает протест: еще бы, ведь придется вырубить сад!
Перед нами разыгрывается драма наступления бездушного буржуазного мира на очаровательный островок дворянского бытия. Прекрасные, но абсолютно непрактичные хозяева вишневого сада сталкиваются с жизнью, в которой побеждают менее прекраснодушные, но более практичные люди, – это и составляет содержание пьесы. Герои Чехова по своим онтологическим основаниям пребывают вне экономического сознания. Они антибуржуазны по определению.
О чем же пьеса Чехова? О том, что рыночная экономика в рамках авторегулятивных процессов передает крупный земельный участок от неэффективного собственника эффективному. Этот ход мысли внеположен русской культуре и представляется чудовищным. Происходит это потому, что само российское социокультурное целое выступает неэффективным собственником и отстаивает свое право быть неэффективным собственником вечно, ибо это соответствует неким сакральным основаниям российского бытия. Русский бог против эффективной частной собственности. Он признает держание (detentio), сословный порядок и неизменные основания бытия.
Суммируем: в дореволюционной России экономическое сознание присутствовало в среде кулачества, купечества и предпринимателей, а также в том слое профессионалов, которые выполняли менеджерские и управленческие функции в промышленности и сельском хозяйстве43. Если быть скрупулезным, можно отдельно упомянуть еврейскую среду, в которой экономическое сознание закрепилось исторически и задавало профессиональный выбор и жизненные сценарии, а также российских греков и российских немцев. Сверх всего этого существовал очень узкий сегмент бюрократии, профессионально компетентный в вопросах экономики. Названные социальные группы в совокупности едва ли насчитывали пять процентов населения.
В свете сказанного выше становится понятным историческая неизбежность советского этапа отечественной истории. Общество, категорически не готовое вступить в мир частной собственности и товарно-денежных отношений, было обречено на хилиастическую утопию.
Коммунистический проект интенционально был устремлен во внеэкономическое пространство. В обществе будущего останутся и производство, и потребление, но никаких денег и счетов не будет. С самого начала была реализована политика «военного коммунизма» (1918–1921 годы), включавшая в себя централизованное управление экономикой, запрет частной торговли, свертывание товарно-денежных отношений и милитаризацию труда. Эта политика привела к распаду экономики и завершилась Кронштадтским восстанием матросов и жителей города против большевиков и политики «военного коммунизма». В результате большевики быстро перешли к НЭПу – новой экономической политике. НЭП разрешал частное предпринимательство и возрождал рыночные отношения. Иными словами, с этого времени советское общество вынужденно использовало отдельные механизмы нормальной экономики. Но это было лишь частичное использование отдельных элементов.
При том что «правильный» советский человек знал: в «светлом будущем» ни денег, ни частной собственности, ни буржуйских счетов между своими не будет. Все это окончательно отомрет. Товарно-денежные отношения и частная собственность отторгались по фундаментальным основаниям. В Советском Союзе вся реальность в ее экономическом измерении была вопиющим нарушением законов экономики и логики экономического поведения. Поэтому искренне ощущать себя советским человеком и одновременно мыслить экономически было невозможно.
На советском этапе отечественной истории экономическое мышление присутствовало в небольших группах, члены которых по своему выбору отторгали советскую модель и шли по пути качественной альтернативы. В послевоенную эпоху в нашей стране сложилось явление, получившее название «цеховики». Так называли подпольных предпринимателей, решавших проблему хронического товарного дефицита и закрывавших ниши в ассортименте потребительских товаров. Эту сферу производства называли «теневая экономика». Цеховики находили необходимое сырье, налаживали производство по поддельным документам и организовывали сбыт. Кроме того, им приходилось щедро раздавать взятки во всех государственных структурах, что гарантировало успех. Перед нами – полноценная предпринимательская деятельность, охватывающая весь цикл организации бизнеса, производства и реализации продукции. Этот род занятий требовал зрелого экономического мышления.
В Советском Союзе существовало и чисто спекулятивное предпринимательство, не связанное с производством. Эти люди также умели экономически мыслить. Можно вспомнить, возможно, узкий, но интересный рынок произведений искусства и антиквариата. Автор наблюдал это явление в 1960–70-е годы и может свидетельствовать, что люди, оперировавшие на данном рынке, мыслили экономически. Среди прочего люди, вкладывавшие свои деньги в произведения искусства, во-первых, были озабочены выгодным вложением средств (а в СССР власти сознательно создавали такую ситуацию, в которой вложить солидные деньги во что-либо было невозможно) и, во-вторых, думали о том, что будет, когда социалистический эксперимент закончится. Надо сказать, что они не ошиблись в своих расчетах.
Сверх этого можно упомянуть профессионалов, работавших в сфере внешней торговли и банковских операций, и крошечную горсть молодых экономистов, занимавшихся исследованием западной экономики. В общем объеме советского общества названные группы имели ничтожную долю. Отсюда характерное явление 90-х годов прошлого века: в нашей стране катастрофически не хватало людей, компетентных в рыночной экономике.
Директора советских предприятий работали в системе государственного планового хозяйства. Важно осознавать, что советское плановое хозяйство по своей природе – внеэкономический феномен. Там, где нет цены (а цену на что-либо устанавливает не Госплан, а рынок), нет конкуренции, нет полноценной самостоятельности экономических субъектов, – нет и экономики, а есть социалистическое хозяйство. По всему этому какие-то азы экономики советские директора усваивали, но стиль их мышления и образ действий были специфически советскими. Как правило, эти люди получали инженерное образование и прекрасно разбирались в промышленных технологиях. Кроме того, они обладали неформальными связями и навыками советского стиля руководства.
В 1990-е годы возникает понятие «красные директора» – так называли советских начальников, оставшихся на должностях после перехода к рыночной экономике. «Красных директоров» отличали авторитаризм, некомпетентность в юридических и финансовых вопросах, неготовность к деятельности в условиях рынка. Показательно то, что лишь немногие «красные директора» выжили в условиях рынка и продолжают оставаться частью экономической элиты44. Иными словами, сознание советских руководителей лежало за рамками зрелого экономического мышления.
Экономическое сознание формируется заново в постсоветскую эпоху. Сегодня экономическое сознание отчасти задается целостностью реальности, в которую вписан массовый человек. Высшее образование предлагает абитуриентам множество менеджерских, юридических и экономических специализаций. Наконец, профессиональная деятельность массы людей побуждает их к постижению экономической логики. При всем этом российская средняя школа пока категорически не готова формировать как правовое сознание, так и экономическое.
Ответить на вопрос, какая доля российского общества обрела экономическое сознание, для кого видение социальной реальности через призму экономики стало органикой мышления, сегодня не представляется возможным. Самое тревожное обстоятельство состоит в том, что экономические компетенции и экономическое сознание не опривычены, не укоренены в культуре, не стали органикой – тем, что само собой разумеется и входит в круг безусловных конвенций. Внедрение экономического мышления происходит повсеместно, но эти процессы далеки от необратимых изменений.
Личностное измерение традиционного доэкономического сознания
Начнем с того, что для вписанного в традиционную культуру массового человека понятие «частная собственность» – малопостижимая абстракция. Жизнь многих поколений его предков разворачивалась в пространстве права родового (семейного) пользования. Хозяином патриархальной семьи выступал «большак». И при том что права хозяина никто не оспаривал, в строгом смысле «большак» был распорядителем семейных активов. Если «большаку» случалось нарушить коренные интересы семьи, то старший сын и остальные члены семьи свергали «большака» и передавали старшинство в семье сыну. Подобные коллизии описаны в русской литературе начала ХХ века.
Здесь стоит отметить, что традиционное сознание не различает власть и собственность. Поскольку устойчивого и всеобщего института частной собственности в русской истории не было никогда, само понятие «собственность» не вошло в сознание и культуру как значимый, понятный и освоенный элемент. В СССР директора завода называли «хозяином», хотя по существу он был назначенным менеджером. В российском сознании «править» и «владеть» – тождественные и неразличимые понятия.
Иными словами, речь идет о держании, что есть право распоряжения и фактического обладания без полноценного права владения. Причем по большей части речь идет о бытовом имуществе. Нет экзистенциально закрепленного опыта обладания и управления капиталом. Напрочь отсутствует правовое мышление, а без него собственность в стратегическом аспекте невозможна. Равно отсутствует экономическое мышление. Никто не объясняет детям, что за все ресурсы надо платить, и не учит считать затраты, выручку, эффективность как в рамках коммерческого проекта, так и «по жизни». Не формирует комбинаторного мышления. Комбинаторное мышление – неотъемлемый атрибут экономического мышления и коммерческого сознания, а в советской реальности – негативная характеристика. Явно отрицательный герой романа «Золотой теленок» Остап Бендер характеризуется авторами как «великий комбинатор». Комбинатор – жулик, барыга, «не наш» человек.
В обыденном сознании собственность сводится к бытовому имуществу. Массовый человек не помышляет собственность как экономическую категорию, не видит в ней потенций роста и оснований для независимого существования. Умозрительно позавчерашний крестьянин может представить себе ситуацию, когда на него свалится настоящее богатство и можно будет жить всласть и не работать. Последнее существенно. Наш человек убежден, что деньги «загребают» для того, чтобы жить припеваючи и не работать.
И еще одно наблюдение: не слишком задумываясь и не формулируя этого вслух, носитель традиционного сознания исходит из того, что он и собственность принадлежат разным мирам. Собственность возможна «у них». У нас ее не бывает, да она нам и не нужна.
Здесь имеет смысл обратиться к личным наблюдениям. Я жил в советской семье с репрессированными родственниками, где при ребенке ничего лишнего не говорили и страшно боялись любой крамолы. Ничего, что можно было бы квалифицировать как передачу каких-либо компетенций или «чуждого» мировоззрения, не происходило. Меня, правнука нормального бельгийского буржуа, никто не учил копить деньги, но уже в старших классах школы я фиксировал, что в моем активе находится значительная, по меркам моих соучеников, сумма, собранная из копеек, выдававшихся на пирожок в школьном буфете. А студентом я поражался сокурсникам, не понимавшим, что можно вложить деньги в те или иные предметы, которые через три-пять месяцев можно продать с выгодой. Сама идея выгодного вложения лежала за рамками сознания моих сверстников. Не то чтобы они не могли постичь эту идею, но это было «из другого мира». В традиционной крестьянской культуре, которую наследовали советские люди, существует не осознаваемая субъектом действия табуация коммерческих практик. Табуировались коммерческие компетенции и сам тип коммерческого мышления. Все это чуждо, неинтересно, не увлекает «нашего» человека.
Для чего мне были нужны эти карманные деньги? Они давали свободу, наделяли меня субъектностью. Избавляли от необходимости просить у родителей в случае какой-либо нужды. Скорее всего, родители дали бы (хотя отец был человеком строгим и наши представления о том, что нужно, а что не нужно, могли не совпасть). Но при наличии карманных денег это были бы мое решение и моя ответственность. Понятно, что в четырнадцать-пятнадцать лет этих умных слов я не знал и внятно сформулировать свою позицию не мог. Но переживал ситуацию именно так.
Наблюдательные люди фиксируют примечательное явление: если на традиционного человека случайно сваливаются значительные деньги, он пугается, переживает чувство дискомфорта. От денег надлежит поскорее избавиться. Пропить, прогулять, тезаврировать в приданое дочери. Женщина быстро потратит случайные деньги на тряпки и прочую мишуру. Главное – успеть, пока не отняли муж или старший сын. Русская традиционная культура предполагает существование вне денег.
Идея вложить во что-то деньги с тем, чтобы получить прибыль, блокируется традиционной культурой. Идея купить не одного, а двух поросят, выкормить и одного под праздники продать, выручив хорошие деньги, заведомо покрывающие расходы средств и затраты труда, не приходит в голову. Так ведут себя ловчилы, кулаки и евреи. Натуральное хозяйство – естественное и благое. Товарное производство – чуждое и предосудительное. Оно может иметь оправдание: надо сына отправить в школу или выдать дочь замуж. Но само по себе товарное производство – не наше дело.
Вспомним советскую фразеологию. На так называемых колхозных рынках продавались «излишки сельскохозяйственного производства». Специально для рынка выращивают продукцию только спекулянты проклятые. «Наш человек» торгует излишками. Вот придет коммунизм, и он будет раздавать эти излишки даром и так же, даром, брать все в сельмаге, а пока приходится продавать.
Любое включение «нашего человека» в мир денежных отношений вызывало протест идеологов архаики. Освещая отношение российских социалистов к проблеме сбережений, правовед и философ Борис Николаевич Чичерин писал: «…социалисты, напротив, всеми силами ополчаются против сбережений. Они смело утверждают, что рабочий не может и даже не должен сберегать, что он, сберегая, крадет у других и превращается в презренного мещанина»45. Утверждение относительно «кражи» оставим на совести русских социалистов. А вот пассаж о презренном мещанине примечателен. Встав на путь сбережений, рабочий обретал бесценный экзистенциальный опыт существования вне ситуации, когда деньги в кармане строго ограничены минимумом, необходимым для того, чтобы дожить до получки. Иными словами, обретал потенциальную возможность социальной альтернативы. Это «у них» есть сбережения и все то, что неизбежно вытекает из сбережений. «Наш человек» живет с голой задницей и гордится этим. В данной диспозиции он куда ближе к коммунизму (вариант – ближе к Богу).
Идея о том, что значительная собственность – это прежде всего дело (my business), которое властно требует от владельца служения, самоотдачи и ответственности и далее, логикой своего развития, подвигает владельца к гражданской, культурной и политической активности, чужда традиционному россиянину. Он точно знает: окажись крупная собственность в его руках, уж он бы развернулся. Он бы зажил в свое удовольствие.
В растительном царстве есть такое понятие: пустоцветы. Олигархи, тратящие сотни миллионов долларов на циклопические дворцы и яхты, – специфическая примета третьего мира. Общества, лишенные твердой буржуазной морали, не постигают нравственного и религиозного смысла крупной собственности. Отсюда особый бандитский шик и торжество плебейского вкуса в среде приближенных к власти скоробогатеев.
Здесь мы касаемся огромного тематического пространства: нравственного и религиозного смысла собственности; воздействия собственности на человека; отсеивания тех, кто лишен этого призвания и не способен служить крупному делу; формирования этоса бизнесмена; складывания предпринимательских династий; вклада бизнеса в историю и цивилизацию.
Возможно, что говорить об этом в нашей аудитории еще рано. Общество не созрело для такого разговора. Хочется надеяться, что однажды придет время и для обсуждения названных тем.
Проблема мещанства
Вспомним мощнейшую идеологическую традицию советского поношения «мещанства», «вещизма», «приобретательства». Это «у них» дом – полная чаша, слоники на буфете, герань на подоконниках и непременные сбережения. «Наш человек» живет иначе. Гордо и безалаберно. Если мы вчитаемся и вслушаемся в эти филиппики, то обнаружим не только советский соцзаказ, но и российско-интеллигентское отторжение «мещанина», трактуемого как онтологическая альтернатива интеллигенту.
Ненависть к мещанину имеет глубокие корни, которые чаще всего не проговаривают обличители мещанства. Заметим, оборот «презренный мещанин» – самоочевидный для российских социалистов. Мещанство (филистерство, обывательщина, ограниченность, бюргерство) – полюс растождествления, жупел в социалистически-народнической картине мира. Дело в том, что человек, твердо стоящий ногами на земле, укоренен в бытии, лишен онтологического сиротства, присущего российскому интеллигенту. «Наш человек» наделен комплексом специфической несамодостаточности и тянется к внешней опоре, которую находит в великих идеях или сакральной власти, наконец, тяготеет к сословному обществу. А мещанину, то есть человеку, ставшему на путь формирования буржуазного сознания, не нужна внешняя опора. Кроме того, он указывает российскому интеллигенту на жизненную альтернативу, которая, черт ее возьми, соблазнительна.
У проблемы мещанства есть и религиозная составляющая. Дело в том, что традиционный носитель российской психеи страдает мироотреченностью. Мир этот для него неподлинен, кардинально отличается от сакрального Должного и обречен погибнуть. Эта, гностическая интенция часто не отрефлексирована и понимается в несобственных моделях. Тем не менее она присутствует. А мещанин, филистер и обыватель укоренен в бытии, и это вызывает метафизический протест46. Обыватель забыл высокое призвание страдать безмерно в этом мире и стремиться к миру иному, прекрасному и подлинному в высшем смысле.
Мироотречник, по фундаментальным обстоятельствам отторгающий страшный, отягощенный злом материальный мир и чающий иного, совершенного мира, в лице ловчилы, обывателя сталкивается с тем, кто исходно принял этот мир и неплохо в нем устроился. Такая диспозиция вызывает метафизический протест и убеждение, что в конце концов мещанина ожидает крах.
Интеллигент по своей интенции пневматик, устремленный к миру иному. Он и собственность несовместимы. Мещанин же – собственник исходно, по своей природе. Мы говорим о структуре личности. И заметим, если человек – собственник по своей сути, раньше или позже у него появляется значительная собственность.
Собственность, ответственность и свобода
Собственность неотделима от свободы и ответственности. Она даже не предполагает, а властно требует полноценной субъектности. В нормальной рыночной экономике человек, лишенный этих характеристик, неизбежно и в скором времени разорится. Между тем российская реальность веками базировалась на частичной, минимальной субъектности пасомых, более зрелой субъектности пастырей и абсолютной субъектности Верховного правителя.
Иными словами, в сословном деспотическом обществе существует задача блокировать формирование субъектности подъяремных и подъясачных. Вслух эта задача не обсуждается, но постоянно имеется в виду. Чернь неразумная должна так и оставаться чернью. Политика в области образования, работа идеологических институтов (церкви, партии), экономическая и социальная политика формировались таким образом, чтобы широкие массы оставались в гетто безгласного, некомпетентного, а потому требующего поводыря быдла.
Правящая элита Российской империи сделала выводы из европейских революций XIX века. Промышленное развитие, «язва пролетариатства» разрушают прекрасный и вечный мир сословного общества. Самодержавный монарх нужен патриархальному народу, нужен дворянству и всем верноподданным, которых важно уберегать от губительных соблазнов. В практическом плане это означало минимальное развитие образования и сохранение передельной общины. Важно было тормозить расслоение крестьянства и выделение ориентированных на рынок крепких хозяев.
Эти задачи плохо сочетались с развитием промышленности, но чем-то всегда приходится жертвовать. Промышленная революция медленно, но неуклонно созидает рационально мыслящего экономического человека. Она двигает общество в направлении роста субъектного начала. Когда австрийскому императору Францу Иосифу предложили: «Давайте строить железные дороги», – он воскликнул: «Нет, нет, ни в коем случае. По этой дороге ко мне приедет революция!». Российская элита мыслила сходным образом.
Личностная независимость и полноценная субъектность широких масс отрицали устойчивый социальный порядок со всеми вытекающими привилегиями полноценного субъекта, ведущего по жизни неразумную чернь.