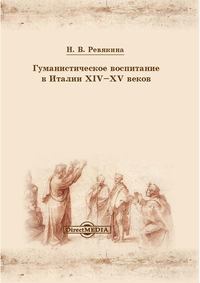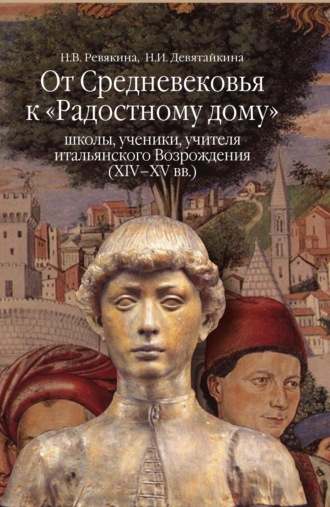
Полная версия
От Средневековья к «Радостному дому»: школы, ученики, учителя итальянского Возрождения (XIV–XV вв.)
О хорошей школьной подготовке говорит и тот факт, что во времена наших гуманистов-педагогов спрос на продолжение образования, на университеты был велик, они активно развивались во многих городах, всего в Италии за четыре века возникло 25 университетов, почти столько же, сколько во всех странах за Альпами вместе взятых. Болонья «кишела» студентами-школярами, их бывало несколько тысяч. Это нам еще раз подсказывает, что в городах должны были по-особому относиться к образованию и образованным людям.
Престижность образования и учености
О престижности образования свидетельствуют не только обращения-титулы. Обратимся к интересным фактам городской истории и рассказчикам-новеллистам. О том, как высоко ценилось хорошее образование, говорит яркий пример Флоренции: там судьи и нотариусы объединялись в сообщество, которое признавалось самым важным, так называемым «старшим» цехом. Он стоял выше очень богатых и влиятельных промышленников и торговцев сукнами, которые составляли второй «старший» цех. «Судьями» называли «докторов» права, где бы они ни служили. Слово «доктор» означало тогда, как и сейчас, что человек обладает большой ученостью. Нотариусы, или нотарии, служили в советах, судебных органах, могли выступать адвокатами и прокурорами, занимались частной практикой. Они писали речи, готовили буллы и иные постановления. Им платили довольно высокое жалованье. Даже внешне они отличались: носили отороченное беличьим мехом пунцовое одеяние и колпак-капюшон такого же цвета. Во времена Виллани, т. е. примерно в середине XIV в., нотариев во Флоренции было около 600. И это не удивительно. Еще в более ранние годы и при меньшей численности населения во Флоренции под началом только одного подеста, например, главы судебно-административного аппарата, имевшего «служебный» дворец, находились 82 человека, среди которых было 10 судей, и 24 нотариуса, т. е. почти половина персонала. Понятно, что о такой карьере мечтали многие молодые люди и их родители. Отец Петрарки, например, был успешным нотарием, общественным деятелем; о нем в связи с его профессиональной деятельностью упоминают хроники. Известно, что после изгнания из Флоренции он со своим образованием не пропал, нашел место в городе, где тогда пребывало римское папство, в Авиньоне, во Франции.
В XIV в. образованность становится одним из важных и престижных признаков «современного» человека, горожанина. И – горожанки из уважаемой, состоятельной, с традициями семьи. Именно из таких семерых молодых горожанок состоит у Боккаччо в его «Декамероне» круг рассказчиц новелл. Они веселые, остроумные, много читают, играют на разных инструментах, танцуют. Они знают и красиво рассказывают разные истории о королях разных стран и эпох, монахах, купцах, их женах и т. д. Их героини находчивые, нередко вполне образованные. Например, в одной из новелл некий купец из Генуи, хвастаясь добродетелями жены, утверждает, что она читает и пишет не хуже любого купца. Получается, что и свою образованность похвалил, и в жене отметил незаурядное достоинство такого же плана.
Не один раз с большим уважением отзывается в разных новеллах об ученых людях Саккетти, причисляя к ним и самого себя. Например, он писал, что как-то был в Генуе и находился на Торговой площади в «большом кругу образованных людей» из разных городов. В Генуе, как мы знаем из документов, горожане очень стремились дать детям образование, наверное, и потому, что их родители поступили в свое время так же.
Через 40–50 лет после Саккетти знаменитый гуманист и современник гуманистов-педагогов второго поколения Леон Батиста Альберти напишет «Книги о семье». Альберти полагает, что отцы должны помочь детям выбрать такое «искусство», такую науку, такой образ жизни, чтобы он соответствовал репутации семьи, городскому обычаю, настоящему времени, существующим возможностям и ожиданиям горожан. Он настойчиво советует сыновьям использовать свои способности для усвоения многих полезных наук и искусств. Альберти много раз называет науки и искусства достойными, соглашается, что они требуют упорства, но всегда приносят плоды. Он подчеркивает, что сыновья не должны обмануть семейных ожиданий и надежд, а, значит, эти ожидания связаны с хорошей образованностью. Отметим и мы, что в эту эпоху и от невест, присматриваемых для сыновей, в семьях, как у Альберти, тоже ожидали образованности.
Вернемся к Саккетти. Он имел познания в географии, астрономии, литературе, языке, космографии. Он занимался в молодости торговой деятельностью, но имел также призвание к писательству, сочинял сонеты, подражая Петрарке, составлял проповеди, а в конце жизни написал знаменитые 300 новелл, собрав в своей книге смешные и анекдотические случаи с горожанами, в том числе генуэзцами. Каждый случай он сопроводил собственным комментарием.
Ученость становится и условием, важным для толкователей христианского вероучения. Об этом наш писатель говорит в одной из новелл, когда рассказывает, как некий магистр богословия, ученый с университетским знанием и дипломом, с блеском отстоял свои суждения перед лицом инквизитора. По городу распространилась молва о глубоких познаниях магистра, и флорентийцы попросили его прочесть проповедь, и не один раз. Саккетти не преминул похвалить его как «выдающегося» человека.
Еще один любопытный момент: в литературе того времени много свидетельств о персонах, которые изо всех сил стараются считаться учеными и образованными. Становится престижным и модным покупать книги. Это было дорогое удовольствие, одна книга могла стоить и 15 (рукописный требник-молитвенник с миниатюрами), и 20 (Вергилий), и гораздо больше золотых флоринов, что составляло двух-трехмесячное жалованье школьного учителя. Однако для богатых купцов книги служили показателем «престижного потребления», они ставили их в шкафы и, как с чувством говорит Петрарка, превращали их в пленников.
Место латинского языка. Одним из знаков «настоящей» образованности для того времени можно назвать латинский язык. Он не был в полном смысле «мертвым», только письменно-классическим. На латыни в соборах читали проповеди, велись занятия в школах, на этом языке, наконец, могли быть написаны разные вполне современные документы: новые законы, завещания, деловые письма и пр. Это так называемая средневековая латынь. В нее вкрапливались слова и понятия, которых древний мир не знал, возникшие позже в разнообразных практиках жизни. Но изучали латинский язык по древним, «правильным», учебникам, по римским авторам, поэтому читать классические латинские тексты могли многие горожане с хорошей школой, а тем более с университетом за плечами.
Саккетти не раз указывает на чтение горожанами древних римских авторов, в частности, Тита Ливия, автора истории древнего города Рима. Писатель, правда, не рассказывает, что более-менее полная версия труда этого историка появилась благодаря разысканиям и кропотливой работе гуманистов по вычитке текста, соединению разных его кусков в единое целое. В первую очередь это заслуга Петрарки, но мы не знаем, какую именно версию держал в руках герой новеллы. Важно, что держал! Итак, некий Каппо ди Боргезе Доминики, известный политический деятель Флоренции, возглавлявший несколько раз ее правительство, при чтении так увлекся событиями, связанными с законами римского сената против роскоши, что несколько часов бушевал, стоя у окна, будто все происходило в его время. Он даже забыл, что нанял работников для ремонта какой-то части дома, и продолжал негодовать, когда они подошли к нему за расчетом. Наутро «пришел в себя», расплатился. Ну а те превратили историю в городской анекдот, интересный нам для указания на факт: флорентиец с интересом и живыми реакциями читает латинского автора, это в порядке вещей. А Саккетти, писатель, тем более не прочь при случае напомнить, что Рим был господином мира, и назвать имена Цезаря, Брута или Катона, Сципиона, Катилины, Югурты, Курия, карфагенянина Ганнибала, грека Александра Македонского, героя гомеровской поэмы «Илиада» Гектора, Трою, ее царя Приама, как самых доблестных людей, продемонстрировав таким образом свою образованность. Саккетти представляет читателю целый ряд не только римлян, но и греков. Среди римлян – и политические деятели, и полководцы, и доблестные граждане. Греческого (македонского) полководца и царя Александра Македонского знали многие, потому что в Средние века он превратился в героя поэм, доблестного рыцаря. И их запоем читали все грамотные дворяне и дворянки, да и горожане тоже. Конечно, в пересказах знали «Илиаду». Но наш писатель может позволить себе сравнить кого-то с греческим философом Платоном, рассуждая о глубине аргументов, или вспомнить о прозорливости философа Демокрита, выколовшего себе глаза, чтобы его мысли были более тонкими и не отвлекались на мелкие внешние события. Он – автор, достаточно информированный и в греческой культуре. Это означает, что не только римская, но и греческая литература, философия, наука становились все более интересными для горожан. Но к изучению греческого, к тому, чтобы читать тексты в оригинале, первыми потянутся гуманисты, опять-таки подтолкнут и общество, особенно гуманисты-педагоги в следующем веке.
Собственно, латинский язык в его разговорном варианте также оставался возможным средством общения: в одной из новелл рассказывается, как кардинал церкви одобрительно отзывается о правителе небольшого города, похлопывая его по плечу и произнося на латыни «Вот сын мой возлюбленный, который угодил мне». Вплетали в свою речь латинские фразы не только кардиналы. Уголотто дель Альи, сосед писателя Саккетти, худой, суховатый человек пожилого возраста, огорченный решением судьи об уплате большого штрафа из-за того, что вышел из дома с обнаженным мечом (он был дворянином), жаловался на это несчастье домашним «то по-латыни, то по-немецки».
В разговоре флорентийцы, например, тоже могли обронить ту или иную известную на латинском евангельскую фразу, вроде той, что Христос сказал апостолу Петру: «Ты – Петр4, и на сем камне…» Столь же свободно использует некоторые латинские фразы в другой новелле мальчик, которого священник застает на своем поле на смоковнице, где тот ел и собирал фиги. Священник нес мимо поля причастие для смертельно больного человека. Будучи «неверующим католиком», забыв, что несет тело Христово, он стал угрожать мальчику побоями, упоминая дьявола. Тот, не растерявшись, ответил с высокого дерева: «О Domine, вы несете тело Господне et ego vado in tentatione ficorum»5. Саккетти свободно включает такие фразы в свои новеллы с полной уверенностью, что их поймут и оценят юмор.
Грамотность в повседневной жизни города
Если обратиться к повседневной деловой жизни города, то свидетельств о большей или меньшей образованности горожан в новеллах не счесть. Часто речь идет о том, что горожане отправляют деловые письма, берут и дают разного рода расписки, заслушивают читаемые в суде приказы и решения, ведут счета или просматривают их, а это тоже свидетельство грамотности, обычности подобных дел. Бумага, чернильница, перо становятся предметами повседневного обихода. Всякий купец-путешественник был обучен искусству коммерческой переписки, умению вести путевые заметки, из которых постепенно складывались «памятные книги», учебники-трактаты по торговле, экономике, обмену денег и т. д. Постепенно люди этой эпохи все больше проникаются пониманием, что знания нужны не только, чтобы уметь зарабатывать и использовать средства для предпринимательских дел, но и чтобы приобщаться к культуре. Начали появляться учебники «хороших манер», которые купцы с охотой покупали и несли в семьи. Поистине бесконечные письма пишут друг другу влюбленные молодые люди и девушки, передавая их тайно через слуг.
Отцы дают повзрослевшим детям деловые советы. Чертальдо рекомендует сыновьям носить в сумке, где хранятся деньги, тетрадь и записывать в нее все, что должен сделать. В своих наставлениях он заговаривает о тетрадях несколько раз. Например, советует записывать в какую-то тетрадь все действия у нотариуса, в том числе день, когда это происходит, имя нотариуса, составляющего бумагу, имена свидетелей и пр. Опять же ясно, что подобным советам довольно легко следовать. Более того, Чертальдо советует еще и изготовить копию такой тетради, и хранить ее в самом надежном месте. Альберти как раз во времена образования первых гуманистических школ рассказывает о целых домашних реестрах и книгах, которые ведутся в семье, и куда записываются все события. В том числе – день и год рождения ребенка. Из его рассуждений ясно, что эти записи ведутся на протяжении жизни нескольких поколений, составляют важную часть забот старших членов семьи. В «Книгах о семье» автор вспоминает о бытовавшей с давних пор в их семье поговорке, что руки купца всегда должны быть в чернилах. И один из участников диалогов, в форме которых написана книга, с удовольствием разъясняет, что в торговле, как и в любой профессии, где приходится иметь дело с множеством людей, необходимо записывать все сведения, все договоры, все траты и поступления извне, и потому часто все переписывать, т. е. не выпускать пера из рук.
Добавим еще одну замечательную примету времени: Альберти советует держать все записи – и свои, и своих предков – под замком, в кабинете, чтобы их никогда не могла найти и прочесть жена. Посмотрим и с другой стороны: перед нами свидетельство «укорененности» образования в таких семьях, как купцы Альберти, свидетельство грамотности женщин, и ограничения сферы их домашних «свобод», по крайней мере по части деловой и финансовой информации.
Итак, повторим, вести такие записи не просто не составляет никакого труда. Они становятся частью делового ритма жизни купца, помогают в делах. Об этом свидетельствует много советов, в том числе – каждый день подводить баланс. Записи, как показали исследования, чаще всего велись на итальянском языке, который, очевидно, осваивался с ранних лет.
Как о повседневных делах речь идет о свадебных контрактах, долговых расписках, налоговых списках, расчетных книгах, завещаниях, о возможности их изменить или отменить. Тема завещаний становится сюжетом новелл, высмеивающих алчность священников и их показную строгость в отношении христианских обычаев. Встречаются и просто забавные эпизоды: в одной из новелл жена просит мужа оставлять ей письменные напоминания о том, сколько соли положить в похлебку.
Отношение к невежеству. С другой стороны, этот же Саккетти рассказывает, как деревенские отцы посылали своих сыновей в город, не желая, чтобы они окончили свои дни в косности и невежестве. Он не раз повторяет мысль, что невежество, необразованность – это качества, которые могут выставить человека на посмешище, сделать «героем» злого городского анекдота. Немало смешных и критических новелл рассказывают, например, о плохо знающих латынь клириках, особенно мелких служителях церкви, которые без латинской учености, по протекции, добиваются для себя доходных мест. «Как невежествен был этот попик», – с осуждением восклицает Саккетти по поводу одного из таких персонажей, который, затрудняясь ответить на вопрос папы Бонифация «Что есть кадильница», заданный на латыни, неверно понял жест своего благодетеля-кардинала, пытавшегося подсказать ему, и ответил развязно такое, что невозможно процитировать в данной книге. Папа, давясь смехом, махнул рукой, но в должности утвердил. Здесь ученость выступает условием честного назначения на должность, порицаются высшие церковные иерархи, которые допускают в свои ряды плохо подготовленных лиц. «В чьи только руки не попадает Господь наш», – сокрушается Саккетти. В другом тексте, в проповеди, Саккетти еще сильнее выражает свое отношение: он сетует и негодует, что на шесть священников приходится один, не знающий грамматики, необразованный и нескромный. Это, по мнению писателя, очень разочаровывает в церкви и вере «порядочных людей».
Нетрудно понять, что горожане вроде Саккетти вполне разделяли представления первых гуманистов, как говорилось, почитали их. Например, одной из популярных книг Петрарки было сочинение «О средствах против превратностей судьбы». Там ведут разговоры-диалоги аллегорические персонажи. Главный – Разум. Читатели, думается, не могли не восхищаться его ученостью и не соглашаться с его репликами-суждениями о невежестве.
Разум выказывает образованность удивительную: он почти беспрерывно адресует к историческим примерам – от греческой и восточной древности до раннего Средневековья; он сыплет многими десятками, даже сотнями, имен – исторических, мифологических, литературных; он приводит суждения многих же десятков авторов от библейских праотцов, Аристотеля и Платона до отцов христианской церкви, а также римских философов и писателей; он обильно цитирует строки из исторических, естественнонаучных, этических, полемических сочинений, писем, поэм и стихов, остроумно пересказывает яркие случаи, свободно ориентируется не только в классической мифологии, но и в преданиях германской старины и текстах ранних «отцов» германской истории. Иными словами, перед читателями предстает персонаж-эрудит, наставник, философ, образованная личность.
Полной противоположностью, на первый взгляд, выглядят собеседники Разума. Это Радость, Надежда, Печаль, Страх. Кажется, что они-то могут стать объектами критики горожан. Радость произносит в разных разговорах лишь короткие фразы, часто повторяет себя, почти слово в слово. Примерно так же ведут себя другие персонажи, возможно, чуть «разговорчивее» время от времени становится Печаль. Они практически не называют имен авторов, не припоминают каких-то культурных или исторических фактов и т. д.
Однако при погружении в смыслы текста картина меняется, и это не могли не понимать горожане – читатели того времени. Радость нередко говорит от лица таких людей, которые не могут не быть хотя бы в «обычной» степени образованными. Среди них – римские папы, императоры, знатные синьоры, писатели, обладатели ученых званий и титулов, школьные учителя, музыканты.
Они часто обсуждают, что важнее, сила или знание. Разум доказывает, что силы физические со временем тают и потому не могут служить серьезным поводом для гордости собой. Среди свидетельств, которые позволяют судить об отношении собеседников к учености, есть и такие: «Ты, – говорит Разум, – думаю, будешь основывать свое суждение (о мудрости. – Авт.) на научных званиях, а их великое множество». Эта фраза из диалога «О мудрости» – незамысловатое, но любопытное свидетельство времени. Получается, что образование, ученость в глазах общества становится статусным признаком, встающим рядом с привычными для средневекового человека «знаками» вроде знатности, обладания властью, рыцарским достоинством.
Мы видим, что образование ставится выше владения домами и замками, выше имущества, богатства, золота, денег. Налицо новые ценностные ориентиры, образование рассматривается как непреходящее благо. При этом убедительные примеры черпаются из истории самого культурного народа, вскормившего европейскую цивилизацию. Петрарка называет образованных людей своего времени, хвалит их. Например, очень одобрительно отзывается о правителе города Парма Аццо ди Корреджо, своем друге с университетских лет. Петрарка хвалит его тяготение к людям образованным и «постоянное и непрестанное чтение и упоминание знаменитых писателей». Много примеров высокой образованности Петрарка находит в древности. Он не один раз напоминает, что принцепсы-императоры Август и Аврелий были самыми образованными представителями власти своего времени. С большим почтением поэт всегда говорит о высокой учености глубоко почитаемых ранних Отцов церкви – Иеронима, переводчика Библии, и Августина, автора знаменитого сочинения «О Граде божьем».
Наконец образованность диктует особый образ жизни. По словам Разума, в очередной раз цитирующего Цицерона, «для образованного человека жить значит мыслить» – vivere est cogitare. Такому образу жизни, равно как и манерам «великих людей и ученых мужей», похвально «подражать» при понимании, что подражание не должно быть слепым.
Для Петрарки-гуманиста базой такого образования, как показывают речи Разума, является римское наследие: латинский язык, само собой разумеется, довольно широкий круг поэтов и прозаиков, историков, философов, авторов естественнонаучных сочинений.
Еще отчетливее звучат такие речи во времена гуманистов-педагогов. Альберти полагает, что во всякой семье надо так воспитывать молодежь, чтобы с возрастом у нее прибавлялось знаний и учености. Он считает такое воспитание продолжением старинного доброго обычая.
Самое неожиданное – в пользу образованности высказываются во времена Альберти священники, например, знаменитый Доминичи. С этим хорошо известным монахом, важным лицом церкви – кардиналом – интересная история. Она приводит нас опять к семье Альберти и началу XV в. Молодой вдовой осталась Бартоломея дельи Альберти. Она попросила Доминичи дать подробные советы, как ей воспитывать сыновей. Тот откликнулся и написал большое, действительно подробное сочинение, к которому мы еще обратимся, но в данный момент – только в связи с взглядами Доминичи на образование. По его мнению, лучше всего воспитывать детей образованными и искусными. Он признает, что это трудно, но возможно, и они, получив хорошее образование и воспитание, обязательно попадут в рай. Конечно, у Доминичи свое, совсем не такое, как у Петрарки, представление о том, каким должно быть образование, что должны дети изучать, об этом пойдет речь в другом месте, сейчас важно увидеть одно: и для него образованный человек лучше, счастливее, чем богатый. Он повторяет эту фразу не один раз, добавляя, что образование принесет любые блага. Оно делает человека праведником, открывает дорогу к вечному блаженству души, утверждает Доминичи и осуждает невежество.
Место итальянского языка. В итальянской жизни, образовании, школе, университетах сошлись, как уже понятно, два языка: говорили все на разных диалектах итальянского, например, тосканском, венецианском, неаполитанском и др., читали и писали на тех же диалектах и на латинском. Мы еще будем разбираться, какой из языков и как изучался и использовался на разных этапах школьного обучения или в разных типах школ. Сейчас пока попытаемся понять, что нес с собой для культуры и образования формировавшийся литературный староитальянский язык. Здесь очень многое сделал Данте. Он даже написал специальное сочинение в защиту итальянского языка, доказал его красоту и силу в своей великой «Божественной комедии». Ее текст два с половиной века до изобретения книгопечатания переписывали по заказу, это стоило немалых денег. Выяснилось, что поэма была в домашних библиотеках не только богатейших знатных лиц, но и купцов, интеллектуалов, порою – и простых учителей. Боккаччо подарил собственноручно переписанный текст «Божественной комедии» своему старшему другу – Петрарке. Он сопроводил свой дар красивым стихотворным посланием на латинском языке, которое начинается строкой «Италии уже известен». Боккаччо же написал биографию Данте, прекрасный страстный текст, в котором утверждает, что Данте сделал для «народного» языка то же, что Гомер для греческого. Он заявляет о правильности выбора Данте в пользу этого языка для «Божественной комедии», потому что поэт приобщил к ней огромное число людей «необразованных», т. е. не умевших читать на латинском языке. В противном случае «Комедия» осталась бы доступной только «небольшому числу сограждан». А теперь она служит не только мужчинам, но и женщинам, и даже детям.
Дети, конечно, могли слышать о Данте в семье, заучивать некоторые строки его поэмы. Поразительный случай-анекдот, и не один, произошел с самим Данте. Как-то он услышал, что кузнец напевает строки из его поэмы «Божественная комедия», правда, по-своему, то укорачивая их, то удлиняя. Это значит, что популярность поэмы была практически всенародной, ее пели уже как народное произведение, не зная автора. В другом месте Данте слышал, как поэму поет погонщик ослов и добавляет собственные реплики. Поэта узнавали на улице: одна синьора таинственным шепотом сказала подругам, глядя на проходившего мимо Данте, что он побывал в аду и поэтому такой темнокожий и курчавый – от пламени. В Равенне у его гробницы ставили свечи, как перед изображениями святого.
Боккаччо и его «Декамерон» были также популярны. «Декамерон», написанный, как скромно говорит автор, «народным флорентийским языком, слогом простым и незатейливым», читала вся Италия. Как выявили итальянские специалисты, среди сохранившихся до наших дней рукописей «Декамерона» XIV в. больше двух третей являются собственностью торговых династий. Во Флоренции ими владели все члены банкирского дома Барди и еще не менее десятка подобных домов, а также состоятельные семьи в Венеции, Сиене, Ареццо, Неаполе. На полях рукописей попадаются следы расчетов по ссудам, записи о залоге этих книг и т. д. Многие добровольно переписывали, как свидетельствуют пометки, «для себя, для родных и друзей». Значит, произведения этих прославленных писателей тотчас становились частью городской культуры, городской среды.